Мэри Чабб
Здесь жила Нефертити
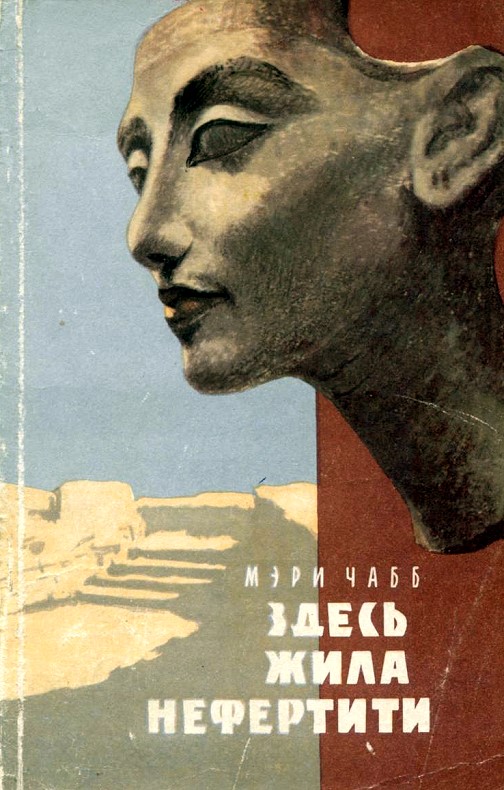
Издательство восточной литературы; 1961
Аннотация
Необычна историческая судьба древнеегипетской царицы Нефертити. Супруга фараона-реформатора Аменхотепа IV, называвшего себя впоследствии Эхнатоном, она была не только современницей, но и, по-видимому, активной участницей важнейших событий политической и культурной жизни Египта на рубеже XV и XIV вв. до н. э. Однако на протяжении тридцати трех веков ее имя было забыто. И даже после того как примерно полтора века назад в результате гениального открытия французского ученого Ф. Шампольона нам стали понятны древнеегипетские письмена, о ней упоминали довольно редко и обычно в трудах, предназначенных для сравнительно узкого круга специалистов.

Мэри Чабб
Здесь жила Нефертити
Предисловие
Необычна историческая судьба древнеегипетской царицы Нефертити. Супруга фараона-реформатора. Аменхотепа IV, называвшего себя впоследствии Эхнатоном, пока была не только современницей, но и, по-видимому, активной участницей важнейших событий политической к культурной жизни Египта на рубеже XV и XIV вв. до н. э. Однако на протяжении тридцати грех веков ее имя было забыто. И даже после того, как примерно полтора века назад в результате гениального открытия французского ученого Ф. Шампольона нам стали понятны древнеегипетские письмена, о ней упоминали довольно редко и обычно в трудах, предназначенных для сравнительно узкою круга специалистов.
Сейчас о Нефертити знают миллионы людей, весьма далеких от египтологии. И славой своей египетская царица обязана не собственной исторической роли, пусть немаловажной, а необыкновенно талантливому скульптору, о котором ничего неизвестно, за исключением, быть может, его имени. Он обессмертил Нефертити, создав удивительные по силе художественного воздействия и совершенству ее портреты. Сохранившиеся по воле случая, они были Найдены около полувека назад.
Для того чтобы понять, как это случилось, следует разобраться во многом. Каковы были причины, обусловившие реформы Эхнатона? Как они осуществлялись и почему оказались недолговечными? Что нового вызвали эти реформы в мировоззрении и искусстве древнего Египта? В чем их значение для истории человечества? Отчего, наконец, имя реформатора — «Проклятого из Ахетатона» (так впоследствии называли Эхнатона жрецы в своих надписях) предали забвению? Обо всем этом, правда, говорится в книге М. Чабб, но мимоходом, в отдельных репликах и замечаниях. Определения автора не всегда соответствуют истинному положению вещей, характеристики субъективны, в них порой больше эмоций, чем исторической истины.
В начале второй половины XVI в. до н. э. правившему в Фивах фараону Яхмосу I после десятилетий упорной борьбы удалось добиться окончательной победы над азиатскими племенами гиксосов, которые поработили Египет почти на полтора столетия. В этой долголетней войне он вновь объединил страну, распавшуюся в период социальных смут и господства иноземцев на отдельные области — номы. Тесня врагов. Яхмос I перешел северные рубежи своей страны, вступил в Южную Палестину и восстановил господство египтян в Северной Нубии. Так началась новая эпоха в истории долины Нила. Мы называем ее периодом Нового Царства. Фараоны-завоеватели XVIII династии: основатель ее Яхмос I, его сын Аменхотеп I, Тутмос 1 и особенно Тутмос III присоединяли к Египту все новые и новые земли. Более ста лет продолжались их победоносные завоевательные походы в Нубию, Палестину и Сирию. От четвертого порога Нила на юге до рубежей Малой Азии на севере на протяжении более трех тысяч километров тянулись владения фараонов. Им подчинялись нубийские вожди. Цари государств Сирии и Палестины, торговые города Финикии. И никто не мог сравниться с их могуществом: ни правителя хеттской державы, чье господство распространялось почти на всю Малую Азию, ни воинственное царство Митании, находившееся в долине Евфрата и его притоков.
Неисчислимые богатства стекались в сокровищницу фараонов: с юга, из Нубии, — золото и слоновая кость: с севера, с островов Крит и Кипр и покоренных городов Сирии и Палестины, — изделия искусных ремесленников, серебро, медь, драгоценные камни, лес, в первую очередь ливанские кедры. Сотни тысяч людей угоняли египтяне из завоеванных стран к себе на родину, обращая их в рабство. Грабительские походы обогащали фараона, знать и жрецов, которых царь щедро оделял, желая снискать расположение богов. Жрецы владели огромными в условиях Египта массивами земли, отдельными городами, сотнями деревень, десятками тысяч рабов. Апогея могущества Египет достиг при отце Эхнатона Аменхотепе III (1455–1419 гг. до н. э.). За четверть века правления ему почти не приходилось прибегать к оружию, чтобы поддерживать свой авторитет в покоренных странах. При нем сооружались великолепные храмы, воздвигались колоссальные статуи и обелиски, строились большие дворцы. Неслыханная роскошь окружала фараона и его близких. От них стремились не отставать придворные: сановники и вельможи с необыкновенной пышностью справлялись религиозные празднества, для чего жрецам отпускали огромные средства. От притока средств извне выигрывали и средние слои населения: зажиточные ремесленники и землевладельцы; первые получали выгодные заказы, вторые расширяли свои земельные наделы. И те и другие обогащались за счет дешевого труда рабов, число которых непрерывно пополнялось. Но, как и прежде, в бедности и нужде прозябала основная масса населения страны.
Ведь к прежним повинностям и тяготам прибавились новые. Непрестанные походы влекли за собой дополнительные налоги, отрывали мужчин от семей, от труда. При разделе добычи им доставалась ничтожная доля, и их семьи разорялись. Конечно, противоречия эти проявились не сразу, и Аменхотеп III не без основания мог считать себя сильнее всех царей соседних стран. Недаром царь Митании, грозный воитель Душратта, повергший в страх все Двуречье, писал ему льстивые письма, выпрашивая дары: «Пусть брат мой пришлет золото в очень большом количестве, без меры, и пусть он пришлет мне больше золота, нежели моему отцу, ибо в стране моего брата золото все равно, что пыль…»
В династической истории того времени многое остается неясным. Из документов, дошедших до нас, мало что удается узнать. Мы не можем даже с полной уверенностью утверждать, что Аменхотепу III в юности был уготован трон. Косвенным доказательством тому служит его брак с некой Тии — женщиной нецарской крови, которая в нарушение всех обычаев и традиции стала главной женой царя. Как известно, фараоны обычно женились на своих ближайших родственницах, чтобы сохранить чистоту крови». Наследниками престола объявлялись дети от этого брака.
Надписи на скарабеях — изображениях священных жуков, посвященных богу солнца, свидетельствуют, что Аменхотеп III считался со своей супругой больше, чем это было принято, и притом не только в семейных делах. Подобное пренебрежение к древним установлениям, естественно, вызвало неудовольствие советников фараона и жречества, т. е. тех кругов, которые обычно ближе всех стояли к царю. Они чувствовали себя обойденными.
Так как Аменхотеп IV был сыном Аменхотепа III от Тии, то неприязнь придворных кругов распространялась и на него Стареющий отец, но давнему обыкновению предков, назначил своего сына соправителем, а сам, возможно, почти отстранился от повседневных забот, связанных с управлением страной. Таким образом, к власти пришли ненавидимые знатью и жречеством Аменхотеп IV и Тии, к мнению которой, видимо, прислушивался и сын.
Но, конечно, в последующих политических событиях решающую роль играли не личные отношения между отдельными людьми или даже настроения тех или иных влиятельных группировок, а гораздо более серьезные и глубокие противоречия, причины которых следует искать в особенностях исторического развития страны.
Глава рабовладельческой деспотии — фараон представлял интересы крупнейших землевладельцев, т. е. знати и жрецов. Именно они больше всего были заинтересованы в грабительских походах. На них опирался фараон, считавшийся верховным собственникам всей страны и всего ее населения. Но в действительности верховные сановники, наиболее влиятельные полководцы и высшие круги жречества ограничивали его власть, причем силы жрецов основывалась не столько на богатстве, сколько на религии. Именно идеологическое влияние позволяло им играть важнейшую, в иных случаях даже решающую политическую роль в жизни страны. Фараоны не могли не считаться со знатью и жрецами и в первую очередь фиванскими. Но в то же время между ними шла, не ослабевая, то разгораясь, иногда скрытая, а иногда явная борьба за власть. Жрецы и старая поместная знать, из среды которой обычно выходили династии номархов, т, е. правителей отдельных областей — номов, стремились избавиться от опеки и контроля царя-деспота. Номархи были для царя тем более тягостны, что обычно они одновременно носили сии верховных жрецов местных богов. Таким образом, если фараон желал обезвредить своих политических противников, ему следовало в первую очередь лишить номархов их основной силы — идеологического влияния. На этом пути он неизбежно должен был вступить в конфликт с древними религиозными верованиями и традиционной теологической системой.
Но и другие причины, в которых он, конечно, не отдавал себе отчета, побуждали молодого царя Аменхотепа IV бороться с верованиями предков, Его предшественники на протяжении многих десятилетий создали огромную империю. По существу, это была первая «мировая» империя в истории человечества. Естественно, ей должна была соответствовать и идеология, которая в ту отдаленную эпоху, прежде всего, проявлялась в форме религии. Но древняя религия долины Нила с ее чисто египетскими характерными чертами, десятками местных богов и их очень сложной иерархией была непонятна и чужда населению завоеваниях стран.
Уже в первые годы после своего воцарения Аменхотеп IV вводит культ нового бога Атона, почитавшегося в образе солнечного диска. Впрочем, в этом изобретательность фараона была не так уж велика. Солнцу под именами Ра, Атум, Гор всегда поклонялись в Египте. В некоторых номах бог Солнца почитался как верховный бог, создатель всего сущего.
Свои реформы Аменхотеп IV проводил постепенно. Вначале культ Атона сосуществовал с культом старых богов, но Атону, верховным жрецом которого стал сам фараон, отдавалось предпочтение. В честь его воздвигали храмы и святилища, ему приносили обильные дары. Таким образом, жрецы других богов, привыкшие к богатым дарам и приношениям, чувствовали себя обойденными. Для того чтобы подорвать влияние знати, царь стал назначать на важнейшие должности и посты и приближать ко двору людей отнюдь не родовитых. Естественно, подобные мероприятия обостряли и без того далеко не дружелюбные отношения между фараоном и господствующими слоями.
На шестом году своего правления Аменхотеп IV решил раз и навсегда разделяться с оппозицией. Он объявил Атона единственным богом, культ других богов упразднил, закрыл их храмы и. вероятно, изгнал оттуда жрецов. Имена богов старательно стирались и соскабливались, особенно имя Атона, главного бога Фив, жрецов которого фараон не без основания причислял к своим злейшим врагам. Ненавистное слово «Амон» было изъято даже из собственного имени фараона, ибо Аменхотеп означает «Амон доволен». Отныне Аменхотеп IV называл себя Эхнатон — «Угодный Атону». Не желая оставаться в городе, бывшем оплотом его врагов, он покидает столицу своих предков и отправляется на север. Здесь, на прибрежной равнине, окруженной горами и открытой с запада со стороны Нила, в 450 км от Фив, Эхнатон повелел основать новую резиденцию Ахетатон — «Горизонт Атона». Эта местность по имени племени бедуинов Беки Амраи называется Тель-эль-Амарной. Поэтому Ахетатон теперь также называют Тель-эль-Амарной, а время правления Эхнатона — Амарнским периодом. С невероятной быстротой здесь был сооружен великолепный дворец, за ним — еще один, и затем в течение двух-трех лет вырос целый город с кварталами, застроенными богатыми домами и храмами, и трущобами, где теснились жалкие халупы бедняков, чьими руками создавался новый город.
Не приходится отрицать известную прогрессивность религиозной реформы Эхнатона. Ее универсализм соответствовал потребностям огромной державы, включавшей десятки племен и народов с различными верованиями, которых необходимо было сплотить и объединить. Такие попытки предпринимались и позже. Недаром через полтора тысячелетия римские императоры повсеместно насаждали культ своего гения. Культ Атона, введенный Эхнатоном, — первая засвидетельствованная историей монотеистическая религия, а монотеизм при существовавшем тогда уровне религиозных представления знаменовал новую, более высокую ступень в развитии сознания людей.
В первые годы правления Эхнатона положение Египта внешне оставалось неизменным: подвластные цари исправно посылали дань в царскую казну; безропотно трудились миллионы крестьян и рабов. Но так продолжалось недолго. В это время в Сирию из окрестных степей проникают коневые племена скотоводов — хабири. Некоторые ученые полагают, что они были предками евреев. Хабири не только разоряют сирийские города, но двигаются и дальше на запад, вплоть до богатых прибрежных торговых, городов Финикии. Правители одних городов радостно встречают пришельцев, видя в них союзников против египтян, правители других просят у фараона защиты от грабителей. Но тщетны мольбы. Эхнатон всецело занят внутренними распрями, ему не до сирийских князьков. Подобное положение, конечно, не могло долго оставаться тайной для хеттских царей, которые давно зарились на сирийские владения Египта, но не решались действовать, сознавая, что им не под силу тягаться с могущественным соседом.
Теперь хетты вторгаются в пограничные районы, захватывая город за городом. Более того, они поощряют хабири, суля им помощь и содействие. В результате в течение нескольких лет Эхатон лишается значительной части своих владений в Азии.
Военные и внешнеполитические неудачи еще более обостряли противоречия в самом Египте. Эхнатон восстановил против себя не только знать и жрецов. Но и средние слои населения, которые вначале его поддерживали, однако, ничего не выиграв от реформ, быстро в них разочаровались. Да и беспощадная расправа со старыми богами и их священнослужителями не могла нравиться Народу. Веру в них, закрепленную многовековой традицией, нельзя было искусственно уничтожить за несколько лет. Суровые меры фараона, которого поддерживали только немногие приверженцы нового учения и приближенные, вызывали недовольство и ропот. Вероотступничеством Эхнатона объяснялись я внешнеполитические осложнения. Таким образом, в последние годы своего правления фараон оказался почти в полном одиночестве. Видимо, он осознал это, ибо до нас дошли глухие намеки, что, в конце концов, ему пришлось отказаться от крутых мер и пойти на кое-какие уступки.
Что касается Нефертити, то она, по-видимому, была горячо предана новому культу. О причинах охлаждения между нею и ее царственным супругом (а оно, очевидно, наступило) нам судить трудно: источники об этом молчат. Во всяком случае, Нефертити поселилась отдельно от Эхнатона.
От Нефертити у фараона было шесть дочерей. Старшая — Меритатон была отдана в жены принцу царской крови Сменхкара, который должен был наследовать престол, но скончался еще совсем молодым при жизни тестя; вторая умерла ребенком; третья — Анхесенпаатон вышла замуж за другого принца — Тутанхамона — преемника Эхнатона, того самого Тутанхамона, чья гробница — единственное уцелевшее погребение египетского фараона — была открыта в 1922 г. английским археологом Г. Картером1. О судьбе младших дочерей ничего не известно.
О происхождении Сменхкара и Тутанхамона существуют различные предположения, Некоторые полагают, что они были сводными братьями фараона, иные — его сыновьями от других жен. Тутанхамон наследовал престол в возрасте двенадцати лет, а восемнадцати или девятнадцати уже скончался, Таким образом, он царствовал всего шесть лет. Однако за этот короткий срок в стране произошли значительные перемены. Именно при нем, пользуясь, видимо, малолетством царя, противники Эхнатона добились решительной победы. Постепенно был восстановлен культ старых богов. И так же, как незадолго до того преследовались их имена, теперь повсеместно уничтожалось имя Атона. Царя-еретика предали анафеме и даже старались не упоминать о нем. Двор перебрался в старую столицу — Фивы, и Ахетатон быстро опустел. Дома и дворцы, сооруженные им кирпича-сырца, скоро разрушились, развалины занесло песком, и там, где в течение пятнадцати — двадцати лет кипел оживленный многолюдный город, опять воцарилась тишина.
Так в общих чертах развивались события в течение этих бурных десятилетий. Подавляющее большинство фактов приходится восстанавливать по догадкам, так как дошедшие до нас немногочисленные скудные по содержанию источники чрезвычайно фрагментарны и очень о многом умалчивают. Но все же кое о чем мы можем судить с достаточной степенью достоверности, в частности, о характере внешней политики Эхнатона. Эхнатон отнюдь не был гуманным миротворцем, как его рисует автор книги. Отношение царя-еретика к покоренным странам было таким же, как и его предшественников, — он смотрел на них как на объект эксплуатации. И если при нем прекратились завоевательные походы и египетские полчища не вторгались в Сирию, чтобы отразить хабири или принудить к покорности строптивых правителей отдельных городов, чинивших козни и прекративших выплату дани, то только потому, что у него не было для этого возможностей. Внутренние распри отнимали все помыслы, силы и средства царя.
Весьма сомнительны также приводимые М. Чабб якобы со слов других археологов теории и предположения о политических событиях последних лет правления Эхнатона и подробности о его разногласиях с Нефертити. И уж, конечно, никак нельзя согласиться с утверждением, что оба они стремились «жить ради красоты, правды и справедливости. Это идеалистическое осмысление фактов полностью противоречит даже тому немногому, что известно об Эхнатоне, который весьма энергично расправлялся со своими противниками. Что касается его эстетических взглядов, то на них следует остановиться подробнее.
Попытка «Проклятого из Ахетатона» реформировать старую религию вызвала существенные изменения и в других областях идеологии, в особенности в изобразительном искусстве. Ведь в древности, в частности в Египте, оно в первую очередь служило потребностям культа. Как известно, из всех форм идеологии религия — самая консервативная. А идеология древнего Египта, как и вообще египетскому обществу, была присуща известная застойность. Это объясняется медлительностью развития производительных сил и связанных с ними производственных отношений.
Вот почему египетским скульпторам, художникам и архитекторам приходилось придерживаться раз и навсегда установленных строго определенных канонов и традиции. Конечно, и они создавали замечательные произведения, одушевленные подлинным реализмом, но необходимость следовать известному шаблону сковывала их индивидуальность и творческие искания. Так как прикладное искусство, обслуживающее повседневные нужды, было значительно меньше связано с потребностями культа, в этой области художники чувствовали себя свободнее. Поэтому произведения прикладного искусства значительно более реалистичны, жизненны и динамичны.
Политика Эхнатона, направленная против старой религии и связанного с нею искусства, отметала Прежние поддерживаемые жречеством эстетические нормы. Таким образом, создались благоприятные условия для развития реалистических тенденций, особенно ярко проступавших в прикладном искусстве, основным массовым потребителем которого были средние слои населения. Именно на них опирался Эхнатон в своей борьбе со жречеством и знатью. Выходцев из этой среды он приближал ко двору, наделяя их титулами и богатством.
Ваятели и живописцы нового направления в искусстве, получившего и науке название «Амарнское», перестают идеализировать образ фараона. Более того, они стремятся показать его и близких ему людей такими, какими они были в действительности. Черты реализма в их творчестве, которые прежде проявлялись главным образом в портретной скульптуре и фресках, представляющих сцены повседневной жизни, становятся Особенно заметными. Художники даже иногда впадают в гротеск. Некоторые дошедшие до нас изображения Эхнатона, Нефертити и их дочерей меньше всего могут служить основанием для того, чтобы заподозрить придворных художников я желании польстить им. Царская семья кажется даже уродливой: удлиненные дегенеративные черепа, массивные выступающие подбородки, отвислые животы, тонкие, худосочные руки и ноги. С любовью выписывается пейзаж, который раньше рассматривался только как фон и намечался иногда схематически, Художники умело передают движения птиц и животных и с необыкновенным вкусом подбирают красочную гамму, отдавая предпочтение мягким, нежным тонам. Их приклепают теперь не только огромные рельефы и фрески, обычно передающие один и тот же сюжет — царь повергает в прах своих врагов, но и сцены интимной жизни. Позы тех, кого художники изображают, становятся более жизненными и грациозными. Сухие, строгие очертания уступают место плавным и гармоничным линиям, подчеркивается изящество и непринужденность позы, в то время как раньше стремились передать силу и величие.
Вдохновленные новыми веяниями, требовавшими прежде все-то простоты, естественности, жизненности, мастера Амарнской школы создали такие шедевры, которые безоговорочно, сразу же после того как их обнаружили, были причислены к наиболее выдающимся произведениям мирового искусства. Ведь известный теперь всему миру бюст царицы Нефертити был найден только накануне первой мировой войны, т. е. менее пятидесяти лет назад. Этот бюст, как и ряд других, ничуть не уступающих ему по художественному совершенству произведений, археологи обнаружили в развалинах мастерской скульптора. Как знали ее владельца, одни ли он изваял голову Нефертити и портреты ее дочерей под его руководством творили несколько художников — неизвестно. На одном из предметов имелась надпись: «Начальник скульпторов Тутмос». Поэтому мастерская условно названа его именем, но, повторяем, нет никакой уверенности в том, что именно Тутмос был тем ваятелем, который создал эти гениальные произведения. Впрочем, мы больше Ничего не знаем и о нем. Но кто бы ни был неизвестный мастер — он обессмертил Нефертити, точно так же, как Леонардо да Винчи обессмертил Джоконду. Именно благодаря таланту и художественному чутью этого скульптора и мастерству десятков и сотен других художников, чутко отозвавшиеся на эстетические запросы современников, а отнюдь не личным вкусам и указаниям Эхнатона, или «лучших людей», как утверждает М. Чабб, были созданы удивительные произведения искусства Амарны.
В равной степени ошибочно полагать, доверившись мнению автора, что Амарнское искусство возникло под влиянием искусства Крита. Конечно, не приходится отрицать оживленные сношения, которые существовали в ту эпоху между Критом и Египтом. Критские ремесленники и художники могли работать и, вероятно, работали в долине Нила, как и их египетские коллеги на Крите, и, возможно, последние кое-что позаимствовали. Но именно «кое-что». Искусство Амарны слишком самобытно и Неотделимо от всей многовековой египетской культуры и ее традиций. Объяснять его возникновение влиянием искусства Крита не только антиисторично, но и просто неверно, так как это противоречит очевидным фактам.
Следует предупредить читателя и о некоторых других недостатках, присущих настоящей книге, и, по меньшей мере, о спорных утверждениях ее автора, проявляющего полную беспомощность, когда речь идет об интерпретации исторических фактов. Объяснится это, конечно, не только тем, что М. Чабб не является специалистом, археологом или историком. То, что она восприняла самостоятельно или с помощью своих друзей, излагается ею с чисто идеалистических позиций. Некоторые примеры были уже приведены. Можно привести и другие, не менее убедительные. Так, М. Чабб полагает, что все изменения и политической жизни страны в а области идеологии порождены только волеизъявлением Эхнатона или Нефертити. Только на них сосредоточено все внимание автора. О народе, его положении, труде, чаяниях и стремлениях почти не упоминается. Естественно поэтому, что М. Чабб не может вскрыть причины, породившие реформы царя-еретика, и правильно охарактеризовать их.
Но вместе с тем эта книга не лишена многих существенных достоинств. Они позволяют рекомендовать ее широким кругам советских читателей, интересующихся великой древней цивилизацией долины Нила и трудом людей, которые пытаются восстановить былое великолепие страны пирамид.
Попавшая в среду египтологов случайно, в поисках заработка, М. Чабб как художник не могла не поддаться чарам искусства древнего Египта. Она не только чувствует красоту природы и памятников старины, но в ярких, красочных описаниях очень живо и образно передает свои впечатления и ощущения. При этом ей никогда не изменяет тонкий английский юмор, а наблюдательность позволяет подмечать и зарисовывать такие мелочи быта и труда археологов, которые обычно опускаются при описаниях раскопок.
В отличие от подавляющего большинства буржуазных очеркистов, пишущих о раскопках. М. Чабб отдает должное умению и сноровке местных рабочих, от которых в значительной степени зависит успех проводимых исследований. Она с большой симпатией относится к этим простым людям, прямым потомкам и наследникам древних египтян, сохранившим великолепное народное искусство танца и пантомимы своих далеких предков. Им противопоставляется молодой американец Джордж. Этот бездельник приютился на пару недель в экспедиции до очередного денежного перевода от отца, чтобы сэкономить несколько десятков долларов. Ради денег он не постеснялся поставить в неловкое положение гостеприимно встретивших его коллег-англичан. М. Чабб с горьким юмором отмечает, что такие люди «не могут быть друзьями».
Раскопками, в которых участвовала М. Чабб, руководил талантливый английский археолог Джон Пендльбери, завоевавший, несмотря на свою молодость, значительный авторитет среди ученых, занимающихся археологией Египта и Крита.
«Фонд исследования Египта» (Egypt Exploration Fund) на протяжении пятнадцати лет (с 1921 по 1936) ежегодно посылал экспедиции в Тель-эль-Амарну. Д. Пендльбери возглавлял их в течение последних шести-семи лет. Несмотря на то, что около половины территории города осталось еще не раскопанной, работы были прекращены. Здесь, в неизученной части столицы Эхнатона, будущих исследователей, без сомнения, еще ожидают многие ценные находки. Почему же не завершены раскопки Ахетатона? На этот вопрос ответить нетрудно. В капиталистическом обществе обычно вниманием пользуются те отрасли науки, которые могут быстро и с гарантией принести доходы. Археология же не всегда оправдывала подобные надежды. Поэтому ею занимаются обычно немногие энтузиасты и некоторые богатые любители, а средства на ведение работ добываются при помощи частной благотворительности или просьбами о дотациях от различных учреждений и «Фондов», которыми обычно распоряжаются частные лица или «высокопоставленные особы». Отсюда погоня за сенсационными находками, долженствующими привлечь внимание тех, кто может подписать чек на более или менее крупную сумму. М. Чабб прямо пишет об этом и превосходно передает не покидающее археологов ощущение неуверенности в завтрашнем дне. Вот почему они часто вынуждены работать не там, где этого требуют интересы науки, а в таких местах, где могут быть найдены внешне эффектные, но малозначительные для восстановления прошлого предметы. Автор правильно подчеркивает, что для египтолога-ученого обнаруженный в развалинах дома клад почти никакого интереса не представляет.
Некоторые археологи даже иногда скрывали от контроля «Службы древностей»2 наиболее интересные находки, проявляя при этом явную недобросовестность и лишая египетский народ его иконного достояния. Можно сослаться хотя бы на то, как был выведен из Египта в Берлин знаменитый бюст царицы Нефертити.
Накануне первой мировой войны, в 1914 г. немецкая экспедиция закончила раскопки в Тель-эль-Амарне. Все находки и описи были представлены инспекторам «Службы древностей» для обычной проверки. Среди предметов, выделенных для немецких музеев, находился ничем не примечательный оштукатуренный каменный блок. Когда его привезли я Берлин, он превратился в голову Нефертити. Рассказывают, будто археологи, не желавшие расстаться со столь замечательным произведением искусства, обернули голову серебряной бумагой, а затем покрыли гипсом, правильно рассчитав, что незаметная архитектурная деталь не привлечет внимания. Когда это обнаружилось, разгорелся огромный скандал. Его затушила только начавшаяся война, после окончания которой немецких египтологов на некоторое время лишили права производить раскопки в Египте3. Однако эта скульптура и до сих пор хранится в ФРГ. В книге есть эпизод, отдаленно напоминающий этот. Инспектор «Службы древностей», англичанин, помогает вывезти из Египта одну из наиболее ценных находок экспедиции — головку дочери Эхнатона, которая по праву должна была бы храниться в Египте.
Но, конечно, не только в этих, правда, очень любопытных фактах заключается ценность книги М. Чабб. В легкой и доступной фирме она дает Общее представление о чрезвычайно важном периоде многовековой истории древнего Египта. Автора вдохновляла подлинная любовь к его великой цивилизации и изумительному искусству, доставляющему нам и поныне огромное эстетическое наслаждение, в своей книге он передает это чувство и тем, кто интересуется далеким прошлым человечества.
И. С. Кацнельсон
Глава первая
Крышка ящика тяжело упала на пол; упало и мое настроение. Вряд ли кто-нибудь сможет назвать мне более унылое и мрачное место, чем полуподвал этого большого, напоминающего по форме букву «Т», жилого дома в Блюмсберри.
Я примостилась на краю упаковочного ящика и, отвернувшись от затхлых свитков бумаг, которые мне было поручено просмотреть, пристально глядела на улицу через маленькое закоптелое окошко. Там, наверху, из туманной белизны сыпал дождь; его брызги, отлетая от невидимого тротуара, настигали торопливо шлепающие бесформенные ноги, мелькавшие перед моими глазами; крупные капли стекали с ограды. Я знала, что сегодня из-за дождливой погоды час ленча не принесет мне облегчения: к обычным ароматам капусты, сыра и рыбы добавится густой запах сырых макинтошей.
Полуподвал в Блюмсберри служил кладовой конторы научного Общества, посылавшего в Египет археологические экспедиции. Результаты раскопок публиковались в серии скучнейших и выспренних изданий. На верхнем этаже, где некогда находилась пышная гостиная в викторианском стиле4, теперь разместилась контора Общества5 с огромной двойной дверью и зал заседаний Комитета — очень большая и нарядная комната, дальнюю стену которой почти всю занимало окно, а боковые стены — обширная библиотека и высокие стеллажи с альбомами, содержавшими сотни фотографий и диапозитивов.
Здесь, внизу, где я сидела, предаваясь грустным размышлениям, раньше была кухня, и мне казалось, что сейчас за моей спиной, в этом мрачном, старом полуподвале суетились тени неугомонных мальчишек-слуг и судомоек. Там, где когда-то в раскаленной топке плиты с треском пылал яркий огонь и кухонный персонал трудился в поте лица над отменными кушаньями, которые затем уносили наверх по крутой витой лестнице, все покрылось пылью и ржавчиной и погрузилось в уныние. Старая плита была завалена деревянными ящиками, заполненными изданиями и ежегодными отчетами Общества. Напротив, в кухонном шкафу, где раньше сверкали, отражая пламя очага, начищенные до блеска блюда, тарелки и соусники, сейчас возвышались сложенные рядами, покрытые толстым слоем пыли коричневые квадратные пакеты с потемневшими этикетками.
«Оксиринхские папирусы» — с трудом можно было прочитать неясную надпись на верхней полке. Почетное место, принадлежавшее прежде огромной суповой миске, занимали теперь «Новые притчи Иисуса и фрагменты из Утраченного Евангелия»6. Ящики кухонного стола, в которых некогда хранилось столовое белье, сверкающее серебро, а иной раз и случайная дерзкая записка молочника, адресованная младшей горничной, с предложением отправиться в ближайший субботний вечер в Холборн Эмпаир, теперь до отказа были набиты черепками египетской глиняной посуды, бусинами, бракованными снимками, частями фотографических аппаратов и землемерных инструментов, блокнотами и картами.
Я поступила сюда год назад. Тогда я находилась во власти только что освоенных кудряво-витиеватых стенографических знаков и радовалась тому, что мне удалось получить должность помощника секретаря этого Общества. Это была моя первая работа.
Раньше все канцелярские дела Общества вел один человек, женщина доброй души. В те дни присутствие женщины-секретаря и в конторе от десяти до четырех часов дня было более чем достаточно, чтобы справиться со всей работой Общества. Общество было малочисленным, Комитет состоял из пожилых, учтивых людей; небольшие экспедиции, выезжавшие иногда на зиму в Египет, возвращались весной, члены экспедиций не торопясь готовили отчеты о результатах своей поездки и представляли их секретарю и Комитету.
Но все изменилось после того, как в 1922 году была обнаружена гробница Тутанхамона. Сведения о раскопках в Египте приобрели характер сенсационных сообщений на первых полосах газет. Общество заметно расширилось, пополнившись сотнями новых членов. Некоторые из них впервые по-настоящему заинтересовались египтологией, и их интерес к ней не угас и в дальнейшем. Однако для многих это было поверхностным и временным увлечением: значительное и неожиданное открытие, трогательные реликвии — доспехи, трости и охотничьи принадлежности — свидетели того, как более трех тысяч лет назад оборвалась молодая жизнь, — поразили их воображение.
Возбуждение, вызванное сенсацией, скоро улеглось. Все те, кому вскружил голову блеск золота и драгоценностей на цветных иллюстрациях, стали спрашивать себя: а стоит ли и дальше уделять ежегодно две гинеи на членские взносы научному Обществу? Тем не менее, оживление деятельности Общества, связанное с интересной находкой, продолжалось. Состав Комитета изменился, вокруг стола заседали теперь более молодые и, возможно, более энергичные люди, которые настаивали на расширении раскопок.
К началу тридцатых годов количество взносов неуклонно, хотя и медленно, таяло, а число экспедиций увеличивалось. Денег требовалось все больше и больше, взять же их было негде.
Секретарша старела, однако, чтобы справиться с уймой новой работы, ей следовало теперь уделять канцелярии значительно больше времени, чем ей полагалось официально. Молодые люди не давали секретарше покоя. Возвращаясь из экспедиции, они бросали на стол отчеты, счета и снимки, а сами удалялись домой готовить к публикации собранные материалы. Они надеялись, что она тем временем, не беспокоя их дополнительными вопросами, приведет в порядок всю техническую часть их работы. Постепенно в Комитете поняли, что секретарше нужна помощь, и было решено, несмотря на неустойчивое финансовое положение, ввести дополнительную штатную должность помощника секретаря, которая не досталась мне.
Я уверена, что из всех когда-либо переступавших порог научного Общества никто не знал о Египте меньше, чем я. Однако мое невежество не служило мне помехой в работе. Было невероятно, чтобы младшему сотруднику лондонской канцелярии когда-либо пришлось поехать в Египет, да и в самой канцелярии ничто не возбуждало подобного желания. На стенах висело несколько приятных, но мало трогавших акварелей с изображением Нила и множество фотографических снимков раскопок. Вид этих снимков, серых и плоских, мог охладить пыл человека, даже проявившего горячий интерес к египтологии, а его-то у меня и не было.
Единственное, чего мне по-настоящему хотелось, это иметь работу. Мне казалось, я могла бы выполнять любую скучную работу днем, только бы иметь возможность каждый вечер подходить к двери с дощечкой «Скульптура и лепка» Центрального училища искусств и художественного ремесла в Кинтсуэе. Но я ошиблась. Проработав год в научном Обществе, игнорируя все то, чему могла бы там научиться, я сидела теперь на краю упаковочного ящика, сознавая, что так больше продолжаться не может.
Моя добрая начальница не имела ни малейшего представления, как приспособить меня к работе. С первой же минуты, когда мы стояли, разделенные канцелярским столом, вежливо улыбаясь, она — высокая, с серебристыми седыми волосами и все же еще недостаточно уверенная в себе, и я. Как ей казалось, невежественная и дерзкая, — мы не сумели понять друг друга. Она была очень занята, но никогда не поручала мне ничего, что по-настоящему облегчило бы ее труд, и я так и не поняла почему.
Секретарша пыталась справиться одна с уймой запутанных канцелярских дел, и я теряла попусту время. Незначительную, не требующую никаких усилий работу, которую мне иногда давали, мог легко выполнить любой мальчишка на побегушках. Меня мучила совесть, что я даром получала деньги. Тут была доля и моей вины, ведь я не просила свою начальницу поручить мне более серьезное дело. Если бы я приступила к работе, стремясь приобрести знания по египтологии, все было бы по-другому. Короче говоря, дело обстояло так: секретарша не хотела или не могла доверить мне сколько-нибудь ответственную работу, а я, испытывая неизбежную скуку, плохо и с трудом выполняла даже мелкие поручения.
Итак, в это холодное дождливое утро я сидела в мрачном полуподвале, не зная, что предпринять. Как долго смогу я выдержать здесь? Да и следует ли к этому стремиться? Я поднялась. И зачем, бог знает как давно, меня послали сюда? — пыталась я вспомнить. Ах да, мне нужно было отыскать в большом ящике рисунок с изображением Фиванской гробницы, понадобившийся для одного из изданий.
Крышка была снята. Я стала вытаскивать один за другим запыленные, твердые рулоны ватмана. Видимо, их давно никто не тревожил — они оказывали упорное сопротивление любой попытке выпрямить их.
Наконец, почти на самом дне ящика я нашла нужный рисунок. Там было еще что-то твердое, завернутое в пыльный холст. Развернув холст, я увидела какой-то предмет с гладкой поверхностью, на которой сквозь толстый слой пыли еле-еле проступал узор. Я лениво провела пальцем по поверхности и замерла в изумлении. Так бывает, когда вы внезапно обнаруживаете потайное гнездо завирушки. Раздвинув листву старой, запыленной ветви плюща в тенистой роще, вы сначала не видите ничего, кроме серо-зеленых листьев и почерневшего дерева. И вдруг вы приподнимаете еще один лист — вот гнездо перед вами. В нем четыре яйца — теплые, отливающие мягкой, как шелк, голубизной, слегка светящиеся в своей изящной колыбели. Я вспомнила о них, увидев этот необыкновенный красочный предмет. Поднеся его к свету, я тщательно стерла пыль. Это был всего лишь кусочек глазурованного изразца, но в этот момент душевного уныния он неожиданно затронул во мне какую-то струну. Его фон имел необычный голубой оттенок, а плотный слой глазури придавал ему свойственный скорлупе блеск. На этом фоне вырисовывались три лотоса, тонкие вьющиеся стебельки которых были достаточно прочны, чтобы удержать чашечки цветков, слегка окрашенные в сиреневый цвет, покоившиеся внутри нежно-зеленых веерообразных околоцветников.
Когда я перевернула изразец, несколько крупинок чистого золотистого песка скользнули по моим пальцам. Египетский песок. Я держала в руке предмет, к которому едва ли кто прикасался с того момента, когда много лет назад он был найден в Египте, предмет, возможно, все еще хранивший отпечатки пальцев не только нашедшего, но и создавшего его человека. Ни фотографии чудесных драгоценностей и скульптур, столь хорошо известные мне, ни самые совершенные произведения древности, хранящиеся за стеклянными витринами музеев, никогда не волновали меня так, как эта маленькая запыленная, шероховатая по краям, очаровательная вещица, лежавшая на моей ладони.
Внезапно меня охватило огромное желание как можно больше узнать о тех местах, откуда был привезен этот изразец, о том, кто его создал и какие предметы видел этот человек, когда поднимал голову, отрываясь от работы. Моей осведомленности хватило, чтобы по характеру узора на изразце определить, что он доставлен из Тель-эль-Амарны, где и сейчас работала одна из наших экспедиций. Тель-эль-Амарна — это название ассоциировалось у меня с грудой руин где-то на восточном берегу Нила, где жил когда-то Тутанхамон и… ну да, конечно, в отношении нее я уверена… Нефертити со своим странным супругом фараоном Аменхотепом IV, имевшим второе такое необычное имя — Эхнатон. Тогда я ничего не знала ни о той роли, которую сыграла Тель-эль-Амарна в истории Египта, ни о целях проводившихся там раскопок.
Я снова взглянула на изразец: казалось, слабый ветерок чуть шевелил три цветка, и они медленно раскрывались навстречу чудесному дню с его горячим солнцем и ярко-голубым небом. Я любовалась мертвой красотой изразца, и предо мной впервые возник живой и осязаемый облик древнего Египта — я почувствовала, что, сколько бы о нем потом не узнала, он никогда не будет для меня ближе, чем в это мгновение.
Вряд ли кто-либо из тех, кто сейчас настойчиво и неутомимо трудится в Египте, побуждаемый властной силой, мог бы сказать: «Я увидел красивую вещицу, сделанную руками древнего египтянина, и этого было достаточно, чтобы вопрос о профессии оказался для меня решенным». И все-таки когда-нибудь даже незначительный эпизод затронул в нем ту же струну, что и во мне, и ему не оставалось ничего иного, как, перенесясь в прошлое, терпеливо доискиваться истины.
Положив кусочек изразца на прежнее место и погасив тусклый свет, я стала ощупью пробираться вверх по лестнице. Сквозь веерообразное оконце над входной дверью я увидела небо, еще более темное, чем раньше, и стремительно падавшие, гонимые ветром хлопья мокрого снега. Но мне день не казался уже таким удручающе мрачным. Поднявшись в контору, я вручила секретарше рисунок. Она сказала своим обычным ласковым тоном: «Вы отсутствовали довольно долго, но, я полагаю, его трудно было разыскать. Просмотрите только что доставленную почту».
Там оказался последний отчет из Тель-эль-Амарны, и мне было поручено немедленно перепечатать его. Отчет был длинный, плохо поддавался расшифровке и имел такой вид, как будто его писали на спине идущего верблюда. Сначала в нем говорилось о расчистке нескольких домов. Затем следовал перечень из найденных предметов. Прежде всего, я обнаружила описание ожерелья, начинавшееся так: «Ожерелье из фаянса состоит из двух разноцветных низок, имеющих форму лотосов».
С трудом расставив буквы по местам, я, наконец, обнаружила сведения о находке:
«На ожерелье имеется шесть рядов узоров по фаянсу:
1 ряд мелких васильков зеленого и голубого тонов:
1 ряд маковых листьев:
1 ряд виноградных кистей голубого цвета;
1 ряд белых цветочных лепестков на желтом фоне и длинных голубых васильков на зеленых стебельках:
1 ряд фиников; 2 красных. 1 зеленый, 2 голубых. 1 зеленый. 2 красных и т. д.
1 ряд лепестков лотоса с голубыми кончиками».
Лепестки лотоса с голубыми кончиками… Прервав работу, я посмотрела через стол на секретаршу. В комнате было очень тихо. Я глубоко вздохнула:
— Начальникам участков не следовало бы тратить время на составление этих отчетов. Подобной работой мог бы заниматься кто-нибудь из экспедиции.
— Это значительно облегчило бы и нашу работу, — сказала секретарша, безнадежно смотря на какой-то арабский текст, который она держала вверх ногами. — Но у нас нет средств на дополнительную штатную единицу.
— Но ведь можно послать кого-нибудь из сотрудников.
Подняв голову, она взглянула на меня.
— Что вы имеете в виду?
— Я полагаю, что кто-либо, ну, предположим, даже я, мог бы поехать с экспедицией в Тель-эль-Амарну и там, на месте, привести в порядок все необходимые нам данные и, что еще важнее, сведения о самих раскопках. Это сберегло бы уйму времени как там, так и здесь. В результате все бы выиграли.
— Интересно, что скажет по этому поводу Комитет, — медленно произнесла секретарша.
Глава вторая
Комитет размышлял до октября, а затем внезапно решил, что это хорошая идея. В ноябре в Тель-эль-Амарну отправлялась новая экспедиция, и я была включена в ее состав в качестве секретаря. Обычно с этим словом связывается представление о стройном создании из Голливуда, в белоснежном туалете, которое безмятежно стучит на машинке в прохладной канцелярии, в то время как обливающиеся потом египтологи с бронзовой от загара кожей изнывают от пыли и зноя. Мой рассказ — не для голливудского сценария. Это — история, основанная на жизненных фактах. В ней повествуется о том, как на долю не очень изящной и отнюдь не изнеженной секретарши выпало немало трудностей. Она, возможно, испугалась бы, если бы могла заранее предвидеть, что ей придется быть не только секретарем, но и штукатуром, химиком, медсестрой, чертежницей, археологом, реставратором древностей, плотником и в первую очередь дипломатом…
В тот туманный октябрьский вечер, когда я узнала, что мне предстоит отправиться с экспедицией в Тель-эль-Амарну, я не имела ни малейшего представления о том, что меня ожидает, но это меня нисколько не тревожило.
Значительно позднее, чем обычно, я направилась в Училище искусств и художественного ремесла; мной овладели странные, противоречивые чувства. Прошли уже месяцы с того дня, когда мне страстно захотелось во что бы то ни стало попасть в Египет, и это желание не ослабевало до тех пор, пока его осуществление казалось невозможным. Теперь же, когда моя мечта сбылась, меня охватило тревожное беспокойство. Прежде всего, я не была знакома с остальными членами экспедиции, и мне предстояло работать в глуши Египта с людьми, которых я едва знали в лицо.
— Однако это не так уж плохо, — размышляла я, медленно шагай по тротуару, покрытому плотным слоем платановых листьев. — Я люблю людей, и мне нравится открывать в них новые, неожиданные черты. А вот покинуть Блюмсберри поздней осенью — в самую лучшую его пору! Кажется, я уже ощущаю тоску по дому. Если ваши самые ранние воспоминания связаны с внезапным появлением багрово-оранжевого утреннего солнца, немигающий диск которого смутно вырисовывается в ноябрьском тумане, или с катанием на катке вдоль залитой золотом Гилфорд Стрит, Блюмсберри будет настойчиво притягивать вас к себе даже в самую отвратительную погоду.
Все эти мысли утратили остроту, когда я вышла на площадь Рассела. Огни только что зажглись, и серое, сумеречное небо неожиданно приобрело темно-пурпурную окраску, а деревья, залитые светом пыльных уличных фонарей, стали золотисто-коричневыми. Отсюда, с дальнего конца Саутгемптонского ряда, я видела, как в окнах Центрального училища начали зажигаться огни. И вдруг мне пришло в голову, что придется бросить класс лепки! Неделю назад я начала лепить фигуру девушки, а когда вернусь, будет, несомненно, другая натурщица и в иной позе, так что продолжать сейчас работу бессмысленно. Мне захотелось знать, как отнесется к моей поездке заведующий скульптурным отделением Альфред Тернер. В течение года, проверял мои работы, он порой издавал звуки, которые, пожалуй, можно было принять за одобрение.
Выйдя на Теобальд Руд (именуемый нами, уроженцами Блюмсберри, Тибблз Руд) и подождав, пока трамвай, подобно кролику, нырнул в свой садок — Кингсуэй, я перешла через дорогу. Впереди меня поспешно шла молодая женщина в отвратительной, надвинутой на уши, маленькой шляпке, плохом коричневом пальто и в ненатянутых, гармошкой чулках. У нее была неуклюжая походка. Мы вместе поднялись по наружной лестнице, ведущей в училище, и тут я, едва веря своим глазам, узнала в ней натурщицу, позировавшую для класса живой натуры. Сейчас она ничем не выделялась среди этой серой толпы людей, суетливо спешивших с работы к своим маленьким очагам, но я-то знала, что эта бесформенная, уродливая одежда и скованная походка безжалостно скрывают совершенные пропорции и изящные линии прекрасного тела. Кто знает, какая неожиданная красота таится под серой и коричневой одеждой этих кажущихся горбатыми бесцветных мужчин и женщин, которые снуют сейчас по тротуару? Я вдруг почувствовала, как мне повезло, что я уезжаю отсюда, где люди слишком переутомлены, чтобы выпрямить спину, и слишком перегружены работой, чтобы думать о веселых и нарядных платьях.
Поднявшись на верхний этаж, я сняла прорезиненный чехол с незаконченной фигуры из глины. Это был самый подходящий момент для оценки своей работы, так как глаз еще не успел привыкнуть к каким-либо структурным неправильностям. Отступив назад, я взглянула на фигуру. Художественное чутье настойчиво подсказывало мне, что даже в таком неотделанном виде в ней уже ощущались эластичность и жизненность, чего так недоставало в моих более ранних работах.
— Хорошее начало, — тихо сказал за моей спиной Альфред Тернер.
Я резко повернулась, чувствуя себя очень несчастной. Теперь я не сомневалась, что делаю глупость, уезжая в Египет. Изложив свои планы Тернеру, я ожидала встретить с его стороны в лучшем случае вежливое безразличие.
— Вы держитесь за жизнь обеими руками, — сказал, он, наконец, — и ваша лепка от этого не пострадает. У вас достаточно знаний, чтобы продолжать лепить мысленно, и если даже в течение нескольких месяцев вы ни разу не притронетесь к глине, то, возвратясь, вы станете лепить лучше. Изучайте внимательно все скульптуры там, на месте, присматривайтесь к местности, наблюдайте за людьми. Мне бы самому хотелось, хоть раз увидеть египетскую скульптуру на ее родине, а не в музее.
Я вернулась к подставке и исступленно работала до половины десятого. Затем натурщица сошла со своего помоста, и сосредоточенное молчание студентов внезапно нарушилось: все принялись смачивать чехлы и натягивать их на свою работу. Тут только я вспомнила, что уже более восьми часов ничего не ела.
Ну и денек. Меня потянуло в мою тихую комнатку. В центре Лондона можно найти уголок, в котором царит такая глубокая ночная тишина, какую вы не найдете во всей стране.
Дворники еще не приступили к уборке, и на тротуарах и в канавах валялись выметенные из уже запертых лавок обрывки газет, капустные листья, луковая шелуха, солома. Я направилась к магазину на углу, который обычно был открыт далеко за полночь. В нем торговали брат и сестра, оба с круглыми белыми лицами и в круглых белых передниках. Магазин сверкал чистотой и распространял приятный аромат — странную смесь запахов сыра, специй, рассолов и опилок. С новыми покупателями хозяева обращались как с приезжими с континента: «Немного р-русского салата для мадам, не так ли?» Однако по мере того как завязывались дружеские отношения, они постепенно переходили на естественный тон; так что в этот вечер я, покупательница с годовым стажем, была встречена веселым приветствием: «Алло, дорогая, что вам?»
Наконец-то я добралась до тускло освещенного верхнего этажа дома в Картрайт Гарденс, где снимала комнату с окнами во двор. Уже было около одиннадцати часов, когда я приступила к своему роскошному, но непрактичному ужину. Мне все еще не верилось: неужели действительно через три недели я покину Лондон?
Спустя три недели, охваченная паническим страхом и в то же время радостно возбужденная, я следила за тем, как южное предместье Лондона, постепенно редея, переходило в Кентские поля. Колеса речного судна великолепно отбивали такт какой-то старой песни из репертуара мюзик-холла. «Зачем я покинул мою каморку, что смотрит на Блюмсберри?» — звучали у меня в ушах ритмические слова.
Глава третья
Судно взметнулось и, тяжело вздохнув, осело, сильно накренившись набок. Этот нелепый спектакль под безоблачным небом продолжался бесконечно. Море было довольно бурным — бушующая темная масса, местами переливаясь белыми пятнами, металась из стороны в сторону.
Надежда на то, что члены нашей экспедиции по пути из Венеции в Александрию смогут ближе познакомиться и поговорить о предстоящей работе, не оправдалась. Трое из них, уединившись в своих каютах, не проявляли ни малейшего интереса ни друг к другу, ни к предстоящей работе.
В Венеции, которую мы покинули два дня назад, я встретилась с двумя архитекторами — членами нашей экспедиции. Сидя в приморской гостинице за тарелками, полными спагетти7, мы настороженно разглядывали друг друга.
Оттенок недружелюбия, сквозивший в тоне этих белокурых, голубоглазых молодых людей, удивил меня, так как, насколько мне было известно, они вряд ли встречались до отъезда из Лондона. За бутылкой «Кьянти» выяснилось, что Хилэри8 было двадцать восемь, хотя он казался моложе, а Ральфу — двадцать три, и после короткой неловкой паузы я любезно ответила на их немой вопрос, сообщив, что мне двадцать семь.
— Оказывается, я пока самый старший, — сказал Хилэри. При виде его искренней, ребяческой радости у меня вдруг появилось ощущение, что мы втроем сидим за маленьким зеленым столиком и собираемся лепить фигурки из пластилина. Ральф усмехнулся, и я поняла, что он испытывает то же.
— Ну, а наш руководитель? — спросила я. — Конечно, он…
— Джон9, — уточнил Хилэри. — По-моему, ему всего лишь двадцать шесть.
Я была крайне удивлена. Не слишком ли мы молоды, чтобы отвечать за раскопки? Я вспомнила, что мне довелось видеть нашего нового руководителя в Лондоне. Светловолосый, серьезный человек, довольно суровая, но внушающая доверие внешность. Несомненно, он выглядел старше своих лет.
— Мне лично, — продолжал Хилэри, — не очень-то улыбается перспектива подчиняться человеку, который на два года моложе меня.
— Какое это имеет значение? — сердито возразил Ральф. — И разве вы не знаете, что он уже работал куратором в Кноссе10. Во всяком случае, ему знакома местность Амарны, чего нельзя сказать о нас, остальных.
Ленч мы заканчивали молча. На низком белом потолке непрерывно дрожали золотистые блики, отражавшиеся от воды через открытое окно, а «Кьянти» нашептывало нам свой веселый рассказ о южном солнце.
С тех пор прошло два дня, а мы почти не встречались. На второй день я уже успела изрядно устать от своей каюты и попутчиц. Одна из них, молодая монахиня, постоянно запирала дверь, вероятно, выражая этим протест против безнравственности мира. Замок был очень неподатлив, и я приходила в ярость, когда хотела войти, и в отчаяние, когда хотела выйти. Другая — маленькая медсестра, которую после тяжелой болезни послали отдыхать к морю, — при малейшей качке падала на свой чемодан, скользивший по сильно покатой поверхности пола. «Если это путешествие ради удовольствия, — неизменно изрекала она в таких случаях с мрачным видом, — пошли мне лучше, о боже, всемирный потоп и конец света».
Захватив мохнатый коврик и несколько книг, я поднялась на верхнюю палубу. Хотя на такой высоте кружилась голова, радостное возбуждение охватило меня: так чудесно находиться на солнце и ощущать легкое дыхание свежего ветра. Кругом не было ни души. Великолепное нежно-голубое небо и чернильно-темное волнующееся море; лишь за кормой, пенясь по краям, стелилась, отмечая наш путь, широкая изумрудная полоса.
Отыскав шезлонг, я втиснула его между спасательной лодкой и белыми перилами, чтобы по возможности укрыться от ветра. Качка все еще продолжалась, но я начала привыкать к ней. Здесь царило какое-то странное смешение звуков и запахов: непрерывный резкий свист огромных волн, которые ударялись о нос судна и нехотя откатывались назад; треск напрягающихся деревянных частей; сильный запах свежей краски и сухого дерева, разогретых солнцем; аромат соли в искрящемся воздухе; тонкие и визгливые звуки вибрирующих на ветру канатов. Белые перила устремлялись вверх и вновь оседали, далекий горизонт падал и взлетал. Утомление, вызванное путешествием и приготовлениями к нему, рассеялось, подобно клубам темного дыма, уносимым от огромной дымовой трубы, которая вздымалась над моей головой.
Тут я вспомнила о своем решении заняться арабским языком и вытащила из кармана пальто маленькую книжку в зеленой обложке. Разговорник арабского языка. Меня предупредили, что в Тель-эль-Амарне никто, кроме членов экспедиции, не знает ни одного английского слова. Я надеялась изучить арабский язык настолько, чтобы не только местные жители понимали меня, но и я, что гораздо интереснее, могла бы понимать их. Однако, просидев некоторое время над разговорником, я убедилась, что это слишком самонадеянно, и примирилась с мыслью, что мне никогда не удастся овладеть искусством произношения арабских слов.
Заглянув в словарь, я подчеркнула карандашом те слова, которые, по моему мнению, следовало бы выучить прежде всего: хлеб, вода, огонь, дом, деньги. Недурной запас для начала! Я обладаю необыкновенным талантом запоминать никому не нужные детали в ущерб полезным — всеми силами я старалась не смотреть на слова, которые вряд ли пригодятся мне, и все же не могла не заметить, что фиалка по-арабски «банафсига», и это слово прилепилось ко мне. Между прочим, потом, в Египте я не видела ни одной фиалки и так и не произнесла этого слова.
Полдня я потратила на изучение глагола «лафф», очевидно, излюбленного в арабском языке, — он был даже выделен крупным шрифтом. Этот глагол означал «кататься», и, хотя до прибытия в Тель-эль-Амарну я так и не научилась ни «бегать», ни «ходить» по-арабски, глагол «лафф» потом очень часто выручал меня.
Закрыв книгу, я откинулась на спинку кресла. Мне хотелось упорядочить мои сумбурные знания о той местности, где нам предстояло проводить раскопки. Популярные издания сообщают уйму подробностей о Тель-эль-Амарне и ее важнейших достопримечательностях, поэтому многие, даже не занимавшиеся специально египтологией, имеют о ней довольно ясное представление.
Но есть, вероятно, и такие, которые, хотя и знакомы с необозримой равниной истории Египта, холмами кратковременных царствований, долинами анархии и тремя остроконечными пиками — Древним, Средним и Новым царством, никогда не всматривались в каждую отдельную точку этого ландшафта и, возможно, никогда не слыхали о Тель-эль-Амарне — местности, где когда-то находился город Эхнатона. Долгое время к их числу принадлежала и я.
Не мне одной свойственно представлять себе историю как живую и меняющуюся картину, с возвышенностями и долинами, светлыми и теневыми полосами. Я представляю себе недолгое и необычное царствование Эхнатона уже не на самой вершине пика Нового царства, а на его склоне, обращенном к нам. Другие жившие до него вели борьбу за то, чтобы захватить и удержать обширную империю, простиравшуюся от Нубии до Сирии. Эхнатон стоит на последнем огромном откосе. Но этот откос не снижается полого, сливаясь с равниной, — впереди еще гористые выступы династий Рамсесов. Но как бы высоко он ни стоял, заслуга в этом принадлежит не ему, а его предшественникам, и немеркнущие лучи славы, которые озаряют его фигуру в истории, это лучи заката.
Итак, Новое царство, возникнув немного ранее 1500 года, распалось около 1000 года до нашей эры. Наивысшего расцвета оно достигло к тому времени, когда на престол вступил отец Эхнатона Аменхотеп III. Эхнатон царствовал в течение семнадцати лет, примерно с 1370 года11.
Процесс распада в это время уже начался. Враги надвигались со всех сторон, а правителем великолепного, требовавшего огромных забот государства был молодой человек, равнодушный к военной славе и блеску власти, приносящей несметные богатства. Такое изложение фактов, конечно, беспощадно упрощает удивительное явление в истории, — ведь речь идет о человеке, чей голос впервые возвестил людям о том, что ценности, за которые они сражаются, ничтожны и недостойны того, чтобы за них проливали кровь.

Эхнатон и Нефертити возносят молитвы Атону. Фрагмент росписи стены из известняка. Каирский музей
Некоторые считают Эхнатона слабовольным, бежавшим от выполнения своего долга фараоном, иные видят в нем одухотворенного человека, наделенного огромной моральной силой; есть и такие, которые думают, что он был хитрым политиком, порвавшим с жрецами не из-за высоких духовных побуждений, а ради того, чтобы сокрушить их власть, угрожавшую власти самого фараона. Но сам факт расхождения во мнениях, хотя и не помогает составить правильное представление о характере фараона, однако показывает, что принятое этим человеком решение спустя более трех тысяч лет после его смерти все еще способно волновать тех, кто знает его историю.
Короче говоря, он отрекся от древних многоликих богов, которым поклонялись его предки, и от главного бога Амона и посвятил себя служению единому богу творцу и хранителю всего земного. Олицетворением этого бога Атона был диск солнца, и только ему он поклонялся. Отказавшись от своего имени — Аменхотеп (он был четвертым Аменхотепом в роду), он назвался Эхнатоном, так как это имя «созвучно со словом Атон»12.
Вскоре после восшествия на престол Эхнатон заявил, что хочет построить город, где бы новая религия могла беспрепятственно процветать. Этот город должен быть построен на неоскверненной земле, где никогда не возносились молитвы иным богам. В двухстах милях севернее Фив, вдоль восточного берега Нила, подходя вплотную к реке, на много миль протянулись высокие отвесные скалы. В одном месте цепь их прерывалась, образуя глубокую впадину, тянувшуюся на семь миль в северном направлении, а потом вновь возникала, неотступно следуя за извилистыми берегами реки. В этом месте образовалась продолговатая полоса земли шириной около трех миль. Здесь, притаившись в объятиях скал, вплотную к животворной реке, по велению фараона вырос город Ахетатон13, новый, блестящий, с прекрасными набережными и гаванями, храмами и дворцами, садами и рощами.
На шестом году своего царствования, когда разлад и распри между фараоном и жрецами в великой столице Фивах стали нестерпимыми, Эхнатон, его супруга — красавица Нефертити, самое имя которой означает «Прекрасная дама идет», их дети, друзья и все те, кто желал последовать вместе с ними навстречу неизвестности, покинули злобные Фивы, чтобы поселиться во вновь построенном городе. Приплыв по течению реки из Фив, малочисленная флотилия бросила здесь якорь. Во дворцах и домах, где едва успела обсохнуть краска и штукатурка, а звуки молотка и резца все еще нарушали тишину, началась жизнь.
Город просуществовал менее двадцати пяти лет. Эхнатон прожил в нем одиннадцать лет, а после его смерти престол перешел к его малолетнему родственнику десятилетнему мальчику по имени Тутанхатон.
Жрецы Амона не теряли времени. Прошло лишь несколько лет, и юный фараон, согласившись сменить свое имя на Тутанхамон, торжественно возвратился в древнюю столицу и принял религию своих отцов. В течение недолгого времени в Ахетатоне еще теплилась жизнь, возможно, те, кто остался в нем жить, все еще лелеяли надежду на возрождение его былой славы. Но из Фив так никто и не возвратился. Город начал разрушаться песок проникал всюду, постепенно засыпая покинутые руины. Наконец, город скрылся под огромными колеблемыми ветром песчаными дюнами, которые дремали в царстве солнца и тишины.
Далее, начиная примерно с середины четырнадцатого века до нашей эры и вплоть до середины девятнадцатого нашего летосчисления, никто даже не догадывался о существовании древнего города. На том месте, где некогда сверкали белизной набережные и гавани, теперь вдоль берега протянулась узкая полоса посевов и в тени густых пальмовых рощ приютились две или три грязные деревушки. За ними, огороженные от реки пальмами, простирались опаленные солнцем песчаные дюны, на которые никто из деревенских жителей не обращал ни малейшего внимания.
Однажды, это было в 1880 году, женщина из соседней деревни в поисках себаха14 ушла довольно далеко от полосы посевов, в песчаные дюны. Раскопав песок, она неожиданно обнаружила множество каких-то мелких предметов из твердой глины. Заметив на их поверхности замысловатые знаки, она собрала находки и направилась с ними на другую сторону реки. Было бы странно, если бы она поступила иначе, так как в те времена любой египтянин, даже самый необразованный, хорошо знал, что за подобные находки у ворчливого торговца можно вытянуть одну или две лишние монеты.

Нефертити. Не завершенная скульптором голова из кварцита. Каирский музей.
Сколько она выручила за них, неизвестно, но можно с уверенностью сказать, что вознаграждение не соответствовало ценности предметов. После бесконечных странствований по различным музеям поломанная коллекция крошившихся глиняных табличек была, наконец, признана подлинной корреспонденцией, принадлежавшей призрачной тогда еще личности — фараону-еретику Эхнатону, а, следовательно, документом первостепенной важности.
Эти письма заинтересовали переводчиков не только своим содержанием — в некоторых из них лояльные короли-вассалы, тщетно пытавшиеся удержать северные границы империи, молили фараона о помощи (так и не оказанной им) в борьбе против теснивших их со всех сторон врагов. Возник вопрос: где найдены эти таблички? Местность была тщательно исследована. И вот спустя более трех тысяч лет был обнаружен город, некогда недолговечная столица великой империи. В течение последующих лет, вплоть до середины тридцатых годов, археологические экспедиции разных стран проводили раскопки и публиковали результаты своих исследований. Постепенно была не только воссоздана картина жизни людей, порвавших с древними египетскими традициями в религии и искусстве, но также стала более понятной личность необычного инициатора этих новшеств.
И, наконец, туда направлялись мы — новый отряд поклонников странной науки археологии, заставляющей погружаться глубоко в прошлое, чтобы хоть незначительно пополнить сокровищницу уже добытых сведений.
Мы должны были продолжить раскопки в тех местах, которые прославились благодаря открытиям других, в том числе и Петри15, работавшего здесь в 1891 году. Мы ехали туда, где перед первой мировой войной немецкая экспедиция нашла в мастерской художника известную всему миру голову Нефертити. Однако большая часть города и поныне еще скрыта песками, стирающими с лица земли следы жизни, и, пока на карте не будет отмечен последний дом и хотя бы один археологический объект останется нераскопанным, нельзя предвидеть, какие еще предметы исключительной красоты и ценности погребены там.
Внезапно меня охватило такое же волнение, как в ту минуту, когда я впервые увидела маленький глазурованный изразец с нарисованными на нем лотосами.
Я все еще была огорчена тем, что незнакома с остальными членами экспедиции, и грустила о покинутой мной глиняной девушке. Но постепенно над этими чувствами восторжествовало непреодолимое, радостное возбуждение: ведь каждое продвижение скверного старого судна на несколько ярдов16 сокращало расстояние до цели, приближая минуту, когда я смогу своими глазами взглянуть на то, что осталось от города Эхнатона..
Глава четвертая
На вокзале в Каире нас встретил Томми, единственный, не считая руководителя, член нашей экспедиции, археолог по профессии, имевший практику полевой работы. Он был филологом, и ему предстояло расшифровывать весь текстовой материал. Но так же, как и все, он занимался и другими делами: при раскопках не существует профессиональных барьеров: каждое важное открытие, сделанное на одном участке работы, непосредственно касается и всех остальных.
Томми было немногим больше двадцати. Казалось, этот высокий костлявый молодой человек с резко очерченным профилем и взглядом будущего профессора из-под очков в золотой оправе готов в любой момент устремиться вдогонку за ускользающим смыслом какой-либо надписи. Он сообщил нам, что находится в Каире уже неделю и все это время провел в музее и что Джон с супругой приехали совсем недавно.
— Они остановились в отеле «Континенталь», — сказал Томми, — и надеются, что мы все придем туда обедать. Я забронировал для вас комнаты в «Виктории», где остановился сам. Там очень недурно, и потом мы пробудем в Каире всего три дня.
Четыре часа мы провели в поезде, но это не помогло мне вновь обрести способность твердо ходить по земле. Пароходная качка так основательно нарушила мое чувство равновесия, что о Каире у меня сохранилось воспоминание, как об очень жарком городе с качающимися тротуарами.
Солнце уже село, когда мы дотащились до «Континенталя». Повеяло вечерней прохладой, и огромные пальмы чуть покачивались при свете фонарей. В ярко свешенных витринах магазинов были выставлены всевозможные безделушки и украшения, привезенные из Европы; мимо проносились блестящие машины, направлявшиеся в рестораны и к оперному театру. И не верилось, что от Тель-эль-Амарны нас отделяет всего лишь немногим более двухсот миль.
Нас приветливо встретила жена Джона и сообщила, что, хотя они приехали только утром, Джону удалось устроить большую часть дел, связанных с концессией, и повидать работников музея. Она была невысокого роста, голубоглазая, жизнерадостная, и, я думаю, мы обе почувствовали облегчение при мысли, что на раскопках нас будет двое.
Вскоре пришел Джон, и мы отправились обедать. Во время оживленной беседы мне впервые удалось внимательно рассмотреть его. Он был довольно высок и строен, но широкие плечи несколько скрадывали его рост. Джон говорил весело и непринужденно, и, казалось, между этим общительным человеком и той замкнутой, поглощенной своими мыслями личностью, которую мне приходилось встречать в Лондоне, нет ничего общего. И все же, наблюдая за ним, вы начинали понимать, что в нем скрыта необычайная серьезность и огромная сила воли.
Может быть, в тот вечер едва знакомые и к тому же неопытные коллеги вызывали у него чувство беспокойства, но он ничем не выдал его. Ведь Джон и Гильда были единственными членами нашей экспедиции, знавшими эту местность. Теперь же, когда он впервые стал руководителем экспедиции, эти четверо молодых людей, трое из которых никогда не работали в поле, будут помогать или мешать ему. Кроме того, ему предстояло организовать и контролировать работу свыше ста местных рабочих.
Когда обед подходил к концу и мы стали обсуждать планы на следующий день, в непринужденную атмосферу вкралась новая, еле уловимая, но вполне определенная нотка. Джон сказал: «Возможно, вам доставит удовольствие пойти завтра утром в музей, а во второй половине дня мы могли бы отправиться к пирамидам. Тогда у нас останется свободный день для последних покупок перед отъездом на юг».
Мы все почувствовали, что за этим вежливым предложением кроется вполне определенное требование: d нас ожидали, что мы примем эту заранее выработанную программу. Мы уже были не гостями, а участника ми одного дела — так младшие офицеры собираются вокруг стола над картой, чтобы выслушать план действий. Кампания началась.
Я очень плохо помню первое посещение Каирского музея, так как тогда мое внимание и энергия все еще были направлены на то, чтобы удержать ускользающую из-под ног почву.
В музей нас проводил английский чиновник. Его густая золотисто-седая шевелюра была увенчана темно красной египетской феской. Когда мы выходили и; машины во дворе перед зданием музея, кожаный чемоданчик его внезапно раскрылся, и порыв сильного бриза развеял все бумаги по двору. Мы бросились за ними, и мне удалось поймать несколько исправленных усеянных иероглифами гранок и печатное стихотворение, озаглавленное «До чего же я ненавижу женщин!» Естественно, большую часть времени мы посвятили предметам из Тель-эль-Амарны, разглядывая их как старых друзей, так хорошо знакомых нам по лондонским фотографиям. Здесь находилась и изящная маленькая головка из песчаника странной удлиненной формы — скульптурное изображение одной из шести дочерей Эхнатона. Тут же было и ожерелье, описание которого мне пришлось расшифровывать в то хмурое февральское утро: перед нашими глазами мягко светились ряды голубых васильков и винограда, красных фиников, желтых и белых цветочных лепестков.
Во второй половине дня мы добрались до Гизы17, и я узнала, что нам предстояло не только осмотреть пирамиды издали, но и побывать внутри одной из них — Великой пирамиды. Мне, как и многим другим, внушают страх замкнутые пространства, и эта экскурсия была очень тяжела для меня. Но не могла же я отступить в самом начале моих египетских приключений: раз остальные собирались войти, мне не оставалось ничего иного, как последовать их примеру. Итак, стиснув зубы и внушив себе, что Великая пирамида вряд ли выбрала именно вторую половину дня этого вторника, чтобы обрушиться, я вместе с остальными нырнула в узкий проход в северной стороне величественного сооружения.
Мне почему-то казалось, что усыпальницы в пирамидах расположены на уровне земли, но коридор вдруг резко метнулся вверх, и впереди можно было различить длинный наклонный проход, скупо освещенный несколькими тусклыми электрическими лампочками. Потолок коридора был очень высокий. Деревянные планки, прибитые гвоздями к скату, служили опорой для ног. Проводник шел впереди, а мы жались к нему, и когда большая летучая мышь подносилась во мраке над нами, едва успевали нагибаться. Добравшись до верха, мы очутились в царской усыпальнице и в молчании остановились перед огромной пустой гробницей — этим необыкновенно внушительным памятником прошлого.
Молча покинув усыпальницу, мы спустились немного вниз по скату и свернули в другой коридор, который тянулся в горизонтальном направлении и был настолько низок, что выпрямиться во весь рост в нем было невозможно. Он вел в другую, меньшую, комнату, расположенную под царской усыпальницей. Странно было стоять здесь, сознавая, что находишься в самом сердце пирамиды. Каменная кладка давила на нас со всех сторон. Наконец, мы отправились в обратный путь, и, по мере того как лучи солнца начали снизу заползать в коридор, я постепенно переставала чувствовать себя ничтожной, жалкой изюминкой внутри большой лепешки. Спустя два дня наша экспедиция покинула Каир.
Был уже вечер, когда мы подъехали к станции Мэллави. Вторую половину дня наш поезд шел вдоль западного берега Нила, пробираясь сквозь нескончаемые маисовые и хлопковые поля. Солнце накалило крышу вагона. Пытаясь уберечься от белых облаков пыли, мы проехали большую часть пути с закрытыми окнами.
Высокие известковые скалы на противоположном берегу сопровождали нас, они то удалялись вглубь, тс приближались к реке.
На платформе в Мэллави к нам подошел высокий и стройный египтянин, одетый в пурпурный вышитый плащ поверх безупречно белой туники. На голове у него был пурпурный шелковый убор. Он по-восточному приветствовал Джона и Гильду, дотронувшись пальцами сначала до лба, потом до груди, и только тогда пожал протянутые ему руки. Это был Хуссейн Абу Бакр — доверенный слуга нашего общества, ему было поручено отпереть дом экспедиции и сделать там все необходимые приготовления. За Хуссейном стояли его брат Абд эль Латиф, работавший поваром, и их племянник — юный Абу Бакр. Немного поодаль мы заметили еще троих или четверых местных жителей.
Джон и Гильда бегло и непринужденно говорили на арабском языке и представили всех нас. Хуссейн сообщил, что нанял две машины, чтобы доставить нас и наш багаж к берегу реки, до которого оставалось примерно около полумили. Джону пришлось подчиниться, хотя он терпеть не мог пользоваться машиной, если была даже малейшая возможность идти пешком. Все мы ухитрились поместиться в первой машине, а семейство Абу Бакр, весело улыбаясь среди груды чемоданов, следовало за нами во второй. Местные жители вприпрыжку бежали следом в облаке пыли. Было очень жарко и пыльно, мы устали, и это короткое путешествие на машине довело нас почти до полного изнеможения.
Миновав станцию, мы поехали по узкой высокой насыпи, которая вилась между расположенными в низине двумя полосками возделанной земли. Во время ежегодных разливов Нила эти поля затапливаются водой и покрываются слоем плодородного ила. И тогда высокие насыпи, пересекающие крест-накрест всю площадь хлебных полей, служат единственными путями, по которым можно передвигаться.
Кое-где насыпь, по которой мы ехали, развалилась, образовались глубокие лощины, и, проезжая по ним, колеса подпрыгивали. К тому же шоферу, видимо, доставляло удовольствие убеждаться в том, что он может повернуть на огромной скорости, не свалив машину вниз. Поэтому мы были очень рады, когда дорога, наконец, сравнялась с полями и мы увидели плескавшиеся у наших ног воды Нила.
Вечер выдался необыкновенно тихий. Позади нас солнце опускалось к горизонту. Далеко за рекой, отражаясь в воде, тянулся длинный ряд неподвижных пальм. Над ними возвышались отливавшие золотом скалы.
У шаткого причала стояла очень странная лодка. В течение долгих лет она обслуживала экспедиции, прибывавшие в Тель-эль-Амарну. Лодка длиной около двадцати футов18 казалась сколоченной из множества кусков дерева различных пород и размеров, что свидетельствовало о бесконечных починках. Вряд ли на ней сохранился хоть один кусочек материала, из которого она была сделана. На мачте был укреплен огромный парус, напоминавший небрежно свернутый зонт.
Преодолев чувство страха, мы забрались в лодку. В одно мгновение наши чемоданы оказались где-то на ее дне. Мы находились примерно в миле севернее той местности, куда направлялись, поэтому вначале нам пришлось плыть против течения.
По знаку Хуссейна местные жители, выстроившись в один ряд, ухватились за длинную бечеву, прикрепленную к носовой части лодки, и потянули ее вдоль берега по изрядно истоптанной дороге. Старая фелюга, переполненная пассажирами и чемоданами, не спеша последовала за ними. Уровень воды казался близким к бортам, что, конечно, не радовало нас. Иногда люди, тянувшие бечеву, шли почти рядом с водой, и берег возвышался над их головами. Порой же дорога вела круто в гору, и они были вынуждены идти под Жгучими лучами заходящего солнца. Капли воды, отлетавшие от бечевы, сверкали, точно драгоценные камни. Хуссейн сидел у руля, старательно направляя носовую часть лодки в сторону от берега.
Мы свернули немного вправо. На восточном берегу скалы переходили в мыс, который отвесно спускался к воде. Ряд стройных пальм, росших у его подножия, тянулся вдоль берега. Джон прервал молчание: «Вон северная граница нашей местности». Мы уставили вдаль и увидели, что нас отделяла от этой местности золотистая поверхность воды, а лодка тем временем поравнялась с заставой города. «А там, — продолжал он, указывая на юг, где подернутый вечерним туманом и казавшийся тусклым, серым и низким виднелся другой, погруженный в воду мыс, — южный. Приплыв сюда в первый раз с юга, Эхнатон обогнул эту скалу».
Мы находились у северного мыса. Люди, тянувшие бечеву, остановились и подтянули лодку к берегу. Затем они тщательно закрутили кольцами веревку. Двое из них вошли в лодку и, как-то умудрившись уместиться на среднем, предназначенном для гребцов сиденье, извлекли пару нетесаных весел. Фелюга теперь направилась к крошечному причалу, который находился тут же, чуть южнее мыса.
Было очень тихо, прохладно и необычайно красиво. Никому не хотелось нарушать молчания. Солнце зашло. Теперь мы могли разглядеть на фоне деревьев несколько фигур в белой одежде, засуетившихся при нашем приближении. Кое-где над нарядными, легкими, как перышко, пальмами стелилась голубая дымка.
Слегка поскрипывая, фелюга причалила к берегу; Хуссейн и двое гребцов, подав нам руки, помогли выйти на берег. Узкая тропинка круто поднималась, и мы гуськом двинулись по ней. Наверху тропинка вилась под густой сенью пальм. Вскоре она привела нас к другому, более удаленному от берега ряду пальм. Мы снова оказались в полосе вечернего света. Перед нами раскинулось море коричневых песчаных дюн, а у самого его края, подобно длинному низкому кораблю, плывущему на волнах, возвышался дом, в котором нам предстояло найти приют. Дом был коричневый, как и песок, на котором он стоял, беспорядочно спланированный, но приветливый. Кто-то шел нам навстречу, освещая в темноте путь фонарем.
Скалы над домом начали вновь светлеть, и по мере нашего приближения к дому они постепенно снова обретали пурпурную, розовую и золотистую окраску в странном, запоздалом отблеске заката.
Глава пятая
Мне приятно сознавать, что я жила в доме, построенном свыше трех тысяч лет назад. Это было реставрированное здание эпохи Эхнатона. Эхнатон выстроил свой город у воды, там, где сейчас раскинулись засеянные поля. С севера на юг город дугой огибают известковые скалы. Северный и южный мысы дуги подходят близко к Нилу. Два ряда пальм зеленеют у их подножий. Вдоль берега, от одного мыса к другому тянется пыльная тропа для верблюдов. За полями нет ничего, кроме беспокойного, темно-бурого моря песка, из которого, подобно затопленным скалам, поднимаются древние стены.
Когда мы выбрались на песчаную равнину, еще озаренную мягким светом, и увидели дом с его приветливыми фонарями, от которых неожиданно повеяло домашним уютом, я ощутила в душе теплое, радостное чувство. Сзади сквозь силуэты пальм тускло поблескивала река. С севера и востока дом окружали скалы. Они все еще были согреты солнцем. Только с южной стороны простирались бескрайние пески и были видны руины города.
Почти квадратный дом был спланирован так, что комнаты с трех сторон окружали маленький внутренний дворик. С четвертой стороны, обращенной к реке, сохранилась лишь низкая стена высотой около двух футов с большой дырой посередине. Через нее можно было попасть в бывшую западную галерею — большую, тянувшуюся вдоль всей западной стены комнату. Пересекая ее, вы через проем в стене (где раньше была дверь) выходили во внутренний дворик, который некогда был центральной комнатой дома.
Здесь, прежде всего, бросались в глаза четыре круглых каменных постамента с красивой резьбой диаметром около четырех футов и высотой около шести вбитые в истоптанный земляной пол. На них когда опирались четыре высокие деревянные красные колоны, которые поддерживали крышу, высоко поднятую над крышами остальных комнат. Расположенные под ней окна пропускали массу света и воздуха.
Когда несколько лет назад дом был раскопан, высота стен еще достигала местами пяти-шести футов, сами стены оказались в таком хорошем состоянии, что их нужно было лишь немного надстроить и покрыть крышей.
В доме сохранился старый фундамент, а также первоначальная планировка комнат, расположенных вокруг центральной. Только на каменных основаниях вместо изящных колонн теперь, к сожалению, покоились деревянные подпорки для крыши.
В юго-западном углу дома находилась довольно большая комната, которую обычно занимал руководитель очередной экспедиции. Она несколько выступал вперед, образуя портик на фасаде дома. Около портика сохранились две или три полуразрушенные ступеньки. Должно быть, древнее семейство египтян и их гости, поднимаясь по ступенькам, входили в портик оттуда, свернув налево, попадали в комнату, служившую, вероятно, чем-то вроде гардеробной, а теперь нашу канцелярию, затем они вновь выходили в южный конец длинной западной галереи и оказывались в центральной комнате. Мы пересекали галерею, пролезая через дыры в двух ее продольных стенах, что значительно сокращало путь.
Канцелярия — рыжеватое полупустое помещение обстановку которого составляли полки из нетесаного дерева да два стола около окон. Одно из них выходило в галерею, а другое — на дорогу, ведущую к территории раскопок.
В длинной узкой комнате рядом с канцелярией обычно останавливались архитекторы. Остальную часть южного крыла дома занимала главная жилая комната — большая, темная и прохладная с циновками на земляном полу. В центре ее сохранились две белые базы колонн, на которые мы вечно натыкались. Длинный стол для трапез и работы, ужасно неудобная бамбуковая кушетка — она поднималась на дыбы в самые неожиданные моменты, — один — два довольно шатких плетеных стула, деревянный табурет и книжная полка — вот и вся ее обстановка. Высоко в стене, обращенной к внутреннему дворику, виднелись два маленьких квадратных окошка. Двери вели в две маленькие комнаты с окнами, выходившими на территорию раскопок.
В комнатке справа обычно хранились древности, и вдоль ее стен от пола до потолка тянулись ряды деревянных полок. Сейчас они были пусты и, казалось, чего-то нетерпеливо ждали, но скоро им суждено заполниться новыми экспонатами. Я знала, что большинство найденных нами предметов окажется обыденными и хорошо известными, но всегда оставалась надежда, хотя и очень скромная, найти что-нибудь новое и необычайно интересное. И тогда эта маленькая, темная, выложенная грязными кирпичами комната, превратится в сокровищницу.
Во второй комнатке стоял низкий кофейный столик, два шатких плетеных стула и хранилась мертвая черепаха. Кто-то, возможно жена одного из археологов, вообразив, что в Амарне остается еще время и для отдыха, тщетно пытался создать здесь крохотную гостиную. Мы не пользовались этой комнаткой, и лишь иногда, по моей инициативе, чистили в ней находки. Судя по другим раскопанным домам, построенным почти аналогично, наша жилая комната и эти две маленькие представляли собой вестибюль с расположенными за ним двумя комнатами для гостей.
В восточной части дома разместились еще три спальни и темная каморка для занятий фотографией, наполненная различными невыразимо противными предметами и еще более противными запахами, в северной части кладовые, а в крайнем северо-западном углу — кухня.
Комната, в которой жила я, выходила на восточную сторону внутреннего дворика. Она была длинная и узкая, и в ней помещались только походная кровать, сетка от москитов, примитивный умывальник и склад ной стул. Крохотное оконце в очень толстой стене, обращенной на восток, глядело на уходящие вдаль скалы. С этой стороны дом до самого оконца был засыпан песком. Оконце было затянуто прочной густой сеткой, которая раздражала меня, но однажды Хуссейн показал мне отчетливый след большой змеи на песке у моей сетки, и мне пришлось смириться. На рыжевато отштукатуренной стене висела маленькая керосиновая лампа с рефлектором. Комната была суровая, безупречно чистая, и я ее сразу полюбила.
Когда мы в тот первый вечер разошлись по комнатам, у моей двери появился юный Абу Бакр с кипятком в металлической кружке, которую он молча осторожно поставил в таз. На нем, как и на его дядюшке, была безукоризненно белая цельнокроеная туника, доходившая ему до колен, а на голове — белый полотняный тюрбан. Я смущенно произнесла «хаттар херак», предварительно убедившись по своей зеленой книжечке, что это действительно означает «спасибо». Важно до того лицо мальчика вдруг расплылось в широкой улыбке, и он принялся сыпать словами, означавшим приветствие либо комплименты по поводу того, как хорошо я овладела его родным языком. К счастью поклонившись, он тут же ушел, не успев разочароваться в моем умении говорить по-арабски.
Наконец мы собрались в столовой, и наша первая совместная трапеза в Амарне началась. Все были основательно утомлены. Джон уселся на одном конце стола, Гильда — на противоположном. Ральф и Хилэри пристроились у стены, а Томми и я — на основаниях колонн. Над столом висела огромная керосиновая лампа. Из широко распахнутой двери со двора струился теплый вечерний воздух. Время от времени в комнату, подобно подброшенному земляному ореху, врывалась саранча и, пометавшись из угла в угол, с шумом улетала.
В комнату вошел Хуссейн с огромной миской супа, а по пятам за ним, как свеченосец, следовал Абу Бакр, почтительно склонившись над чашей с гренками вместо ладана. За особым чечевичным супом был подан особый же пирог из шпината с начинкой из сыра и яиц, а затем — только что сорванные мандарины и бананы и сладкий горячий кофе. Этот очень простой обед надолго сохранился в моей памяти.
Когда мы расходились, Джон сказал: «Утром найдем людей. А после полудня отправимся на место и посмотрим, много ли песка нанесло за лето. Хуссейн сообщил, что куфти будут здесь в течение дня. Вечером мы сможем закончить распаковку оборудования и привести все в порядок. Таким образом, послезавтра можно будет приступить к раскопкам. Доброй ночи. Гильда предупредила нас, что не следует пугаться воя шакалов, которые живут на вершинах скал и иногда спускаются ночью на водопой. Кроме того, она посоветовала нам опрыскать от москитов внутреннюю сторону защитных сеток, а утром встряхнуть одежду, ибо там, по ее словам, мог пригреться какой-нибудь предприимчивый скорпион.
Все это навело меня на грустные мысли. Но моя маленькая комнатка при мягком свете керосиновой лампы казалась такой теплой и надежной. Стоя у дверей, я оглянулась назад. На молчаливый двор легли глубокие тени, но пространство за ним освещала выплывшая из-за скал полная луна. Объятые сном пальмовые рощи приобрели серо-серебристую окраску, сквозь стволы деревьев виднелась река, а к северу бледным светом отливал мыс.
Наконец-то я была в кровати и сначала долго и нудно опрыскивала защитную сетку, затем, тщательно подоткнув со всех сторон концы сетки под матрас, соорудила что-то вроде маленького шалаша. Было душно, но зато я чувствовала себя в полной безопасности. Голубая полоска лунного света скользнула вниз по стене. В углу что-то тихо заскреблось. «А скорпионы скребутся?» — подумала я. Я не знала этого, но надеялась, что в Египте тоже водятся такие кроткие существа, как мыши. «Куфти будут здесь в течение дня», — вспомнились мне слова Хуссейна. Кто же такие куфти? Они могли оказаться упаковочными ящиками, верблюдами и даже инспекторами Службы древностей.
Внезапно тонкий высокий звук прорезал тишину, Потом еще и еще. Мне казалось, я вижу полчища духов — они носились по руинам, вспоминая о своих давно прожитых жизнях и древних жилищах. Затем где-то яростно залаяла собака, и вой прекратился. Тишина вновь стерла все звуки. Ну и денек. Скорпионы. Шакалы. Сон начал одолевать меня.
Глава шестая
Я проснулась, уверенная, что сегодня — воскресенье и я в Блюмсберри. Именно так тихо бывает у нас по воскресеньям — ни шума машин, ни звука шагов с улицы. Но в Амарне так было всегда. Тишина и лучи солнца, заливающие двор.
Во время завтрака мое внимание прежде всего привлекли костюмы наших мужчин, в которых они намеревались работать на раскопках. Это было очень любопытно и даже помогло мне понять их характеры. На Джоне была ярко-розовая рубашка с открытым воротом и морские шорты с поясом из разноцветной плетеной кожи. Ему очень шла густая копна взъерошенных волос.
Я тогда еще не знала, что он страстно увлекается средневековьем и, обдумывая какую-нибудь связанную с раскопками проблему, часто напевает себе под нос о рыцарях в латах и высоких шлемах, о галантных кавалерах пятнадцатого века с причудливыми шляпами. В этом человеке с обычной внешностью, окончившем бесплатную государственную школу и университет, таилась душа, мечтавшая о камзоле с саблей. Мне кажется, все яркие рубашки — розовые, зеленые и голубые, — которые он носил в Амарне, являлись своеобразным вызовом с его стороны простому серому в узкую полоску костюму. Работа в Амарне была для него не только профессиональным экскурсом в далекое прошлое — она позволяла на некоторое время забыть обыденность и прозаичность современной жизни.
А Томми выглядел так, как подобает начинающему профессору. Его строгая и простая одежда — рубашка цвета хаки и шорты — вполне соответствовала данной обстановке. Костюм Ральфа был безупречен — черный шерстяной джемпер без рукавов поверх белой рубашки и серые фланелевые спортивные брюки. В таком костюме он мог бы с одинаковым успехом завтракать в одной из студий Челси и в Котсуолдском трактире.
Но самой колоритной фигурой среди нас оказался Хилэри. Он явился к завтраку последним. У него был такой вид, как будто он только что нашел священный камень жизни. В руке — новый тропический шлем, который он осторожно положил на книжную полку; необычайно широкая рубаха цвета хаки туго стянута поясом, он называл ее «джемпер бродяги». Многочисленные карманы так набиты «необходимыми вещами» в том числе и пустыми гильзами, что он едва мог стоять на ногах. «В таком виде нельзя появляться на раскопках, мой мальчик, — сказал Джон мягко, но решительно. — Вы представляете себе, какое впечатление это произведет? Там в пустыне, среди шакалов, — пожалуй, если вам так хочется». Джон потребовал, что бы Хилэри выкинул все из карманов.
Вошел Хуссейн и сказал лишь одно слово: «Куфти». Я едва не выбежала из-за стола с полным ртом.
Оказалось, что куфти — это жители маленького городка Куфта19 примерно в двух милях южнее Луксора. В древние времена это был процветающий торговый город, расположенный в западном конце караванного пути, проходившего через бесплодную пустыню к Косейру на берегу Красного моря.
В наши дни он славится квалифицированными рабочими, ведущими раскопки. Дело в том, что Петри, проводя там раскопки, сам обучил небольшую группу местных жителей этой тонкой и сложной профессии. С тех пор они передают свой опыт и навыки детям щукам.
Эти простые люди бывают иногда большими знатоками своего дела, чем иной начинающий археолог-европеец. Они могут восстановить план, казалось бы, безнадежно засыпанного и разрушенного здания. Каждый из них обычно руководит группой рабочих, которые очищают от щебня внешнюю сторону стен.
Человек двадцать куфти, преимущественно высокие мужчины в синей или черной одежде, выстроились за стеной парапета с длинными мотыгами в руках. На головах у них сверкали белизной великолепные тюрбаны. Обычно один конец задрапированного головного убора торчал вверх, подобно небольшому султану, а второй ниспадал на плечо.
Старшим у них был Умбарак, немного суетливый старик с морщинистым лицом. Он привел троих сыновей: Мохаммеда — большого и безмятежно спокойного, Махмуда — нервного, гораздо более изящного, и Кассара — красивого юношу с изумительными глазами, обрамленными длинными ресницами, и с черными как смоль волосами. В течение всего сезона куфти жили в маленьком доме — восстановленном флигеле, принадлежавшем древней усадьбе.
В это утро сюда спешили все новые и новые группы людей из расположенных неподалеку двух деревень Амарны: разнесся слух, что «мудир», то есть начальник, сегодня будет нанимать рабочих.
Для начала мы приняли на работу около семидесяти пяти человек, в первую очередь землекопов и ребят для переноски корзин со щебнем с места раскопок. Куфти помогали нам нанимать рабочих.
Каждый принятый на работу получал билетик с печатью, который приобретал в его глазах значение не меньшее, чем членский билет английского тред-юниона. Я наблюдала, как рабочие, исполненные чувства собственного достоинства, широко улыбаясь, подходили за ними, напоминая малышей при раздаче наград в подготовительной школе. Получив билетик, они тихо удалялись, изучая его со всех сторон, а затем, тщательно завернув, прятали в складках перепачканной туники.
Тем временем я стала составлять список рабочих с указанием размера оплаты. Позже я узнала, каким образом вычислялась оплата: на билетик наносили шесть граф, соответствующих шести рабочим дням в неделю, графу «штрафные» и еще одну с пометкой «бакшиш». В конце каждого рабочего дня член экспедиции прокалывал нужную графу. Размеры штрафов и бакшишей устанавливали и записывали тут же на месте. Штрафы взимали за мелкие нарушения дисциплины, бакшиш выдавался в том случае, если работы проводились особенно внимательно и осторожно или был найден какой-нибудь интересный предмет. Ведь рабочий мог поддаться искушению утаить находку и продать ее предприимчивому дельцу. Если предмет в процессе раскопок оказывался изрядно поврежденным, сумма вознаграждения снижалась. Это побуждало соблюдать предельную осторожность в тех случаях, когда мотыга наталкивалась на что-то твердое.
Каждую неделю билетики отбирали и подводился общий итог с начислением бакшишей и вычетом штрафных. Таким образом, почти всем причитались различные суммы, и мне следовало быть особенно внимательной. Например, ни в коем случае нельзя было перепутать Хуссейна Али Мохаммеда, проболевшего два рабочих дня, с Али Мохаммедом Хуссейном, который проработал всю неделю и нашел два ценных амулета, и вряд ли ему понравится, если на его билетик ошибочно попадут расчеты с Мохаммедом Али Хуссейном.
Покончив со списком землекопов, мы принялись переписывать ребят. Мальчишки в маленьких головных платках или круглых коричневых войлочных шляпах и белых рубахах до колен походили на миниатюрных мужчин. На девочках были надеты холщевые платья всех цветов с длинными рукавами, на запястье у каждой обязательно поблескивал дешевый браслет. Среди девочек было несколько по-настоящему красивых; все весело посмеивались.
После ленча мы отправились к месту раскопок, стараясь идти в тени, уползавшей с засеянного поля.
Это был первый из наших бесчисленных походов. Обычно мы отправлялись из дому все вместе, причем Джон, шагая вприпрыжку по неровной почве, начинал излагать какую-либо теорию или план, а все, окружив его, слушали. Затем темп его ходьбы постепенно нарастал, и, наконец, он вырывался вперед вместе с Томми, спокойно шагавшим с ним в ногу, в то время как все остальные или бежали рысцой, если разговор был для них особенно интересен, или плелись где-то сзади. Мы с Гильдой обычно отставали у самого старта и неторопливо шли, следя, как две рубашки — яркая и цвета хаки — постепенно уменьшались на фоне песчаных дюн. И я с грустью размышляла о том, что, если бы мне удавалось успевать за Джоном, я смогла бы значительно больше узнать о раскопках.
В тот первый день по дороге Джон рассказал нам о планах на этот сезон. Мы должны были продолжить начатые в прошлом году раскопки в районе большой группы зданий, известных под названием Северного предместья, примерно в миле к югу от нашего дома.
Я уже имела некоторое представление о плане города. Главная часть его находилась в центре и, конечно, была построена первой. Приблизительно в трех милях к югу от нашего дома, у реки, стоял дворец Эхнатона. К востоку от него проходила главная трасса, и высокий мост, перекинутый через дорогу, соединял этот дворец с личным храмом фараона и принадлежавшим ему домом, домами жрецов и амбарами. К северу от этой группы строений находился Большой храм и важнейшие общественные здания и учреждения. К востоку от Большого храма — Иностранное ведомство; именно здесь и были обнаружены знаменитые глиняные таблички, впервые пролившие свет на прошлое этих мест. Немного южнее разместились крупные частные владения важных сановников. Здесь же помещалась мастерская скульптора, где нашли великолепный бюст Нефертити.
Еще дальше к югу, примерно на расстоянии двух миль от центральной части города, у самой реки был построен летний дворец Эхнатона. Недалеко от него раскинулось большое, но неглубокое озеро, окруженное деревьями и цветами. Здесь Эхнатон и Нефертити отдыхали, катались на легкой лодке или устраивали пикники под тенистыми деревьями. Их шесть дочерей село резвились вокруг, и царь на время забывал о тяготах жизни.
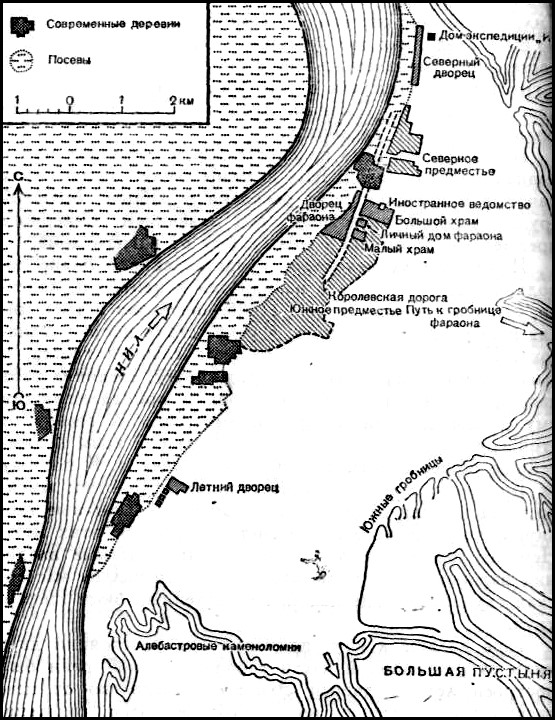
План Тель-эль-Амарны
Вся южная и центральная части города были уже исследованы различными археологическими экспедициями. В 1891 году, после того как были найдены таблички, огромную работу здесь провел Ф. Петри. Во дворце Эхнатона он обнаружил расписной пол — один из прекраснейших образцов искусства Амарнского периода. Общая площадь пола составляла около двухсот пятидесяти квадратных метров. На нем были изображены, живые, естественные сценки повседневной жизни: маленькие резвые телята с острыми копытцами и шаловливыми хвостиками прыгают через цветущие кустарники и тростниковые заросли к прохладной реке, где плавают рыбы и склоняются над водой массивные лотосы, а птицы с розовыми клювами и влажными настороженными глазами вылетают из-за кустов.
Талантливый археолог Ф. Петри сделал все возможное, чтобы сохранить значительную часть расписного пола в самом дворце. Там, где некогда стояли колонны, осталось много гладких квадратов. На них он установил низкие опоры для дощатого помоста с перилами. Таким образом, можно было ходить и рассматривать пол, не наступая на него. Все это он сделал сам, опасаясь, что местные рабочие станут передвигать доски по хрупкой поверхности и оцарапают нежную краску.
Ф. Петри покрыл пол тонким прозрачным слоем тапиоки. Он наносил ее одним пальцем, так как оказалось, что даже мягкая кисть портила непрочную, легко стирающуюся краску. Эта кропотливая работа требовала большого терпения. К сожалению, прекрасное произведение искусства впоследствии было разрушено. Сейчас сохранились лишь зарисовки и цветные репродукции этой уникальной находки, выполненные и опубликованные самим Ф. Петри, а также незначительная часть оригинала, которую ему удалось переправить в Британский музей.
Итак, экспедиции медленно продвигались с юга на север с перерывами между короткими археологическими сезонами.
Последняя экспедиция закончила работу в Северном предместье, отделенном от центральной части города широкими, но неглубокими вади20. Этот район в основном был уже раскопан, но незначительный участок его все еще оставался погребенным под песками трехтысячелетней давности. Выйдя из дома, мы направили именно туда.
Волнение снова охватило меня. Наконец-то мы были близки к цели. В суматохе последних дней бухгалтерские книги казались мне куда более важными, чем Эхнатон, блокноты — чем Нефертити, а новая пишущая машинка временно вытеснила в моей душе Новое Царство. Теперь же я вновь отчетливо осознала истинное значение нашей экспедиции.
Пробираясь через зыбкие беспорядочные груды песка с торчащими кирпичами, мы прошли немного вперед, чтобы осмотреть часть предместья, раскопанную в прошлом сезоне. Песок уже снова успел засыпать комнаты и коридоры домов, забиться в щели стен, возвышающихся над землей лишь на несколько футов. Мы ходили по коридорам из комнаты в комнату, по аллея между домами, слушая объяснения Джона, который показывал нам наиболее интересное. Это напоминало экскурсию по строительному участку, где кладка стен только началась, но планировка была уже ясна.
Параллельно большой трассе, проложенной вдоль реки, тянулись две меньшие. Они соединялись между собой дорогами, идущими с востока на запад, и город оказывался разделенным на прямоугольники почти правильной формы.
Большие и хорошо спланированные дома располагались у самых дорог, дома поменьше раскинулись за ними, но тоже близко к дороге, а в центре квадратов беспорядочно ютились хибарки и трущобы с крохотными проходами и кривыми улочками.
Сейчас очень трудно было разобраться в этом лабиринте низких серо-коричневых стен. Мне не оставалось ничего другого, как внимательно изучить планировку города по чертежам. Сделать это оказалось довольно легко. Вся обследованная и измеренная местность была разделена на квадраты с буквами и цифрами.
Каждая сторона квадрата соответствовала двумстам метрам. Буквами алфавита отмечались квадраты, протянувшиеся с запада на восток, а цифрами — с севера юг. Кроме того, каждый раскопанный дом имел серийный номер. Одни дома не представляли почти никакого интереса, и их номера забывались легко и быстро Другие же были настолько интересны своей планировкой или другими присущими только им особенностями, что их номера приобретали особый смысл и очарование. Каким волнующим и знакомым даже теперь, спустя много лет, кажется мне символ Т.36.68 — ведь там была обнаружена очень любопытная находка. Но об этом потом.
Между прочим, наш дом, расположенный чуть восточнее и значительно севернее Северного предместья, получил официальный серийный номер И. 25. II.
День близился к концу. Мы повернули к дому. Все успели немного загореть под благословенным солнцем Амарны. Здесь нас не мучил, как в Каире, его нестерпимый блеск, — лучи солнца тонули в зелени всходов и буром песке, обогревая и очищая землю, Джон показал нам места, где должны начаться раскопки.
Добравшись до дома, мы увидели, что двор заполнен ящиками, принесенными мальчишками с фелюги. Консервы, медикаменты, фотоаппараты, канцелярские принадлежности, картонные коробки для хранения находок, новая пишущая машинка — чего тут только не было! После чая мы распаковали ящики и, вынув вещи, рассортировали их. Все оказалось в порядке, недоставало только части затвора фотообъектива. Фотоаппарат был, видимо, разобран каким-нибудь ретивым таможенным чиновником, который охотился за гашишем. Для нас это была большая потеря.
Все вещи, необходимые для работы, я отнесла в канцелярию, намереваясь утром распаковать их и разложить по местам. Этот первый день в Амарне был, пожалуй, самым длинным рабочим днем в моей жизни, если, конечно, хождение по лабиринту засыпанных песками руин считать работой.
Утомленные, но бодро настроенные, мы уселись ужинать. После ужина Джон обратился ко мне. В его тоне сквозило извинение: «Не смогли бы вы написать для меня несколько писем?» Мне не оставалось ничего другого, как ответить: «Да, конечно», — и, вернувшись в канцелярию, я принялась развязывать веревку на коробке с пишущей машинкой и вскрывать пакеты, чтобы найти писчую и копировальную бумагу, блокноты для стенографических записей и вечную ручку. Прикрыв дверь, я пристроилась за столом, одна ножка которого была короче остальных. Мне стало жаль себя и очень хотелось спать.
Было около десяти часов вечера, когда я, наконец, отнесла письма на подпись Джону. Одно было адресовано в таможню Александрии; в другом мы просили начальника полиции выделить конвой для охраны находок; третье предназначалось для фотофирмы в Каире, которая должна была печатать снимки, и в последнем мы сообщали Обществу о прибытии на место. Джон молча перечитал их и, подписав, передал мальчику с фелюги, который поджидал за дверью канцелярии. Засунув конверты в висевшую через плечо сумку, мальчик улыбнулся и, поклонившись, быстро побежал к реке.
И тут Джон сказал то, что я так страстно хотела от него услышать: «Хорошо, что у меня есть секретарь, которому можно доверить подобные дела. Это намного облегчит и ускорит нашу работу».
Может быть, эти слова вырвались у него непроизвольно, а может быть, в этом была и доля расчета — умный руководитель хотел заслужить расположение самого скромного члена экспедиции. Но, так или иначе, с этого момента я решила беспрекословно выполнять любую порученную мне работу, какой бы скучной и утомительной она ни была.
— Завтра, наконец, мы приступим к настоящему делу, — бодро сказал Джон, пожелав всем доброй ночи. — Разве это не замечательно?
Глава седьмая
Утро. Снова солнце и тишина. Я выглянула из окна канцелярии: внизу, над Северным предместьем висело облако желтой пыли. Раскопки начались.
Мы с Гильдой решили отправиться к месту раскопок позднее. Я разобрала и разложила по местам все папки и канцелярские принадлежности и даже подсунула под ножку стола деревянную планку. Затем мы занялись шкафом с медикаментами. Мне казалось, что медикаментов было слишком много для шести молодых здоровых духом и телом людей, и я осторожно спросила об этом Гильду. Она ответила:
— Обычно лишь несколько человек обращаются за медицинской помощью, но иногда заболевают все сразу, приходят даже целыми семьями, тогда и наступает горячая пора. Мы, конечно, обязаны лечить только наших рабочих, но, право же, невозможно отказать остальным.
Гильда ушла, ей нужно было поговорить с поваром, а я продолжала расставлять по полочкам пузырьки с борной кислотой и раскладывать пакетики ваты.
Наконец, мы направились к месту раскопок. Гильда была именно такой, какой должна быть жена археолога. Она имела большой опыт полевых работ, прочитала много литературы по археологии и, став женой Джона, особенно увлеклась археологией Крита и Египта.
Она рассказала о жизни на Крите, где они ежегодно проводили летние месяцы. Когда Джон работал куратором, они жили в Кноссе на вилле Ариадны в непосредственной близости от Дворца Миноса.
В самом слове «Крит» заключено какое-то волшебное очарование. По крайней мере, так казалось мне после того, как я узнала миф о Тесее и Ариадне, истории о том, как клубок красных ниток помог Тесею, убившему Минотавра, выбраться из лабиринта. Позже мне приходилось видеть критскую живопись. Цветы и летающие рыбы на стенах дворца, морские чудовища Я водяные растения на изящной глиняной посуде, фрески, на которых изображены атлеты и акробаты, совершающие прыжки и сальто над разъяренными быками, — это изумительное, необыкновенно реалистическое искусство восхищало меня.
До этого утра я никогда не задумывалась над тем, какую роль сыграли отдельные образцы критской живописи в истории мирового искусства, и, конечно, не имела ни малейшего представления о той связи, которая существовала между прекрасным критским искусством и «новым» искусством Египта, достигшим наивысшего расцвета при Эхнатоне и именно здесь, в его городе.
Мы с трудом пробирались по песку, и Гильда рассказывала. Незадолго до восшествия на престол Эхнатона, по всей вероятности в период царствования его отца, материковая Греция сокрушила былое могущество Крита. Его мощный флот был уничтожен, Кносс и другие города острова сожжены. Возможно, что в мифе о Тесее, вступившем в единоборство с Минотавром в его логовище, в какой-то степени отражены события, происходившие в действительности.
Критские художники, почувствовав приближение бури, бежали, вероятно, на юг и нашли приют в Египте, где в то время правил отец Эхнатона. В изгнании они продолжали создавать свои чудесные картины, и египетским художникам, может быть, довелось видеть, как работали эти мастера. Как бы то ни было, именное в этот период в египетском искусстве появляются черты нового. Художники в значительной степени преодолевают формализм и абстрактность в манере изображения жизни. Обычные повседневные предметы приобретают в их глазах самостоятельное значение, а не играют роль деталей какой-нибудь картины, прославляющей подвиги фараона. В Фивах, во дворце, построенном отцом Эхнатона, сохранились фрагменты фресок, уже носящих черты этого нового стиля. На объемно и искусно воспроизведены утки с ярким оперением, плывущие среди кустов лотоса.
Мы находились уже примерно на полпути от места раскопок. Справа от нас пальмы несколько отступали к реке и в образовавшейся песчаной бухте беспорядочно громоздились низкие стены. Я видела немало развалин, и мне было нетрудно определить, что это нагромождение скорее походило на руины одного огромного здания, чем на развалины нескольких домов.
— На полу в южной части дворца есть чудесные образцы живописи нового стиля, — сказала Гильда. — Вы ведь видели репродукции Петри?
Я ответила утвердительно и добавила:
— Где-то здесь должен находиться Северный дворец с его изумительными стенными росписями. Я видела прелестные цветные репродукции. Где же он был расположен?
Гильда остановилась и рассмеялась.
— Здесь, — сказала она, указав на разрушенные стены.
— Это и есть Северный дворец?!
Я вспомнила восхитительные репродукции Северного дворца в одном журнале: стены сплошь расписаны нежно-зелеными болотными цветами и травами, странные хохлатые птицы, голуби и алкиды сидят или порхают в листве.
И все это найдено здесь, на выжженных солнцем пыльных руинах. Я попыталась на миг представить себе, как выглядел когда-то этот дворец. Изящный, красивый, ослепительно белый на фоне синего неба.
Он возвышался над деревьями, а в его чудесных комнатах мягко светились живые фрески.
Вскоре мы пришли к месту раскопок, которое напоминало разворошенный муравейник. До нас доносились выкрики, а иногда и обрывки странных, непривычных для моего слуха песен. Работа, по-видимому, велась в двух местах. Высохшее вади пересекало Северное предместье и под прямым углом уходило к реке. Джон сказал, что в древности здесь, возможно, проходил канал, по которому припасы подвозились к самому сердцу предместья. Судя по шуму и пыли, основные раскопки проводились по ту сторону вади. Однако небольшая группа рабочих, которой руководил куфти, энергично работала в юго-западном углу предместья. Здесь же был и Джон. Мы подошли к нему.
Оказалось, что раскопки ведутся в квадрате Т.34. Песок все еще заполнял комнаты почти на три фута. Чем ближе к полу, тем сложнее становится работать. Там обычно и обнаруживается масса предметов нередко очень хрупких: ступени для омовения, плиты кирпичные скамейки. На этой стадии копать нужно не торопясь и очень осторожно.
Землекоп брал у одного из смуглых эльфов веревочную корзину и ставил ее между коленями. Затем, ловко взмахивая мотыгой, наполнял ее песком. Мальчишка подхватывал корзину и присоединялся к нескончаемой веренице ребят, двигавшихся к свалке. Этот участок надо выбирать очень продуманно: он не должен быть слишком удален от места работ и под ним не должно быть погребено какое-либо здание. Ребята направлялись к дальнему концу свалки, сбрасывали свою ношу — и с хохотом и пением, размахивая корзинами, поспешно возвращались за новой порцией.
Тонны песка переносились с удивительной быстротой. Песок в комнатах заметно убывал, но ребята не проявляли ни малейших признаков усталости. Это движение — от дома вверх по насыпи и снова назад — напоминало какой-то очаровательно непринужденный сельский танец. Красные, голубые, оранжевые, зеленые и белые бумажные платья мелькают вдоль серо-бурой насыпи, пыль поднимается столбом, и вот ребята уже возвращаются и, украдкой поглядывая на нас блестящими глазами, в сотый раз опускают пустую корзину к ногам отцов.
— Прекрасный дом, — удовлетворенно сказал Джон. — Взгляните! — Он взял какой-то предмет, лежавший на низкой стене среди картонных коробок и блокнотов. Ничем не примечательная база колонны, подобная тем, какие были у нас в доме, только гораздо меньше. Можно ли судить о характере постройки по такой незначительной детали?
— Она куда меньше тех, которые мне приходилось видеть, — отважилась заметить я.
— Вот в том-то и дело, — сказал Джон. — А где мы обычно находим их?
— На полу, конечно, — ответила я, чувствуя, что проверяется моя сообразительность.
— Верно, — подтвердил он. — Но мы же еще не приблизились к полу, ее нашли сегодня утром, примерно в трех футах над уровнем земли, едва сняв верхний слой. Как вы это объясните?
Джон и Гильда испытующе смотрели на меня. Я напряженно думала. База маленькой колонны, очевидно, не имеет ничего общего с полом, иначе ее не могли бы найти там, где нашли.
— Вероятно, она была на верхнем этаже и упала, когда дом рухнул.
— Да, — одновременно отозвались они. — И конечно, — продолжал Джон, — колонны верхнего этажа были значительно тоньше, а их базы — легче. Это делалось для того, чтобы уменьшить давление на потолок нижней комнаты. Ставлю вам пять с плюсом. Идемте, пора подумать о ленче.
Я чувствовала себя подобно Алисе на Безумном чаепитии21. Сначала меня проэкзаменовали, потом пригласили на ленч в самом неподходящем для еды месте — среди кирпичной пыли. В этот момент появился старый Умбарак со свистком в руке. Он взобрался на самую высокую точку насыпи и, убедившись, что все его видят, медленно извлек из складок одежды колоссальные серебряные часы. Этот предмет оказывает на рабочих магическое действие. Некоторое время Умбарак гордо смотрел на них, кажется, держа их циферблатом вниз, а затем, бросив быстрый проницательный взгляд на солнце, дал свисток.
Стук мотыг и споры прекратились. Ребята с визгом посыпались вниз. Облако пыли осело. Мужчины, потягиваясь, стряхнули прилипшие песчинки и неторопливо побрели в тень, взяв маленькие узелки с хлебом, луком, финиками и бутылками воды. Томми, Ральф и Хилэри, вспотевшие и разгоряченные, подошли к нам. Со стороны дома приближалась небольшая процессия, две девушки, нанятые для услуг, несли на голове большие деревянные ящики. Девушек сопровождал юный Абу Бакр, который шел налегке.
Когда они приблизились, мы уже сидели в тени, прислонившись к низкой стене. Девушки быстро опустили ящики к нашим ногам и удалились, посмеиваясь. Абу Бакр неспеша распаковал один из них и выдал каждому тарелку (горячую!), стакан, вилку, хлеб и даже бумажные салфетки. В другом ящике оказался невероятно большой домашний пирог, все еще очень горячий, несмотря на долгий путь. Заглянув в ящик, я убедилась, что Абд эль Латиф в совершенстве знает принципы походной кулинарии. Ящик был набит соломой и тугими валиками бумаги, посередине уютно разместилось блюдо с пирогом.
За пирогом были поданы фрукты, шоколад, лимонад и сигареты. Потом мы сидели, мирно беседуя, а Абу Бакр снова запаковал все в ящик и отправился домой, за ним покорно следовали его подчиненные.
Как приятно было сидеть у древней стены дома и, вдыхая согретый солнцем воздух, прислушиваться к разговорам! Ральф и Хилэри провели большую часть утра за нивелиром, им помогал молодой Кассар Умбарак. Томми наблюдал за раскопками по ту сторону вади. Джон намеревался поработать у большого дома, а вечером обойти территорию раскопок.
— Как же называется большой дом? — спросил Ральф.
— T.34.I, — ответил, смеясь, Джон.
Старый Умбарак приложил к губам свой свисток. Пыль снова закружилась в воздухе, и ребята возобновили свой стремительный бег. Гильда и я возвратились домой.
Вечером объявились первые пострадавшие: у одного был порез, у другого — ссадина на носу, у третьего — фурункул. Привели и двоих ребятишек с воспалением глаз. Как я потом заметила, этому заболеванию больше подвержены дети, чем взрослые. Мне становилось нехорошо, когда я осматривала красное, сильно распухшее мокрое веко, налитое кровью глазное яблоко. Обычно глаз промывали раствором теплой воды с борной кислотой.
Мне казалось, что такой метод лечения абсолютно неэффективен, но скоро я убедилась в его быстром и благотворном действии. Иногда к нам прибегал какой-нибудь мальчишка и, широко улыбаясь, показывал пальцем на глаза с чистыми белками. И я с трудом узнавала в нем жалкого малыша с гноящимися распухшими глазами, которого приводили ко мне две или три недели назад.
После ужина меня посвятили в тайны регистрации. В этот день было найдено несколько предметов. Они, как и база колонны, вероятно, находились в комнатах верхнего этажа. Сейчас они покоились на столе под лампой, каждый на листке бумаги с точными координатами того места, где был обнаружен. Вот небольшой высеченный в форме утки камень (гиря, по словам Джона), две бронзовые иглы с неповрежденными ушками, обломок бронзового лезвия и несколько раскрашенных бусин и амулетов.
Вначале было очень странно дотрагиваться до таких вещей: ведь ни одна живая душа не касалась их с тех пор, как они были утеряны кем-то из подданных Эхнатона.
На столе лежала пачка больших квадратных карточек со штампом «Тель-эль-Амарна»; в них заносились данные о каждом предмете: дата и место находки, серийный номер, краткое описание, размеры, материал, а также рисунок в масштабе или в натуральную величину. Карточка была единственным документом, содержавшим исчерпывающие сведения о предмете, необходимые для дальнейшей работы над ним и публикации. Подобные карточки обычно заполнялись на новые или особо интересные типы бусин, амулетов, гнезд перстней либо глиняных печатей. Мелкие вещи, которые тысячами отливались в глиняных формах, регистрировались по-другому. Ценность этих предметов, например колец с выгравированными на них именами Фараонов, несколько иная, чем предметов, обладавших индивидуальными особенностями. Они служат вещественными доказательствами, несомненно, очень важными для археологов, так как подтверждают другие данные, на основе которых делаются заключения. Фаянсовые кольца, матовые, желтые, зеленые или голубые, каким бы красивыми они ни были, особенной ценности не представляют. Но попробуем подсчитать, сколько раз имя одного фараона упоминается на перстнях, обнаруженных при раскопках на данном участке. И что же? Это имя встречается здесь чаще, чем имена других фараонов. Проведем подобный подсчет еще на каком-нибудь участке — результат будет иной. Теперь уже можно делать вывод.
Принцип регистрации таких предметов был предложен Ф. Петри и с незначительными изменениями используется до сих пор. Он удобен, эффективен и несложен.
Джон наколол на стену огромные щиты, на которых рядами были изображены различные типы предметов древности. Два ряда отводилось керамике, третий — бусинам, еще один — кольцам. Каждый предмет, имел классификационный номер и дополнительный, указывающий на его разновидность. Когда бусина, амулет или перстень поступали для регистрации, мы прежде всего искали соответствующий тип на щите и, если они там оказывался, помечали в журнале, что в такой-то комнате обнаружена бусина такого-то типа. Вот и все, и никаких карточек! Бусины потом раскладывались по коробкам — а вдруг на досуге захочется нанизать их? Если же предмета данного типа на щите не было, его удостаивали карточкой и рисовали на щите.
Часто при раскопках попадались глиняные формы, в которых отливали фаянсовые бусы, амулеты и гнезда колец. На них сохранились отпечатки пальцев древнего формовщика в тех местах, где он прижимал мягкую глину к модели. Металлические предметы отливались в каменных формах, которые могли выдержать значительно более высокую температуру.
Первая регистрация продолжалась недолго — предметов было мало. Джон и Гильда классифицировали бусы и амулеты, мы с Томми заполняли карточки.
Томми, упорно твердивший, что не умеет рисовать и справится с подобной работой, продемонстрировал чудеса точности и аккуратности, он строго выдерживал масштабы и измерял предметы во всевозможных ракурсах. Я же была довольно высокого мнения о своих графических способностях, однако другие, видимо, не разделяли его и посоветовали мне забыть о живописи.
Было очень приятно регистрировать первые находки. Я решила, что мы уже все закончили, когда Томми вдруг сказал: «Ну, а теперь нам предстоит пронумеровать предметы — проставить на них номера карточек». Эта работа также требовала внимания и точности, номер следовало наносить несмываемыми чернилами отчетливо и так, чтобы не испортить внешнего вида предмета. Самые мелкие находки мы помещали в маленькие коробочки с номерами на крышках или снабжали их крохотными дощечками-ярлычками, если можно было прочно прикрепить их. Наконец, мы осторожно перенесли наши драгоценные находки в кладовую и аккуратно разложили их на полке. Я очень гордилась ими, хотя они только подчеркивали пустоту полок.
После того как мы смахнули со стола пыль и песок, Джон произнес тоном, достойным фараона: «Мое величество желает пива». Пиво появилось, а за ним с молниеносной быстротой и Хилэри с Ральфом, чертившие в канцелярии. Все были радостно настроены: работа началась и, кажется, успешно. Мы даже придумали нашу эмблему раскопок — гербовый щит, на котором были изображены голова куфти, скрещенные мотыги и маленькие корзины.
Глава восьмая
Раскопки были в полном разгаре. Несмотря на яростные протесты окружающих, Томми и Хилэри перестали бриться и очень скоро отрастили отвратительные бороды. Они заявляли, что экономят время. Однако Джон продолжал ежедневно бриться, что не мешало ему работать не меньше других. Он фотографировал все значительные архитектурные детали и даже отдельные мелкие предметы, добиваясь максимальной четкости изображений.
Перед съемкой Джон обычно раскладывал найденные предметы на черном материале и так укреплял треножник, чтобы объектив аппарата был обращен вертикально вниз. Он сам проявлял все негативы в ужасной темной комнатушке. Гам вечно противно пахло. Пленки в особых пакетах отсылали в Каир, где их печатали. Представьте наше волнение, когда пакет возвращался. Хорошие снимки передавали мне, и я раскладывала их по полкам, предварительно перенеся номер негатива на карточку, а номер карточки — на негатив и фотографию. Мелкие вещи одного типа фотографировали на одну пленку. И вот перед вами большая группа почти одинаковых предметов, прижатых друг к другу на одной пленке, — попробуйте сличить их с рисунками на карточках! Многое зависело от соблюдения масштабов при зарисовке предмета. Иногда только это позволяло отличить, например, бронзовый рыболовный крючок от лезвия для ножа. Такая работа отнимала обычно уйму времени. Кроме того, мне приходилось составлять и выписывать счета, печатать письма и отчеты, чистить и даже реставрировать предметы. Иногда я в течение одного-двух дней не появлялась на раскопках и, наблюдая через окно за желтым облаком пыли, жалела, что не нахожусь там. Иногда же мне очень хотелось привести в порядок пачку фотографии, над которыми я усердно трудилась, а меня срочно вызывали на раскопки, и работа откладывалась на вечер.
Так бывало, когда находили хрупкие предметы, с которыми надо было обращаться очень осторожно. Обычно куфти прекрасно справлялись и сами. Но иногда они не успевали, и тогда вызывали Гильду или меня, а то и обеих вместе.
Итак, однажды я не спеша расшифровывала стенографические записи первого отчета, который Джон намеревался послать в лондонскую газету. Вдруг за моей спиной вырос юный Кассар Умбарак с запиской в руке. Гибкий, веселый и энергичный, он стоял, готовый ринуться обратно. «Кажется, мы нашли ожерелье, — прочла я в записке. — Пожалуйста, если можете, приходите и займитесь им!» Кассар помчался назад, а я, захватив с собой маленькую чертежную доску, карандаши, щетки, пинцет, нож, защитные очки и шляпу и помахав на прощание рукой канцелярии, зашагала под палящими лучами солнца. Когда-то я снова вернусь к этому отчету! Между прочим, это даже интересно заниматься одновременно разными и необычными делами: только что я стучала на машинке, а теперь иду раскапывать древние ожерелья.
Дом, где обнаружили находку, был почти очищен, только у одной из стен оставалась куча щебня. Здесь уже нашли несколько фаянсовых колец, одно — с картушем22 Нефертити. В щебне матовым блеском мерцали бусины. «Тут, — сказал Джон, — находится, очевидно, основная часть ожерелья. Не попытаетесь ли вы восстановить его узор, а я тем временем перейду со своей бригадой в следующий дом». — «Хорошо», — ответила я, убедившись в том, что вряд ли вернусь сегодня к ожидавшему меня отчету.
Собрать ожерелье не так-то просто. Для этого требуется известная сноровка, ведь нити распались, и каждый брелок приходится поднимать отдельно. Иногда же ожерелье падало так неудачно и бусины так перепутывались, что восстановить узор было невозможно. Но в этот день нам повезло. Прежде всего я осторожно сдула пыль с лежавших наверху бусин — так делали куфти, за работой которых мне приходилось наблюдать. Сквозь тонкую кисею песка просвечивали красные, желтые, зеленые и белые пятнышки. Очень осторожно проведя по ним щеточкой, я снова сдула пыль, И вот передо мной на песке почти целое ожерелье. Оно упало сюда свыше трех тысяч лет назад! Ничего, что на одном конце его бусины перепутались, зато остальная часть длиной не менее трех дюймов прекрасно сохранилась, и этого было достаточно, чтобы увидеть узор. Нити истлели, но подвески и бусины лежали веером в три ряда, в том порядке, в каком они были нанизаны. Я знала, что от меня зависело спасти для археологии этот крохотный осколок древности.
Подвески имели форму фруктов и цветов. Тут были и очаровательные белые маргаритки, и голубые кисти винограда, и лепестки лотоса, с кончиками цвета мальвы, и ржаво-красные гранаты. В этих простых и естественных красках вновь проявилась очарование искусства Амарнского периода. Я сидела на корточках и, не отрываясь, глядела на ожерелье. Вдруг я вспомнила мое ожерелье, которым так восхищалась в детстве, — маленькие белые маргаритки с желтыми сердцевинами, соединенные тонкой ниткой зеленых бусинок. Лежавшее передо мной ожерелье тоже, конечно, принадлежало очень юному существу. Кто-то с таким же чувством восхищения носил эту красивую вещицу. Каждый раз, когда мы извлекали очередные находки, я удивлялась, как жители Ахетатона умудрялись терять так много вещей. Но где же мое ожерелье из маргариток? — вдруг подумала я. — Ведь, может быть, через три тысячи лет кто-нибудь, разрывая заросшие травой насыпи над территорией Лондона, доберется до развалин, которые именовались когда-то Блюмсберри, и набредет там на мое маленькое трогательное ожерелье.
Я предавалась мечтам, а работа стояла. Наконец, чары рассеялись, и я усердно принялась восстанавливать узор ожерелья: набросав на чертежной доске его схему, записала чередование цветов, так как некоторые подвески и бусины одинаковой формы имели разный цвет, затем стала поднимать бусины и укладывать их в нужном порядке на доске рядом со схемой.
Всю вторую половину дня я рылась в куче щебня, собирая затерявшиеся бусины. Работа шла очень медленно. Я боялась повредить какую-нибудь другую нить с иным узором. Одно неосторожное движение — и груда обвалится, а вместе с ней рассыплются бусины, и тайна сложного узора останется неразгаданной. На этот раз второго ожерелья не оказалось, но я нашла предмет, который был частью найденного раньше ожерелья: маленький плоский треугольный кусочек фаянса кремового цвета, украшенный крошечным изогнутым цветком лотоса — зеленым, имеющим оттенок цвета, мальвы. В верхней его части была одна, а в нижней — три дырочки, в них продевались три ряда нитей. Сзади ожерелье, видимо, соединялось застежкой или тонким шнуром, продетым в верхние дырочки на фаянсовых пластинках.
В конце рабочего дня Кассар вместе с другим юным куфти с невозмутимым спокойствием перетащили доску в дом, не сместив ни одной бусинки. Это было тем более удивительно, что я все время вертелась у них под ногами. Мальчики опустили свою ношу в комнате для древностей, где ей предстояло дожидаться регистрации, и весело убежали домой ужинать.
Несмотря на усталость, я никогда еще не была так счастлива и довольна собой, как в тот вечер. Я попросила Абу Бакра принести мне «тишт» (разговорник уверял, что так называлась плоская жестяная ванна). Он отправился за ней, почтительный, как всегда. Однако мне показалось, что мальчик как-то странно усмехнулся. Очень скоро он принес тишт, наполненный горячей водой, поставил его на пол и вежливо удалился. Передо мной стояла сковородка! Теперь только я узнала, что слово «тишт» означает здесь «сковородка».
В том-то и состоит трудность изучения языка, что египтяне слишком вежливы, чтобы указать вам на ошибки. Если они уловили смысл ваших слов, они не поправят вас. Наоборот, не желая ставить вас в неловкое положение, сами постараются употребить ваши неправильные выражения. А может быть, эти простые, непосредственные и веселые люди не упускают случая пошутить? За время пребывания в Амарне я, должно быть, изрядно повеселила семейство Абу Бакр! Представляю себе, как юный Абу Бакр, вернувшись вечером в кухню, серьезно докладывает своему дядюшке Абд эль Латифу, что леди опять принимает ванну в сковородке, а дядюшка, помешивая суп, от души хохочет. До ужина еще оставалось время, чтобы осмотреть бронзовые предметы, которые я помогала чистить. В темной комнатке стоял большой сосуд с раствором сегментовой соли. Инкрустированные предметы из бронзы в течение нескольких дней лежали в нем, постепенно теряя вековой налет красивой голубовато-зеленой окиси и вновь обретая первоначальную темно-коричневую окраску и заостренность краев. Тут были тяжелые налопатники мотыг, очень похожие на современные, лезвия разных форм, чаши весов, гири. Иногда попадались изящные перстни, рыболовные крючки, иглы, щипцы, ножницы и клещи. Каждый день я пристально всматривалась в эти предметы, надеясь найти хоть какую-нибудь надпись, чтобы порадовать истосковавшегося Томми. Один или два раза на внутренней стороне гнезд перстней оказались имена Эхнатона. Официальное его имя было Неферхеперура Уаенра, что означало «Прекрасны творения Ра, неповторимо, единственное, не имеющее себе равных создание Ра». Имя же Эхнатон, которым он сам себя назвал, переводится «Угодный Атону».
Со времени дешифровки Розеттского камня23 филологов очень интересует вопрос, каким образом изображения насекомых, солнечных дисков, птиц, воды, обозначавшие сначала лишь отдельные фонетические звуки, стали выражать такие обобщенные абстрактные понятия, как «правда», «красота», «сила» и «бытие». Моих знаний иероглифов хватало только на то, чтобы прочесть некоторые имена фараонов. Но даже это приводило меня в восторг!
Как хотелось мне верить, что бронзовые перстни с надписями принадлежали Эхнатону, но, к сожалению, они были найдены в домах Северного предместья, и, вероятнее всего, их носили его подданные, стремившиеся доказать преданность фараону.
В ванне лежала еще очаровательная бронзовая лягушка с маленьким колечком на спине для цепочки. Казалось, она чувствовала себя превосходно в этом необычном пруду и постепенно меняла окраску, превращаясь из светло-зеленой в темно-коричневую. Были тут амулеты в виде уток и даже обломок туловища крокодила. Не удивительно, что птицы и речные животные попадались так часто — ведь река всегда играла очень важную роль в жизни Египта. Ее воды растекались по каналам далеко вглубь страны, обильно орошая щедрую землю, покрытую садами и полями. Река была великим водным путем.
Даже немногочисленные бронзовые предметы рассказали много интересного о быте жителей Ахетатона. Наверно, хорошо, что я была такой неопытной и неискушенной, когда приехала в Амарну. Это давало мне небольшое, но бесспорное преимущество перед профессионалами: я слишком мало знала, чтобы воспринимать события как нечто закономерное и естественное, и они действовали на меня подобно электрическому току. Я не сличала найденные предметы с заметками в блокноте и не сравнивала их с уже известными, поэтому ничто не мешало мне восторгаться даже самыми мелкими находками и, мысленно переносясь в древнюю столицу Эхнатона, жить жизнью той эпохи. Это странное ощущение прошлого усиливалось от сознания того, что комнаты, в которых мы работали и жили, когда-то принадлежали «им». Они переступали тот же порог, ведущий в столовую. И казалось, не Хуссейн (который обычно звал меня к ужину) появлялся на пороге, а кто-то другой — в белой юбке с бантовыми складками, с браслетами на голых локтях, в сандалиях и с тюрбаном на густых черных волосах.
С профессиональной точки зрения я изучала историю в обратном порядке: сначала на практике, а потом — по книгам. Но мне этот путь казался самым верным Прикосновение к предметам, которыми пользовались простые люди прошлого, вызывало у меня непреодолимое желание как можно больше узнать об их жизни. Те же, кто управлял ими, интересовали меня куда меньше.
Все это ворвалось в мою жизнь так внезапно — бронзовые предметы, которые я сейчас чищу, и восхитительное ожерелье. И кажется мне, что в нашей столовой я увижу незнакомых людей, которые сидят на возвышениях, устланных подушками, а перед ними в высоких золотых вазах разложены фрукты. Девушка у жаровни с раскаленными углями держит в маленькой смуглой ручке ножницы (которые я только что вынула из раствора) и водит ими по куску белого полотна. Это будет новое платье, она наденет его, когда пойдет в храм, а может быть, и на смотр красоты, где фараон вручит самой красивой золотые дары. Я вижу, как девушка кроит, сосредоточенно хмуря брови, изящную форму которым она придала маленькими щипчиками, мокнущими сейчас в растворе. Сидящий рядом с ней мужчина вот этими самыми щипцами (конечно, я узнаю их!) добавляет немного угля в жаровню, а затем берет коробку с блестящими маленькими крючками, которые я осторожно чищу щеткой, и прикрепляет их к неводу. А его миниатюрный амулет-лягушка покачивается на тонкой цепочке, отражая пламя огня. Эти мирные, дружелюбные люди беседуют, тихо посмеиваясь.
В соседней комнате послышались негромкие голоса и шаги, луч света скользнул по темной стене и прервал мои грезы. Я заглянула туда и даже обрадовалась, когда увидела старину Хуссейна. Улыбаясь, он вешал лампу над столом, на котором уже стоял плотный ужин. Опустив все бронзовые предметы в раствор, я отправилась в теплую, знакомую столовую. Она выглядела, как и обычно: циновки на песчаном полу, деревянные табуретки и складные стулья, грубые деревянные столбы, подпирающие потолок, а через широкую дверь можно было видеть краешек скал и пальмы да серебристую полоску воды.
У двери стоял Хилэри и «беседовал» с прирученной им собакой. Он питал глубокую нежность к животным, порой даже слишком глубокую. Бывало, срочный чертеж одиноко лежит на чертежной доске, а Хилэри, склонившись над ползущей по стене ящерицей, восторженно изучает ее с помощью электрического фонарика и лупы. Он, пожалуй, был единственным, кто не испугался мохнатого голодного, похожего на волка пса, который прибежал с засеянного поля и с лаем бросился на нас. Прошло немало дней, пока Хилэри подружился с ним. Лаской и лакомыми кусочками он терпеливо завоевывал его расположение. Пес сначала перестал бросаться на нас, потом Хилэри попытался приблизиться к нему, когда пес жадно обнюхивал заманчивый кусочек, не решаясь схватить его. И вот однажды Хилэри положил руку на лохматую голову непокорного, не встретив злобного отпора: пес жадно пожирал брошенные на землю куски. Наконец, он покорился: косматая морда доверчиво легла на колени Хилэри, и щетинистый хвост неуклюже завертелся, выражая непривычное расположение.
Пес стал отличной сторожевой собакой. Хилэри назвал своего лохматого любимца Леонардо в честь известного археолога Леонардо Вулли, проработавшего в Амарне несколько лет после первой мировой войны. Я от души веселилась, когда Хилэри, оперируя полудюжиной с грехом пополам освоенных им арабских слов, пытался растолковать соль этой шутки Хуссейну, который, конечно, помнил сэра Леонардо Вулли. Дело в том, что Wooleey означает «волосатый». Но мне кажется, что Хуссейн так ничего и не понял, хотя хохотал до упаду.
За ужином шел разговор о доме Т.34.1. Дом обещал быть интересным; в конце коридора, ведущего в комнаты его западного крыла, был обнаружен отличный портал двери, выложенный красным камнем. Оба косяка и притолока обвалились, когда рухнули отсыревшие стены. Один косяк раскололся в двух местах, но все части были найдены.
— Я думаю, следует восстановить этот портал, — сказал Джон. — Нечасто удается найти отдельные детали постройки да еще в таком хорошем состоянии. Порталы всех остальных дверей также каменные, но мы пока не очистили главный, ведущий в центральную комнату; возможно, он окажется еще наряднее.
На следующее утро все, кто мог, собрались у дома T.34.I. Хотелось посмотреть, как будут поднимать тяжелые красные косяки. Разбитый косяк скрепили цементом, и затем тяжелая притолока с изогнутым в верхней части карнизом была подтянута на веревках и водворена на свое место. Старинный портал высотой шесть футов, прочный и в то же время изящный, без всяких украшений, снова стоял на прежнем месте.
Затем Джон распорядился надстроить стены с каждой стороны до уровня притолоки: дополнительная опора не помешает, а весь пролет будет выглядеть по-иному. Мы и не заметили, как из северной части дома прибежал мальчик. Там группа рабочих под руководством Томми расчищала проход к порталу, который вел из северного вестибюля в центральную комнату. Не пожелает ли мудир прийти и посмотреть, если ему не трудно? Мудир пожелал пойти, а за ним и мы.
Песка уже не было. На пороге лежал огромный кусок известняка продолговатой формы не менее семи футов длины и около трех ширины. Он был слишком велик и громоздок для порога и уж конечно, не мог быть частью наружной стены дома.
— Вероятно, еще одна притолока, — сказал Джон, — упала на лицевую сторону. Возможно, наружная сторона тоже покрыта краской.
Притолока, должно быть, весила несколько сотен килограммов. Пыхтя от напряжения, четверо рабочих дюйм за дюймом приподнимали один край и осторожно подсовывали под него четыре коротких шеста, затем, вращая шесты, постепенно проталкивали их к противоположному краю. Когда рабочие отдыхали, они подкладывали под известняк камни. При падении в притолоке образовались трещины, и сейчас несколько кусков отвалилось. Неужели вся притолока распадется на куски, когда ее поднимут?
По команде Али Шераифа рабочие, неторопливые и осторожные, вновь склонились над шестами. Им не менее чем нам, хотелось поднять притолоку неповрежденной, и я твердо убеждена, что ими руководило не только желание получить хороший бакшиш. Мы застыли в напряженном молчании. Когда передний край приподняли над землей примерно на шесть дюймов и подсунули дополнительные подпорки, Томми растянувшись на земле во весь свой длинный рост, насколько мог, просунул голову в узкую щель.
— Подпорки надежны? — встревоженно спросила Гильда.
Из-под притолоки донесся приглушенный возглас изумления.
— Есть что-нибудь интересное? — волнуясь, спросил Джон.
Томми неторопливо вытащил голову, изогнулся, как верблюд, и принял, наконец, сидячее положение, упираясь пятками в землю, он глядел на нас. Его лицо, напоминавшее сейчас спелый помидор, сияло, очки блестели на солнце.
— Она окрашена в светлые тона, — сказал он дрожащим голосом и, наконец, выдал свой козырь:
— Она сплошь испещрена надписями!
Джон, Ральф и Хилэри тут же устроили совещание, нетерпеливо заглядывая под притолоку. Мы с Гильдой решили подождать, пока представится возможность рассмотреть ее с более надежных позиций. Рабочие, смекнув, что их ждет нечто весьма приятное, начали смеяться и петь. Али Шераиф, взволнованный до глубины Души, но внешне спокойный, вновь принялся руководить подъемными операциями.
Наконец, огромная притолока приняла вертикальное положение. Ее осторожно прислонили к порогу двери, которую она когда-то украшала.
Это был чудесный момент. Значительная часть работ уже позади, и мы нашли немало предметов, однако они в лучшем случае помогали нам строить остроумные, но бездоказательные предположения. Надписи — другое дело. Они давали конкретный материал. Так, кристально чистый голос солиста предельно четко доносит те слова, которые невнятно и неясно были пропеты хором.
Вместо того чтобы идти завтракать, мы уселись вокруг притолоки, а Томми и Джон занялись расшифровкой надписей. Огромный изогнутый карниз был разукрашен вертикальными полосами — красными, зелеными и голубыми. Верхний край притолоки оказался поврежденным, но обломки лежали тут же, и было ясно, что потребуется только немного цемента, чтобы придать ей прежний вид.
Под карнизом, по всей ширине притолоки, тянулся круглый лепной фриз красного цвета, украшенный голубой росписью. Сохранились и три панели. Центральная, вдвое большая, чем боковые, содержала десять картушей: в центре — четыре очень больших с именами Атона и по краям — по три меньших. Картуши Эхнатона находились между ними и четырьмя большими центральными картушами. В крайних боковых картушах по одному разу упоминалось имя Нефертити. Я умышленно подчеркиваю «имя» Нефертити и «картуши» Эхнатона, так как его имя было тщательно стерто еще в древности. Я, конечно, знала, что религиозные воззрения Эхнатона были встречены враждебно. Но тут впервые увидела наглядное доказательство этой вражды. Имя еретика было безжалостно уничтожено; имя же его супруги, «Прекрасной дамы», поддерживавшей и разделявшей все новые идеи Эхнатона, сохранилось. Чем же объяснить такое различное отношение к этим царственным супругам? Над этим вопросом предстояло поломать голову моим терпеливым наставникам.
Центральная панель была довольно условна и обычна, боковые же — очень своеобразны и интересны. На каждой из них имелась искусно вырезанная и раскрашенная фигура человека на коленях, лицо его обращено к центральной панели; простирая ввысь руки, он воздавал хвалу священным именам Атона. Над каждой фигурой мы увидели по шесть столбцов иероглифов, и именно они помогли нам узнать имя и род занятий владельца дома Т.34. I. Его звали Хатиа. Как гласила надпись, он занимал довольно высокий пост надсмотрщика за работами и обладал, видимо, значительными средствами, если мог построить дом с таким великолепным каменным порталом.
Как перенести притолоку в дом — вот что занимало наши мысли после полуденного перерыва. Никто почему-то заранее не подумал об этом, мы замечали, что решение любой новой и сложной задачи обычно приходило как-то неожиданно и само собой. Его предлагал не какой-нибудь наиболее сообразительный рабочий или куфти, — нет. Оказывается, подобный способ знали все, и он был единственным, которым, разумеется, и следовало выполнить данную работу. Причем колесный транспорт никогда не применялся. Все решал простой, тщательно продуманный и очень эффективный совместный труд.
В наше время ученые ломают голову, стремясь найти формулы, точно определяющие лучшие способы перемещения тяжестей. Простые египетские крестьяне, конечно, не знали их, и, тем не менее, усвоили принципы, помогающие им выполнять тяжелую работу с наименьшей затратой энергии. Они действовали так, как будто знали о достижениях современной науки. Им помогал в этом многовековой опыт, приобретенный ценой многократных усилий и ошибок. Постепенно, с незапамятных времен, создавались совершенные способы перемещения тяжестей.
И я верю, что эта врожденная сноровка передавалась из поколения в поколение еще с того времени, когда устройство грандиозных сооружений потребовало умения поднимать и перемещать крупные камни.
По-моему, мы были свидетелями чего-то поистине необычайного: эти проворные и смуглые люди, казалось, легко и просто заменяли машины. Какая-то тайная сила воодушевляла их, заставляя бурлить текшую в их жилах кровь далеких и славных предков. Те тоже ценой огромных усилий ворочали большие каменные глыбы, перевозя их из каменоломен сначала на волокушах, а потом на плотах по реке на равнины, где медленно вырастали первые гробницы-пирамиды и храмы фараонов.
Вот и сейчас способ доставки притолоки к дому был найден. Нам, привыкшим к колесному транспорту, нелегко было бы решить эту проблему, а они поступили очень просто: соединили короткие шесты так, что получили четыре длинных (примерно по пятнадцать футов каждый), а потом сделали из них огромный квадрат, крепко связанный в местах пересечения веревками. Он был значительно меньше притолоки. Рабочие придвинули это сооружение вплотную к ней, так, что концы одной пары поручней касались ее, и очень легко и осторожно вкатили притолоку по этим поручням на своеобразные носилки, используя в качестве роликов короткие шесты.
Вскоре огромный камень, слегка перехваченный для безопасности веревками, уже покоился на носилках. Около сорока человек — примерно по пяти у каждого конца поручней — подняли, словно перышко, все сооружение на плечи.
Джон направился вперед, ему надо было успеть домой раньше, чем начнется выгрузка. По команде Али Шераифа все двинулись за ним, словно отряд, идущий за своим командиром. В сущности это так и было. Джон шагал домой гордый и ликующий.
Вскоре облако пыли скрыло от нас носильщиков, но еще долго доносились звуки импровизированной хвалебной песни в честь удачного дня и прекрасной находки — песня помогала им идти. Может быть, немного бессвязная и монотонная, она была близка по духу трудовой матросской песне: сначала солист запевал куплет, призывающий к работе, а потом хор мощно подхватывал припев: «Ей-богу, нам везет! Ей-богу, нам везет!»
Когда мы добрались домой, притолока уже была прислонена к внутренней стене во дворе и покрыта холстом. Кругом царила тишина и спокойствие, удачный день близился к концу.
Не прошло и половины сезона, а мы могли уже доложить об успехе. Может быть, этот припев будет относиться и ко всему сезону, и мы тоже запоем «Ей-богу, нам везет!»
Глава девятая
Как-то вечером, регистрируя находки, я обратила внимание, что на кольцах неоднократно встречается имя Сменхкара, и попросила Томми рассказать мне раз и навсегда о родословной семьи Эхнатона.
— О «раз и навсегда» и говорить не приходится, — сказал он. — Мы можем только строить предположения, используя известные даты жизни и царствований членов семьи Эхнатона. Новые данные в любой момент могут опровергнуть наши догадки. Но пока этого не случилось, нет оснований считать их ошибочными. Большинство принимает генеалогическое дерево, составленное Джоном, и, вероятнее всего, оно правильно.
— А кто же такой Сменхкара? Кем он был и когда появился на исторической сцене?
— Отцом Эхнатона, — начал терпеливо Томми, — был Аменхотеп III.
— Мне это известно, — робко сказала я, — но Сменхкара…
— Отцом Эхнатона, — повторил Томми, входя в роль профессора, которого осмелились прервать, — был Аменхотеп III.
На этот раз я промолчала.
— Предполагают, что, кроме Эхнатона и Нефертити, его детьми были Сменхкара и Тутанхамон, которому было не более трех лет, когда скончался Аменхотеп. Его дочь Ситамон могла быть матерью Сменхкара и Тутанхамона или же их сводной сестрой от другой матери.
О том, что Эхнатон и Нефертити — брат и сестра, я слышала раньше.
— Вы знаете также, что у Эхнатона было шесть дочерей, — продолжал Томми, — Меритатон, Макетатон, Анхесенпаатон, Нефернеферхуатон, Нефернеферура и Сетепенра. О трех младших нам известно мало, мы знаем их только по семейным портретам. Старшая — Меритатон вышла замуж за сводного дядю Сменхкара, вторая — Макетатон умерла в молодости, а Анхесенпаатон стала женой своего дяди Тутанхамона, который был моложе ее.
Ральф начал прислушиваться. Он делал первый набросок реконструкции дома Хатиа.
— А чем прославился Сменхкара? Почему его имя встречается на перстнях и других предметах?
— После женитьбы на дочери Эхнатона он стал одним из претендентов на трон, — ответил Томми.
— Почему? — спросил Хилэри, пытаясь заставить свою любимую ящерицу пить пиво через соломинку.
Томми, казалось, был приятно удивлен тем, что у него так много слушателей.
— Это вполне естественный шаг фараона, у которого подрастал наследник. Брак Сменхкара с дочерью фараона делал его притязания вполне законными. Но, мне кажется, были и другие причины.
Я надела фаянсовое кольцо, на котором было выгравировано имя Сменхкара. Мы нашли его сегодня и только что прикрепили ярлычок.
Томми продолжал:
— Из амарнских табличек известно, что Эхнатона не интересовали войны, он не стремился к тому, чтобы держать в повиновении враждебные элементы за пределами своего государства, и даже не помогал лояльным вассалам24. В результате империя теряла пограничные территории.

Голова старшей дочери Эхнатона Меритатон. Песчаник Берлинский музей
— Так вот, сначала Эхнатон и Нефертити проявляли полное единодушие по отношению к жрецам Амона и старой религии. Их идеалом было — жить ради красоты, правды и справедливости. Нефертити до последних дней жизни осталась верна этим идеалам. Эхнатон же незадолго до смерти понял, что его дела на границах империи и внутри государства очень плохи. Чтобы удержать престол, он решил пойти на компромисс и уладить свои разногласия с влиятельными лицами из Фив.
— Ты думаешь, к тому времени он разочаровался в своих идеях? — спросил Ральф, делая миниатюрный набросок притолоки.
— Трудно сказать что-нибудь определенное, — ответил Томми, — несомненно одно: в конце концов, он понял, что даже будучи фараоном, не может распространить новые идеи по всей империи. Вероятно, это и было причиной разлада между ним и Нефертити. А предпринятые Эхнатоном шаги только ухудшили их отношения.
Замолчав, Томми выглянул за дверь. Там царила полнейшая тишина, только Леонардо, дремавший у стены, иногда лениво лаял на саранчу, когда та чересчур близко подлетала к нему.
— Что же он предпринял? — спросила я наконец.
— Признав Сменхкара претендентом на престол, он отправил его и Меритатон в Фивы — это было шагом к примирению.
— А портреты Сменхкара и Меритатон сохранились? — спросила я.
Томми порылся на полке и достал книгу «Религия и искусство Амарны»25. Открыв нужную страницу, он протянул мне книгу через стол. Я увидела изображение квадратной каменной плиты, на которой были высечены две фигуры. Молодой человек в широкой короткой юбочке с бантовыми складками, на груди — ожерелье, на голове — царские символы, в правой руке — жезл. Одна нога свободно согнута в колене. Очень юный и болезненно нежный. Длинная тонкая шея, острый подбородок, впалая грудь и слабые руки. Казалось, это хрупкое тело находится во власти скрытого, медленно прогрессирующего недуга. Лицом к нему стоит маленькая девушка. Она выглядит крупнее юноши. У нее, как и у всех дочерей Эхнатона, удлиненная форма головы и тонкая шея. Держится она прямо, хорошо сложена, а ее маленькое личико дышит энергией. Она протягивает своему супругу букет цветов.
— По всей вероятности, это Сменхкара и Меритатон, — сказал Томми.
— Он мне очень напоминает Эхнатона, — сказала я, — а она — Нефертити. Как вы думаете, они действительно были похожи?
— Почти наверняка мастеру удалось передать семейное сходство, — ответил он. — Основной принцип искусства того периода заключался в точном воспроизведении того, что видит художник. Художники, должно быть, получали указания от самого Эхнатона. Вероятно, мужчины этого рода страдали от какого-то физического недуга, и это отразилось на их внешности. Женщины имели странную форму головы, однако все они, как и Нефертити, выглядели гораздо энергичнее и живее, чем их братья и мужья. Кажется, наследственный недуг почти не коснулся их.
— А что произошло с теми, кто остался дома после отъезда Сменхкара? — спросил Ральф. Он только что нарисовал очаровательную маленькую колесницу перед крыльцом дома Хатиа. Головы коней, поднявшихся на дыбы, были украшены перьями.
— Вот здесь и помогают статистические данные, — сказал Томми. — Почти на всех предметах, найденных в различных местах этой застроенной в наиболее поздний период территории, а также и в нашем доме есть имя Нефертити. Довольно часто попадаются имена Тутанхамона и его жены Анхесенпаатон.
— А Эхнатона?
— По-моему, только раз, — ответил Томми, — вывод очевиден.
Джон с кружкой пива в руке вышел из темной комнаты и опустился на стул, прислушиваясь.
— И они ра-зош-лись, как в море корабли, — запел он строфу из своего обширного, но допотопного мюзик-холльного репертуара.
— Они действительно разъехались? — спросил Хилэри.
— Да, — сказал Джон, — почти перед самым концом его царствования. Она могла покинуть его сама, а может быть, ее изгнали. Вернее — второе, потому что в южной части местности имя Нефертити повсюду стерто, а имя Меритатон заменено другим. Но ей все же удалось привезти сюда Тутанхамона и всех своих сторонников.
— Ну, а как объяснить исчезновение имени Эхнатона? — спросил Ральф. — Неужели ярые атонисты зашли так далеко, что начали уничтожать его? Например, на притолоке дома Хатиа оказалось стертым только имя Эхнатона. Похоже на то, что он, а не культ стал непопулярен.
— По всей вероятности, при жизни Эхнатона его имя не трогали даже здесь, — сказал Томми, и Джон в подтверждение кивнул головой. — Свое недовольство Эхнатоном они выражали лишь тем, что перестали высекать его имя на перстнях и скарабеях.
— Кроме того, как бы Нефертити ни относилась к мужу, она продолжала оказывать ему почести, достойные фараона, — прибавил Джон. — Возможно, что Хатиа после смерти Эхнатона, которая последовала вскоре после разрыва с Нефертити, по собственной инициативе стер его имя с притолоки. Ведь Нефертити могла прожить еще много лет, побуждая молодого брата фараона хранить верность Атону. Хатиа, видимо, решил принять сторону сильных. Его позицию можно сформулировать так: «Долой предателя, и да здравствует атонизм». Он был человеком состоятельным и, вероятно, немного циничным, и к его стремлению обезопасить себя, полагаю, примешивалось желание причинить как можно меньше вреда своей красивой новой притолоке.
— Но все обернулось по-иному. Правда, когда Тутанхамон вступил в брак с дочерью Эхнатона и унаследовал престол, ему было всего десять лет, и Нефертити продолжала оказывать значительное влияние на ход событий. Но это был уже закат. Вскоре в Фивах умер Сменхкара26, а затем скончалась и сама Нефертити.
— Смерть Эхнатона и Нефертити означала конец атонизма. Но ненависть к покойному фараону и его ереси с особой силой вспыхнула лишь несколько лет спустя, когда в Фивах умер восемнадцатилетний Тутанхатон (он был известен, конечно, под именем Тутанхамона) и вновь установились старые порядки. Ведь как-никак Тутанхамон еще с детства воспитывался в духе новых идей, и даже самые ярые реакционеры побаивались оскорблять память людей, близких правящему фараону. Но через некоторое время после смерти Тутанхамона они, опасаясь, что сторонники крамольной религии вновь поднимут голову, принялись яростно уничтожать все, что напоминало об «этом преступнике» Эхнатоне. Заодно огню и мечу предавались нарисованные и высеченные символы религиозного культа Атона.
Мне было известно, что смерть Нефертити нанесла последний удар Ахетатону. Жрецам и влиятельным липам из Фив ничего не стоило уговорить легкомысленного юношу изменить имя и резиденцию. Уединению Ахетатона он предпочел пышность и блеск древней столицы.
Никто не знает, где покоятся останки Нефертити и были ли ей оказаны почести после смерти. Но жила Нефертити здесь, совсем недалеко от этого старого дома, в котором мы сейчас сидим и беседуем о ней, и последние, горестные дни своей жизни она провела в этих местах, превратив их в оплот атонизма.
Наш дом, расположенный рядом с северной резиденцией, названной Нефертити «Дворцом Атона», был значительно больше остальных частных домов. Возможно, он принадлежал кому-нибудь из ее друзей или же одному из министров молодого фараона.
Нефертити, наверное, бывала в этом доме. И люди, сидевшие, как сидим мы сейчас, в этой комнате, слышали порой восторженный шепот: «Нефертити. Это Нефертити. Прекрасная дама идет!» И вот она входила в эту дверь, сутуловатая, преждевременно состарившаяся, печальная, но все еще очень царственная и по-прежнему преданная своим идеям. Она беседовала с хозяином, а ее маленькая, обутая в сандалию ножка покоилась на базе колонны, около которой сижу я.
Мягко очерченный рот стал более суровым, чем в те счастливые дни, когда она была «величайшей любовью Эхнатона», «владычицей его счастья, один звук голоса которой вселял радость в каждого, умиротворяя сердце царя».
Я потеряла нить разговора, оказавшись во власти чар давно умершей царицы. Известно, что безудержная фантазия, основанная на скудных и неполных данных далекого прошлого, может затмить правду. Но иногда яркая вспышка воображения оживит холодные, немые тени былого и восполнит факты, которых так не хватало для познания истины. А к судьбе Нефертити и ее семьи почему-то нельзя было остаться безучастной. Слушаешь рассказ о жизни этих далеких и чужих людей, и они, как живые, встают перед тобой с их надеждами, разочарованиями, горестями. Конечно, воображению в данном случае помогают великолепные живописные и скульптурные портреты, выполненные в реалистической манере. Но если портретов даже не существовало, странное обаяние царственных личностей Амарны сохранило бы свою власть над нами.
Как похожи они были друг на друга: одинаковая манера прямо держаться, высокие скулы, чуть запавшие щеки, округлый упрямый подбородок, глубоко сидящие глаза под тяжелыми веками. Даже за юношеской мягкостью лиц Тутанхамона и его молодой супруги угадываются те же черты.
Разговор продолжался.
— Противники Эхнатона особенно свирепствовали в гробницах, — рассказывал Джон, — уничтожались портреты фараона и надписи с его именем. Несомненно, те же фанатики разрушили и саркофаг Эхнатона.
Я спросила, были ли обнаружены какие-нибудь следы могилы Нефертити.
— Нет, — ответил Джон, — но существует удивительная, хотя и малодостоверная, история о том, что в конце прошлого столетия видели людей, уносивших из Большой пустыни золотой гроб. Никаких доказательств того, что Нефертити была похоронена в гробнице Эхнатона, нет. Отсутствует даже твердая уверенность в том, что он сам погребен там. Правда, в восьмидесятые годы XIX века в гробнице был найден труп мужчины, похороненный спустя несколько лет после мумифицирования. Я полагаю, нам следует осмотреть некоторые гробницы, в особенности усыпальницу Эхнатона. Мне кажется, ее надо вскрыть еще раз. Может быть, удастся найти что-нибудь для разгадки этой тайны. Гильда и я поднимались туда в прошлом году, и вам всем стоит посмотреть ее. Завтра у нас день выплаты. Давайте отправимся туда послезавтра с утра.
На следующий день после выплаты денег рабочие отдыхали, а нас ждали «хвосты». Однако очень часто мы оставляли их, надеясь выкроить для них время в будни, и отправлялись на экскурсию, так как это был единственный день, который мы могли посвятить осмотру местности за пределами раскопок.
Было уже поздно. Ящерица Хилэри спала на его манжете, пригревшись в теплых лучах лампы и вытянув крохотные лапки. На мордочке ее застыла блаженная улыбка. Томми поставил на полку «Религию и искусство Амарны», торжественно откланялся и удалился в свою каморку, где списывал и переводил надписи с глиняных печатей, изразцов, винных кувшинов и горшков для мяса, так часто попадавшихся теперь при раскопках.
Собрав уже зарегистрированные находки, я отнесла их в кладовую древностей, и при свете электрического фонарика разложила по полкам. Фаянсовый поднос, осколки перстней, а иногда и целые кольца сверкали, переливаясь всеми цветами радуги. Я добавила к ним бледно-голубой перстень с именем Сменхкара.
Здесь покоились немые осязаемые частицы далекого прошлого — драгоценный клад для тех, кто умеет проникать в их неразгаданные тайны. Полки заполнялись, и пробелы в моих скудных знаниях — тоже.
Спустя два дня, ранним утром мы отправились к окутанной мраком расщелине, за которой раскинулась огромная долина. Дорога, извиваясь, вела из города в самое сердце Большой пустыни. Целый час по зыбкому песку и щебню мы добирались до скал. В них чернели входы в гробницы знатных лиц и видных сановников. Я знала, что южнее, за расщелиной, куда мы и направлялись, находятся еще другие усыпальницы, которые никогда не были использованы, многие остались даже незаконченными.
Прежде чем вступить в мрачное вади, я оглянулась назад: утреннее солнце еще не коснулось своими лучами молчаливой и мрачной долины. Вдали, на фоне пальм, отчетливо вырисовывались руины центральной части города. Полоска голубой реки напротив Северного мыса поблескивала между вершинами деревьев. Две крохотные ослепительно белые баржи огибали мыс. Там все было согрето ярким приветливым солнцем. Эта картина показалась мне особенно прекрасной, ведь я должна была целый день бродить по крутым холмам, забираясь то в одну, то в другую гробницу. Это отнюдь не радовало меня. Я не любила лазить и по обычным горам, здесь же скалы были испещрены входами в кривые и темные коридоры, что усиливало мой ужас. Больше всего мне нравятся Норфолькские просторы, где небо никогда не бывает скрыто от глаз, а самая высокая точка — это ласкающий глаз парус, который плывет по ту сторону тростников.
Все же мне было не так страшно, как в тот день, когда я, стиснув зубы и подавляя в себе желание удрать, последовала за Джоном внутрь Великой пирамиды. Любопытство может пересилить страх: мною владело непреодолимое желание увидеть место, где был погребен Эхнатон. И потом — это важнее всего — меня окружали уже не просто вежливые, незнакомые люди, а друзья, которым я доверяла. Жизнь была очень интересна и увлекательна. Наша маленькая группа, преодолев все трудности, превратилась в сплоченный и образцовый коллектив. У нас был свой стиль работы. Мы быстро подружились, и то, что мы открыли друг в друге, понравилось нам. В нашем доме часто звучал смех, а мелкие размолвки, неизбежные в лагерной жизни, быстро улаживались и забывались.
Наконец, наш маленький отряд достиг долины Фараонов — она и теперь носит это название. Казалось, мы совершили посадку на затемненной стороне луны и почали в новый мир. Мертвая тишина. Со всех сторон широкую долину окружали крутые скалы. Ни воды, ни растительности. Кругом огромные вековые валуны. Высоко над нами скалы уже сверкали на солнце. Мы двигались в тени по древней тропинке. Лучи солнца постепенно соскальзывали с гор и, добравшись, наконец, земли, медленно ползли нам навстречу. Солнце, победив мрак этой бесплодной долины, ударило нам в лицо. Сразу стало невыносимо жарко. Стелющаяся струя горячего воздуха настигла нас. Мы свернули вправо в погоне за быстро убегающей тенью. Но вскоре тень увлекла нас слишком высоко на отлогий склон хребта. Идти стало очень трудно. Если и дальше гнаться за тенью, придется карабкаться вверх по рыхлой каменистой осыпи. Мы спустились вниз и пошли по долине, теперь сплошь залитой солнцем. Здесь, по крайней мере, можно было быстро идти. И тут я подумала, что сейчас способна примириться даже с прохладной темной гробницей и длиннющим коридором, который ведет в самый центр горы, где никогда не бывает солнца.
Так мы шли около трех миль. Затем пейзаж изменился. Долина резко сузилась и повернула на восток. Слева и справа тянулись небольшие глухие ущелья. Джон, Гильда и Томми, шедшие впереди, остановились. Джон палкой показал, что они сворачивают влево; мы вяло махнули в ответ и прибавили шагу, сохраняя полное молчание, а Ральф плелся сзади и время от времени хныкал: «Мамочка, хочу на ручки».
За поворотом долина стала еще уже. Она постепенно поднималась к северо-востоку. Солнце немилосердно жгло нам спины, но вдруг в лицо подул легкий ветерок. Возможно, он летел сюда издалека, из Суэцкого залива, над высоким пустынным плато. Хилэри уверял, что он чувствует запах соли. Мы были почти у цели. Наши направляющие остановились у подножия скалы, слева от ущелья, и стали медленно взбираться по ней. Когда мы вскарабкались наверх, они уже сидели в тени на маленьком плато, прислонившись к скале. В ней темнело большое отверстие, обрамленное древней каменной кладкой. И казалось, в этом заброшенном, иссушенном солнцем месте слышится печальный голос, и эхо вторит ему: «Моя гробница здесь, в Восточной скале».
Мы вошли и постояли несколько секунд, пока глаза не привыкли к темноте. Ход вел вниз. По краям его были высечены ступеньки, а гладкий скат посредине примерно в ярд шириной служил когда-то для спуска огромных саркофагов. Мне показалось, что сейчас мы находимся на уровне земли. Перед нами опять тянулся длинный коридор. Мы зажгли электрические фонарики. Еще одна лестница, короче первой, но с более крутыми ступенями и таким же гладким скатом посредине. Мы вошли в очень маленькую комнату с неровным рыхлым полом, расположенную, должно быть, значительно ниже уровня земли.
— Здесь действительно очень глубоко, — сказал Джон, — это ложная гробница, она высечена перед настоящей, чтобы обмануть грабителей. Однако тут снова все засыпано. Необходимо провести расчистку и внимательно осмотреть все.
Я торопливо пересекла комнату, от души надеясь, что Джон не вздумает заняться этим сейчас.
Дальше коридор внезапно расширился и перешел в очень большое помещение. Это и был погребальный зал. Пустой, осыпающийся, жалкий. Большой столб служил дополнительной опорой потолку. Слева на стене мы заметили несколько сильно поврежденных росписей. Джон сказал, что скала была рыхлой и ее сначала штукатурили, а потом уже наносили роспись, — вот почему она так плохо сохранилась. Но нам все же удалось различить фигуры Эхнатона, Нефертити и принцесс. Преклонив колена, они воздавали хвалу солнцу. Его благодатные лучи касались протянутых в молитве рук.
Мы двигались почти бесшумно в этом странном месте. Позднее мне довелось побывать в знаменитых гробницах в Фивах: я видела блестящие, красочные, прекрасно сохранившиеся рельефы, высеченные в прочной скале; коридоры с отточенными углами; профессиональных гидов; электрическое освещение; туристов в темных очках, снующих туда и обратно. И все же именно эта невзрачная, разваливающаяся гробница Эхнатона, в которой побывала лишь небольшая горсточка людей с того дня, когда рабы с трудом водворили сюда саркофаг, особенно запечатлелось в моей памяти. Эта одинокая могила так живо напоминала всю историю жизни фараона. Непохожий ни телом, ни душой на своих ближних, он при жизни держался обособленно от них, восстал против косных традиций, а после смерти покоился в одиночестве, вдали от близких и народа, преследуемый ненавистью фиванских фанатиков, которые надругались над телом и сожгли его.
Когда мы вышли из погребального зала, я подумала о плакальщиках, возвратившихся назад, к солнечному свету, и о тех, кто ждал у выхода, чтобы опечатать внутреннюю дверь. Выполнив свою печальную миссию, они медленно поднялись по ступенькам, как это делаем мы сейчас, захватив веревки, катки и ломы, а затем стали закрывать наружный вход. Только поздно вечером они закончили работу. Их приглушенные голоса и звуки шагов затихали по мере того, как рабочие углублялись в долину. И вот все смолкло, наступила полная тишина. Только в самом сердце Восточной скалы осталась окутанная леденящей пеленой забвения неподвижная фигура, суровая, всеми заброшенная, одинокая.
Возможно, рабочие говорили друг другу шепотом: «Что-то произойдет теперь? Вернется ли обратно из Фив молодой фараон? Говорят, он уже в пути. Ну что ж, если так, мальчик (да хранит его Бог!), возможно, будет здесь, и, значит, у его трона будет снова стоять Она. Как странно, что можно опять, не опасаясь, говорить о Ней…»
Над лестницей, слева в стене чернело отверстие: здесь был похоронен еще кто-то. Тень тяжелой утраты омрачила счастье царской семьи в радостные дни согласия: умерла вторая дочь, принцесса Макетатон. Мы вошли в комнаты, где была погребена принцесса. В последней из трех усыпальниц, по всей вероятности, когда-то находился саркофаг. От него не осталось и следа, но украшенные росписями стены рассказывали простую, по-своему неповторимую историю о тяжелой утрате и скорби семьи. Вот родители, у маленького катафалка, оплакивают свою дочь, вместо шести с ними всего лишь пять дочерей, и младшую держит на руках кормилица. Затем перед нами мумия, нарисованная около балдахина, и, наконец, под ним.

Нефертити. Верхняя часть статуи из известняка. Берлинский музей
И вот мы наверху. Небо над устремленными ввысь скалами показалось нам в эту минуту удивительно синим, и лучи солнца приятно обогрели застывшие тела и души.
Я не знала, о чем думали остальные, когда, поев и отдохнув, мы двинулись в обратный путь. Говорили мало. Возможно, им тоже казалось, что нас сопровождают тени тех, кто присутствовал на похоронах Эхнатона и шел обратно этой же дорогой в те далекие годы. Раскаленная, иссушенная солнцем долина, вероятно, выглядела точно так же.
К вечеру, обогнув последний отрог скалы, мы вновь очутились в знакомом нам мире. Только освещение стало другим. Далеко, по ту сторону равнины, лежал город, уже подернутый вечерней дымкой. Мое отношение к нему изменилось. Я никогда больше не смогу смотреть на него глазами равнодушного наблюдателя. Я буду думать о нависших над ним мрачных тенях, сожалеть о том, что борьба против косных традиций была обречена на неудачу. Блуждая по сонным, залитым солнцем улицам и домам города, откапывая восхитительные предметы, я буду постоянно помнить о темной расщелине и тяжелой зыбкой дороге, ведущей к одинокой, оскверненной могиле «грешника».
Глава десятая
Погода менялась. Наступил январь. Настоящий хамсин приходит лишь в начале марта, но и теперь уже временами с юга налетал сухой знойный ветер; он приносил тучи горячего песка, которые заволакивали солнце и меняли цвет неба. Скрипучий песок был повсюду: на столах, стульях, книгах. От него пересыхала кожа. Он проникал сквозь плотно закрытые окна конторы и сыпался на бумагу, забивался в пишущую машинку и прилипал к еще не высохшей туши. В то утро я подвела баланс и обнаружила, что наших средств в лучшем случае хватит еще на месяц. А Джон надеялся пробыть здесь недель шесть или даже восемь, до начала хамсина, который вынудит прекратить раскопки. Конечно, эта новость вряд ли его обрадует.
Призрак финансового кризиса постоянно преследует небольшие экспедиции, вроде нашей. Нам приходилось рассчитывать на частные пожертвования да на те скромные суммы, которые могло выкроить само Общество. Стоило некоторым богатым покровителям отказаться от нас — и мы пропали. Если бы жертвовали маленькие суммы, но регулярно, можно было бы планировать кампании на несколько сезонов. Однако надеяться на то, что многие англичане заинтересуются будничной стороной археологии и пожелают расстаться со своими деньгами, было рискованно. Каждая эффектная находка, несомненно, вызывает оживление; сначала пробуждается интерес, а затем поступают и деньги. Так было, например, с гробницей Тутанхамона. Но даже и в этом случае возбуждение через несколько лет улеглось, и пожертвования сократились.
Научные итоги нашей экспедиции были вполне удовлетворительными: работа велась уверенно и энергично, ее результаты тщательно регистрировали, и о них писали исчерпывающие отчеты. Мы обнаружили немало любопытных и даже первоклассных находок. Но во всем этом не было ничего такого, что побудило бы английских граждан, размахивая бумажниками и чековыми книжками, осаждать порог нашего Общества, лишь бы любой ценой задержать нас в поле.
Поэтому наш руководитель не знал, вернется ли он сюда следующей осенью или нет, тратить ли драгоценное время на раскопки каждой лачуги (в любой из них, как бы это ни казалось маловероятным, можно найти что-нибудь важное) или поверхностно осмотреть большую территорию, выбирая наиболее интересные по виду дома. Я знала, что последний метод внушал Джону отвращение. Он отстаивал свой первоначальный план — полностью изучить за этот сезон Северное предместье, а такая работа была почти не под силу нашему маленькому коллективу. Хилэри и Ральф целыми днями вели съемки, а по ночам чертили планы. Чтобы помочь им, Джон и Томми брали на себя львиную долю утренних дежурств в поле, а это означало — через сутки подъем в половине шестого и шестнадцатичасовой рабочий день. Напряжение начинало сказываться. У Ральфа последние дни был очень усталый вид.
Гильда и я делали цветные копии украшений, найденных на балках одного из домов. Приятное занятие, будь у нас побольше времени. Но нас словно кто-то подгонял, стоя за спиной.
Мои нерадостные размышления были прерваны. Пришел Ральф. С минуту он тщетно старался открыть аптечку, затем опустился на стул.
— Она заперта, — сказала я. — Что случилось? Он уставился на меня. Лицо его было посеревшим и грязным.
— Решил, что лучше умереть здесь, — сказал он устало. — Право же, мне очень плохо.
Я поставила ему градусник. Было неприятно видеть, как темная полоска ртути ползет далеко за красную черту.
— Слегка повышена, — сказала я осторожно. — Вам нужно лечь.
— Ну-ка, покажите, — попросил он. — Я вижу по вашему лицу, что температура высокая.
Я протянула ему термометр. Секунду он неумело вертел его в руках, затем нахмурился.
— Тридцать восемь и один, — пробормотал он. — Так я и думал. Ну что ж, нечего и пытаться работать. Я почти ослеп от головной боли и уже день или два неспособен начертить прямую линию. Пойду посижу в столовой, там прохладнее.
— В постель, — сказала я. — Мы навестим вас во время чая. Марш в корзину, Бертран!27
Он улыбнулся, с трудом встал и пошел к себе. Когда мы с Гильдой пришли к нему, его била дрожь, но он твердил, что после ужина встанет и закончит срочный план дома Т.36.36. Мы посоветовали ему не валять дурака.
— Надеюсь, он поправится, если немного отдохнет, — неуверенно сказала Гильда, когда мы вышли из его комнаты. — Джон очень расстроится. Мы срываем план. Утром он говорил, что нам до зарезу нужен еще один человек для наблюдения за раскопками. А вместо этого у нас один выбывает.
Она пошла за аспирином и ячменным отваром, а я налила бутылку горячей воды и отнесла Ральфу.
Я вернулась в канцелярию. Вечерело. Вид за окном не вселял бодрости. Яростные порывы ветра обрушивались на дом; горячая песчаная пелена скрывала от глаз небо; пальмы, покрытые толстым слоем пыли, сердито качались. Из облака пыли медленно выплыли Джон, Томми и Хилэри. Мне показалось, что Джон слегка хромает. Что еще стряслось?!
Через несколько секунд он тихо вошел в комнату, положил фотоаппарат и блокноты и, не говоря ни слова, вышел. Я пошла в чертежную, где Хилэри укладывал планшет и рулетку.
— Как Ральф? — спросил он.
— Он вряд ли сможет работать в ближайшие дни.
— Ну, а я не смогу взять на себя ничего больше, кроме чертежей, — сказал Хилэри с отчаянием, — Джон же намерен завтра приступить к новому дому и усадьбе.
— Что с ним произошло?
Он удивленно посмотрел на меня.
— Джон утверждает, что чувствует себя прекрасно, но как вы умудрились узнать?
— Он хромает и ходит мрачный, — ответила я. — Что случилось?
— В полдень, осматривая стенную нишу, он придавил коленом большого скорпиона, — сказал Хилэри. — Видимо, тот здорово его укусил. Сначала ему было очень скверно, но потом он заявил, что чувствует себя лучше, хотя, по-моему, опухоль еще не спала. Он не хотел говорить всем об этом.
Мы отправились в столовую пить чай. Джон уже сидел за столом, но к еде не прикасался. Я знала, что сильный укус скорпиона чреват очень серьезными последствиями. От него даже может умереть ребенок. Джон был очень бледен, но спокоен. Гильда, конечно, узнала обо всем, а Джон только что услышал о Ральфе. Я от души надеялась, что в этот злосчастный вечер мне не придется говорить с ним еще и о наших финансовых затруднениях.
— Ты думаешь, ему до завтра не станет лучше? — взволнованно спросил Джон Гильду.
— Очень жаль, Джон, но об этом и говорить нечего, — ответила она. — Даже с нормальной температурой после такого приступа он не сможет работать на участке. Я думаю, что дня три или четыре вам придется обойтись без него; и потом мы даже толком не знаем, что с ним. Тебе самому с твоим коленом стоит передохнуть денек.
— Невозможно, — сказал он упрямо. — Завтра я буду совершенно здоров. Если нам придется замедлить темп сейчас, мы сможем наверстать после, останемся здесь немного дольше намеченного срока, ну, предположим, еще недель на восемь, начиная с сегодняшнего дня.
Вот оно, приближается!
— Я полагаю, мы осилим это, не так ли? — продолжал он, обращаясь ко мне. — Я имею в виду деньги.
Ну что мне оставалось делать?
— Я занималась сегодня подсчетами, Джон. Боюсь, что наше положение не очень хорошее. С тех пор, как мы наняли еще двадцать пять рабочих, одна заработная плата составляет примерно шестьдесят фунтов в неделю. Насколько я понимаю, денег хватит от силы на пять недель. Чтобы продержаться восемь, нам нужно, по меньшей мере, еще двести фунтов.
Наступило тягостное молчание. Когда капитану не везет — не везет всей команде. Я видела, как он попробовал прикинуть, можно ли в пятинедельный срок закончить раскопки Северного предместья при плохой погоде и с уставшими людьми, и понял, что это нереально. К физической боли, от которой он еще не оправился, прибавилось чувство разочарования.
— Так, все ясно, — тихо сказал наконец Джон. — Что ж, ничего не поделаешь. Раскопаем сейчас все, что в наших силах, и будем надеяться, что возвратимся сюда будущей зимой и с большими средствами.
Мы наблюдали, как он мучительно старался вновь обрести почву под ногами.
— Нам необходимо теперь же подумать, как за лето раздобыть деньги. Надо постараться сделать нашу выставку особенно привлекательной для широкой публики, а до тех пор, — он довольно грустно улыбнулся, — остается надеяться лишь на клад в двести фунтов.
Явился Хуссейн со свежей почтой. Дрожащим голосом он рассказал об огромных волнах на реке и о том, как мальчишки целый час переправлялись на фелюге, не решаясь поднять парус.
Томми понес Ральфу письмо и вернулся, сообщив, что он спит.
— Я думаю, нам не удастся уговорить маленького сирийского доктора из Мэллави переправиться через реку в такую погоду, — сказала Гильда. — Надеюсь, Ральфу не станет хуже до завтра.
Джон роздал письма. Несколько минут не было слышно ничего, кроме шелеста бумаги да воя разгулявшегося за окном ветра.
Немного погодя он сказал:
— Тут есть кое-что. Забавно, что это подворачивается именно сейчас.
Оторвавшись от чтения, мы взглянули на него.
— Молодой американец просит разрешения приехать сюда и помочь нам. Оплаты он не требует — мы должны только кормить его, «он интересуется археологическими раскопками». Джордж такой-то, из Луксора, турист, я полагаю.
— Похоже, что наши молитвы услышаны, — сонным голосом сказал Хилэри.
Стали обсуждать это предложение. Американец мог оказаться как совершенно никчемным, так и неоценимым. Наконец, Джон сказал, что в такой момент мы не имеем права отказываться ни от какой помощи.
— А как же быть с жильем? — спросила Гильда. Томми, вы не будете возражать, если Хилэри поселится в одной комнате с вами?
Оба согласились.
— Хорошо, в таком случае напишите ему, что он может приехать, — сказал Джон, передавая мне письмо. — И чем скорее, тем лучше. Объясните ему — и так, чтобы он понял, — что он попадет не на пикник. Пусть не рассчитывает найти здесь нечто вроде американского дома для экспедиций в Луксоре. Как много могли бы мы сделать даже на сотую долю тех денег, которые они тратят там на шеф-поваров из Швейцарии и ванные комнаты!
Перед ужином я набросала ответ. При обычных обстоятельствах Джон, вероятно, никогда не рискнул бы ввести в наш узкий круг совершенно постороннего человека. Слишком велика была уверенность, что новичок придется не ко двору. Каждый, кто жил месяцами в обособленном маленьком коллективе, знает, какие психологические бури нередко разражаются даже среди тщательно подобранных, сдружившихся людей, если у них начинают пошаливать нервы. Раздоры угрожают нормальной жизни всей экспедиции. Но случилось так, что письмо пришло в момент, когда нам была необходима помощь, и это все решило. По-видимому, в Амарне мы стали более суеверными, чем в Англии. Американец мог оказаться очень полезным, нетребовательным, сообразительным и работоспособным, и при всем том наш бюджет не уменьшался ни на один пенс. А вдруг нам удастся закончить раскопки всего Северного предместья в этом сезоне!
Я еще раз взглянула на довольно невыразительный почерк — не надо быть графологом, чтобы усомниться в деловых качествах нашего будущего коллеги.
Следующие несколько дней были безотрадными. Джон безжалостно изнурял себя, Ральф поправлялся очень медленно. Пыль все еще носилась в воздухе. Рабочие приходили к нам вечером с налитыми кровью зрачками и сухим кашлем. Плотно обмотав шалями головы, носы и рты, они прятались под деревьями или жались к реке, подальше от гонимой ветром пыли.
Наконец сильный ветер спал до легкого бриза, пыль улеглась. Небо, затянутое отвратительной мглисто-серой пеленой, приобрело сначала светло-перламутровый, а затем бледно-голубой оттенок. Мы узнали, что во второй половине дня наш новый коллега прибудет на станцию. Лодку выслали еще утром, а перед чаем я и Гильда отправились к реке. Наша крохотная фелюга под белоснежным парусом причудливой формы, который, казалось, был велик для нее, уже виднелась вдали. То всплывая, то погружаясь, она приближалась к нам по все еще неспокойной поверхности воды.
Лодка подошла совсем близко, и мы увидели, что она завалена дорогими чемоданами. Над ними, как купол, возвышалась бледно-коричневая тропическая шляпа. Мальчишки пригнали лодку к причалу, а затем протянули руки к куполу. Он стал медленно подниматься, и мы увидели, наконец, круглое бледное лицо, а ниже — красивый светлый костюм из индийского шелка. Странная фигура осторожно высадилась на берег и подошла к нам с протянутой пухлой рукой.
Мальчишки занялись выгрузкой огромного приданого. Рядом с нашим новым сотрудником они выглядели удивительно ловкими, живыми и даже красивыми: гладкая, смуглая кожа цвета меди, сильные мускулы.
Мы раньше как-то не замечали этого. Джордж сразу же проиграл в наших глазах — сравнение было явно не в его пользу.
Молодой, достаточно высокий, но сутулый, он в профиль напоминал одного из наименее привлекательных римских императоров. Жидкие волнистые волосы уже начали решительно отступать к затылку; маленький, как у попугая, нос торчал над пухлыми губами и безвольным, раздвоенным подбородком. Минуту или две мы обменивались любезностями. Затем гуськом пошли по узкой дорожке между рвом и чьей-то грядкой лука, поддерживая вялый разговор. Он намекнул, что при такой широкой реке не мешало бы обзавестись моторной лодкой; затем сказал, что странно очутиться вдруг в самом центре египетской пустыни, и, наконец, добавил, что, конечно, мечтает принять душ.
— Мы привыкли к нашей старой фелюге, — ответила Гильда.
— И не чувствуем себя такими уж оторванными от цивилизации, — сказала я, и обе мы выразили сожаление, что ему не удастся принять душ. Наступило молчание. Каждый из нас прилагал все усилия, чтобы не упасть в ров или не наступить на лук.
Как мы ни старались, разговор за ужином не клеился. Ведь англичане очень неохотно открывают ворота своей цитадели постороннему, даже родственному им по духу. Сквозь амбразуры в стенах своего замка они долго всматриваются в стоящего у ворот незнакомца, стараясь определить его характер и намерения. Если это англичанин или, по крайней мере, человек, знающий обычаи англичан, он будет терпеливо дожидаться, пока кто-нибудь впустит его. Но если незнакомец — молодой американец, он не сможет понять, почему для переброски мостика требуется так много времени.
Джордж попытался сломать лед, и это кончилось для него плачевно. Он сказал, что у каждого из нас, несомненно, есть прозвище, и ему хотелось бы знать их; его дома прозвали «доктором»: он всегда интересовался дозировками лекарств, пичкал ими своих друзей и сам принимал их в несметных количествах. Особенно Джордж любил эксперименты с подкожными впрыскиваниями.
Джон уткнулся носом в тарелку и сказал, что его медицинские познания вряд ли пригодятся в Амарне. А вот владеет ли он арабским языком? Оказалось, что нет. Он прибыл в Каир лишь две недели назад. До этого несколько недель путешествовал по Европе и одну неделю провел с американской экспедицией в Луксоре. В голосе его звучала трогательная нежность, когда он говорил о холодильниках, кортах для игры в волан28 и библиотеке с паркетным полом.
— Дело в том, что мы нуждаемся в вашей помощи, — продолжал Джон. — Нам очень нужны помощники, ведь в ближайшие недели предстоит выполнить большую работу. Завтра утром, когда вы спуститесь вниз, я покажу вам раскопки. Придется выучить язык хотя бы настолько, чтобы понять объяснения того или иного бригадира; я дам вам список наиболее употребительных слов и фраз. Вы не должны самостоятельно принимать никаких решений, не известив кого-нибудь из нас.
Эти слова были произнесены спокойным и приветливым тоном, и, кажется, Джордж только теперь понял, что к его предложению приехать сюда работать отнеслись вполне серьезно. Он впервые осознал, что, несмотря на юношеский облик и непринужденность в обращении, Джон — начальник, который дал ему распоряжение и будет продолжать давать их до тех пор, пока он намерен оставаться с нами и есть нашу, хотя и не из холодильника, но все же хорошую пищу.
Джордж удивленно посмотрел на Джона. В его взгляде мелькнуло уважение и насмешка, которой он хотел придать несколько покровительственный оттенок, чтобы не уронить свой престиж.
— Ну конечно, я выйду в поле завтра утром, — сказал он. — Мне, правда, никогда не давались языки, но я постараюсь. Кроме того, я читал об этих местах. Разве не здесь жил Тутанхамон? И ведь тут найдена голова Нефертити, не так ли?
— Здесь, — пробормотал Ральф. Он только что поднялся после болезни, еле держался на ногах и все время ворчал. — Мне кажется, вы надеетесь, что здесь вам на каждом шагу будут попадаться золотые гробы.
Джордж засмеялся.
— Я не такой уж младенец, — ответил он шутливо. И вдруг мне показалось, что мы чересчур по-английски докучливы и просто придираемся к нему. Однако тут же у меня появилось желание еще больше «придираться» к нему. Он сказал:
— Возможно, пока я здесь, вам посчастливится найти что-нибудь сногсшибательное. Я мог бы использовать это, так как договорился с газетой, там, дома, телеграфировать им обо всем, что может вызвать сенсацию.
Джон насторожился. Весьма недвусмысленно он дал понять, что права на опубликование новостей, связанных с нашими раскопками, принадлежат лондонской газете, и передача сведений в другое место нарушила бы это соглашение.
— Вам это ясно, не так ли?
— Конечно. Что ж, мне просто не повезло.
— Я весьма сожалею, но дело обстоит так. Вы ведь не журналист по профессии, не правда ли?
— О, нет, право же, нет, — ответил он. — После Принстона я все еще не выбрал себе определенной профессии. Мой папаша отправил меня путешествовать в надежде, что по возвращении я остановлюсь на чем-нибудь. По правде говоря, я мало думал об этом, но повеселился отлично. — Он хихикнул при воспоминании о «веселье», и по его физиономии нетрудно было догадаться, какого рода развлечения оплачивал его папаша.
Насколько мы поняли, его отец всю жизнь трудился в поте лица и хотел дать своему сыночку возможность поразвлечься, испытать недоступные ему самому в этом возрасте радости жизни. Мне стало жаль папашу. Я вспомнила рассказ Киплинга о маленьком избалованном сынишке миллионера — владельца судов и железных дорог. Мальчишка упал за борт и был подобран рыбачьей шхуной. Это спасло его тело и душу. Джорджу не повезло: он вовремя не свалился за борт. Все, что мы считали вполне естественным и приемлемым в лагерной жизни — походные койки, керосиновые лампы, жестяные ванны, — казалось ему невыносимым и примитивным. А ведь некоторые пионеры-археологи прошлого века жили в гробницах, спали на ящиках и питались только хлебом, кофе и сардинами. Они сочли бы нашу лагерную жизнь неуместно роскошной.
Джордж соответствовал тому типу американца, который знаком нам по художественной литературе. Поэтому мы, по крайней мере, я, со свойственной молодости ограниченностью суждений долгое время считали Джорджа типичным представителем американской молодежи. Однако вскоре мне довелось работать с другими американцами, и я поняла, что нельзя так поспешно судить о людях. Правда, и сейчас я склонна считать, что забота американцев о гигиене и личном комфорте порой переходит все границы. Мой же образ жизни, по их мнению, близок к первобытному. Все же это не помешало мне сохранить с некоторыми из них прочные, дружеские отношения.
Тогда же мы были молоды и безжалостны и не имели ни времени, ни охоты щадить самолюбие Джорджа.
На следующее утро он опоздал к завтраку; я уже собиралась отправиться в поле, чтобы снять копию с росписи на стене, когда в комнату вошел Хуссейн. Он нес свежий кофе. Чувствовалось, что он еле сдерживает смех. Следом за ним шел Джордж в полной боевой готовности. Начнем сверху: коричневая тропическая шляпа от солнца; длинная белая шея; за ней — бледно-голубая детская фуфайка с круглым вырезом и крохотными рукавчиками. Далее следовали донельзя коротенькие ослепительно-белые штанишки, еще ниже торчали худые длинные бледные ноги. Общую картину завершали крохотные, до лодыжек, голубенькие носки и белые теннисные туфли. В руке белая шитая голубым бисером хлопушка от мух.
Кажется, я пробормотала что-то неопределенное, так как он робко улыбнулся и спросил:
— Разве у меня что-нибудь не в порядке?
Я подумала о том, как будет себя вести Хуссейн при виде Джорджа, впрочем, он хорошо воспитан. Но рабочих с раскопок рассмешить было очень легко. Каждый пустяк вызывал у них смех. Нам не случалось видеть голые ноги выше колена, разве только у мальчишек-лодочников да рыбаков. Я твердо знала, что короткие трусики на длинных, худых ногах Джорджа способны вызвать переполох и даже приостановить работу. Для пользы дела и ради самого Джорджа я должна заставить его надеть брюки, прежде чем он покинет дом.
Я попыталась внушить ему, что с нашей точки зрения он выглядит, пожалуй, вполне респектабельно, но рабочие умрут от смеха. Напрасно! Мнение кучки «черных дикарей» его не интересовало. Однако, узнав, что в разгар работы площадь раскопок превращается в пыльную развороченную яму и его идеально белые трусы мигом почернеют, а мягкие туфли порвутся, он призадумался. Но сдался он лишь после того, как я заметила, что он слишком легкомысленно отдает свое тело на съедение комарам и вечером будет лежать с сильнейшим приступом лихорадки. Я сказала это случайно. А, между прочим, в начале раскопок мы все перенесли лихорадку, вызванную укусами комаров. Как бы то ни было, моя уловка удалась. Он озабоченно посмотрел на меня и очень серьезно заметил, что в его аптечке нет сыворотки против комариных укусов. В тон ему я ответила, что в таком случае в его же интересах закрыть большую часть тела. Не прошло и получаса, как он уже шел рядом со мной, одетый вполне благопристойно. На нем были брюки цвета хаки и, сверх того, ухарски повязанный ковбойский платок. Он беспокойно оглядывался вокруг, высматривая комаров.
Я верю, что работа в Амарне была для него действительно тяжелой. Ежедневные «прогулки» — миля до раскопок и миля обратно — чуть не свалили его с ног.
— Мне никогда не приходилось ходить пешком более двух кварталов, — признался он нам однажды жарким вечером и тут же свалился как сноп. — Мне стоило только заскочить в свой кар… Послушайте, а почему вы не заведете машину? Вы бы сберегли столько энергии.
Джон ненавидел машины и все виды механического транспорта. Он мирился с ними как с неизбежным злом только при переправе через реку. Обзавестись машиной в Амарне — да это кощунство. Джон промолчал. С приездом Джорджа его симпатии ко всему средневековому усилились.
Дни шли, и Джордж наконец понял, что раскопки — это, прежде всего, монотонная, кропотливая работа, которая требует терпения, исключительной добросовестности и физических усилий. Он кое-как с насмешливым пренебрежением делал то, что ему поручалось, не понимая смысла нашей работы. К эффектной находке он отнесся бы вполне серьезно.
Предметы в кладовой древностей совершенно не трогали его. Невежество мешало ему понять, что в нашей работе значительна и каждая мелочь. Никто не ставил ему в вину отсутствие знаний, но он и не считал нужным что-нибудь узнать. Естественно, он начал испытывать отчаянную скуку. Ни сенсаций, ни развлечений. Джордж рассчитывал потрясти своих друзей в Штатах рассказами о том, как на его глазах откопали какой-нибудь древний клад, а ему не оставалось ничего другого, как сочинять уморительные сценки из жизни «одичавших» англичан. Я была уверена, что с подобной задачей он сумеет недурно справиться. Джордж был не лишен чувства юмора.
По-видимому, он не смог выдержать до конца. Спустя недели три после приезда Джордж получил вызов от своего «старика». Позже, по одной — двум неосторожным фразам, мы поняли, что он сбежал бы и раньше, не будь у него веской причины: он израсходовал всю отпущенную ему «стариком» сумму и не решался покаяться. Джорджу не оставалось ничего другого, как приехать к нам и терпеливо ждать нового папашиного чека. Наконец чек благополучно прибыл в Каирский банк. Перед самым отъездом Джордж проболтался Хилэри, что именно этот желанный чек, а не вызов побудил его отказаться от первой в его жизни настоящей работы.
Как бы то ни было, Джордж печально, с оттенком некоторой неловкости в голосе, спросил Джона, не сможет ли тот обойтись в дальнейшем без его помощи. Джон ледяным тоном ответил, что попытается как-нибудь справиться.
Бедняга Джордж! Ведь это произошло в тот самый день, когда он намеревался уехать!
Глава одиннадцатая
День и на этот раз выдался унылый и ветреный. Песок хрустел на зубах. Перед глазами нависла мглисто-серая пелена. Я только что закончила копию росписи. Передо мной лежал обломок стены длиной примерно в два фута. На ярко-желтом фоне была изображена летящая птица. Глаз ее, яркий и влажный, все еще светился мягким блеском; зеленые и пурпурные перья на светло-серой шее и расправленные крылья были покрыты темными мазками. Джон просил нас, если возможно, сохранить оригинал. Задача была мудреной: следовало отделить от стены слой штукатурки всего в дюйм толщиной, на который был нанесен рисунок. Вернее, нужно было отделить стену от штукатурки — такой метод был изобретен Петри почти пятьдесят лет назад.
Прежде всего мы нанесли на очень хрупкую, покрытую краской поверхность тонкий слой специального раствора целлулоида, напоминающего лак для ногтей, затем принялись вынимать по одному кирпичи. Рядом юный куфти размешивал в чаше гипс. Как только между кирпичами и штукатуркой появлялись щели, мы заливали их гипсом. Наконец поверхность штукатурки с обратной стороны стала гладкой и белой. Но прежде чем окончательно отделить весь фрагмент, нам пришлось ждать, пока затвердеет гипс.
Мы ждали. Вдруг до нас донесся свисток Умбарака. Свисток во второй половине дня? Это показалось странным. Мы посмотрели в сторону Северного предместья. Почти рядом с посевами раскапывали маленький домик. Там сейчас собралось много рабочих. Люди спешили туда со всех сторон. Дисциплина была, конечно, забыта. «Несчастный случай!» — подумала я. Ведь ничего не стоит свалиться в глубокий ров или траншею и сломать руку или ногу.
Гильда поручила юноше охранять роспись, и мы отправились узнать, что произошло. Стена маленького дома Т.36.63 почти граничила с зеленой полосой озимого маиса. В центре толпы, собравшейся в развалинах небольшой комнаты, на коленях стояли куфти и один из землекопов. Перед ними на боку лежал большой кувшин, найденный, как нам сказали, под полом, рядом с ним — надтреснутое глиняное блюдце, служившее кувшину крышкой. Но не отверстие в полу, не кувшин и не блюдце притягивали взоры. Мы смотрели на блестящий, желтый слиток, лежащий на серовато-буром песке у темного горлышка кувшина. Куфти осторожно засунул в кувшин смуглую руку, чтобы вытащить остальное. Еще две блестящие полоски выскользнули из кувшина, сверкая на солнце. Чистое золото. Затем градом посыпались тускло-белые слитки и перстни, вероятнее всего, серебряные.
Кажется, здесь собрались все; большинство от изумления лишилось дара речи; порой раздавались восхищенные возгласы.
Позднее мы узнали подробности. Когда куфти, ведавший работами на этом участке, увидел первый брусок золота, он послал кого-то к старому Умбараку с просьбой позвать Джона. Однако старый Умбарак, почуяв что-то, явился сам, потерял от волнения голову и дал свисток. Не наделай он шума, возможно, удалось бы закрыть кувшин и незаметно перенести его в дом. Но сейчас слух о кладе молниеносно облетел все поле. По мере того как новость передавалась из уст в уста, размеры найденного клада стали фантастическими. Теперь у нас не осталось ни малейшего шанса сохранить в тайне находку действительно огромного золотого и серебряного клада. Возможно, он был зарыт каким-нибудь грабителем эпохи Эхнатона. Может быть, это были украденные и расплавленные сокровища какого-нибудь храма или дворца.
Появились еще серебряные бруски и перстни. Последним был большой слиток золота длиной около фута; за ним тонкой струйкой посыпался серый песок, В нем поблескивал какой-то предмет. Куфти поднял его и подал Джону. Это была крохотная серебряная фигурка — амулет длиной около дюйма. На спине у нее сохранилось колечко для цепочки. Мы увидели большие глаза и горбатый, точно птичий клюв, нос. На головке красовалась круглая золотая шапочка. Вероятно, амулет служил маскоттой29. Его положили сюда на счастье, чтобы он охранял клад до тех пор, пока хозяин сможет откопать свои сокровища. Неизвестно почему, но этот день так и не наступил; должно быть, человек, который наполнил кувшин драгоценностями, закрыл горлышко глиняным блюдцем и старательно зарыл его под полом своего маленького дома, но так и умер, не поведав никому свою тайну.
Внезапно все заговорили, жестикулируя, и стали расходиться. Джон поручил Хилэри доставить ценную находку домой и оставаться там до его прихода. Ральф уже был дома, трудясь, как обычно, над чертежами, а Джордж упаковывал вещи. Вечером он собирался переправиться через реку, чтобы сесть на ночной поезд.
Мы с Гильдой вернулись к нашей пленительной, но необыкновенно хрупкой птице. Джон подошел к нам. Он был встревожен. Конечно, вряд ли неожиданная находка могла доставить нам неприятности. Но все же некоторая опасность существовала. Клад могли украсть.
— В наших рабочих я уверен, — сказал Джон. — Но слух распространился за пределы района раскопок. Нелепо то, что с точки зрения археологии этот клад не представляет никакой ценности, за исключением маленького амулета. По-моему, это хетт. Все же остальное — расплавленное серебро и золото.
— Что ж, наши мечты о кладе сбылись! — весело сказала Гильда, покрывая толстым слоем ваты чертежную доску. — Ты ведь мечтал об этом.
— Это верно, двести фунтов! — Он рассмеялся. — Я полагаю, в Каире заберут все. А вдруг они и нам выделят часть? Если бы удалось обратить нашу долю в деньги, мы смогли бы продолжить раскопки в будущем году и к тому же на средства, доставшиеся по наследству от грабителя времен XVIII династии!
Очень аккуратно мы переложили фрагмент стены на чертежную доску, устланную ватой, и молодой куфти с величайшей осторожностью понес ее к дому.
Мы сложили в большой ящик все пожитки — чашки для смесей, ножи, пульверизаторы, ложки, вату, бинты и вместе с Джоном отправились домой, оставив участок на попечение Томми.
— Мистер Джордж будет локти кусать с досады, — сказал он, — и вероятно, теперь даже захочет остаться, но пусть лучше уезжает.
— Он здесь сбавил немало фунтов. Последнее время малый выглядел худым и измученным, — сказала я.
— Мне кажется, во многом виноват его папаша, — добавила Гильда. — Право, он не такой уж плохой. Не беги же так, Джон!
— Я уверен, что многое зависит от воспитания, — сказал он, сбавляя шаг. — Я сам вырос бы безнадежно ленивым, если бы мой отец с самого начала не принял соответствующие меры.
Потребовалось все мое воображение, чтобы представить себе Джона лентяем.
Дома мы застали Ральфа. Он с мрачным видом чертил свои планы и каждый раз, когда Хилэри проходил мимо чертежей, сердито ворчал. Оказалось, что усердный Хилэри поставил кувшин с золотом в кладовой древностей и теперь взад и вперед ходил около двери с револьвером в вытянутой руке. Все это доставляло ему огромное удовольствие и, видимо, производило должный эффект на семейство Абу Бакр. По крайней мере, все трое стояли у порога кухни и по очереди повторяли «Ай-яй-яй!». Джордж уже уехал.
— Но ведь поезд прибывает на станцию около десяти часов вечера, — сказал Джон. — Когда он уехал?
— Примерно полчаса спустя после моего возвращения, — ответил Хилэри. — Клад привел его в необычайное возбуждение. Он впервые оживился. Заторопил мальчишек с фелюги, и они уехали. Ральф ходил к реке провожать его, а я, конечно, не мог, — стою на страже!
— Я подумал, что кому-то все же следует проводить парня, — сказал Ральф. — Не беспокойтесь, он хорошо знал, что принес нам мало пользы. Мне кажется, он уехал раньше, желая избежать неловкости при прощании.
— Возможно, — ответил Джон. — Но я не уверен…
Томми возвратился и сообщил, что на поле все спокойно. Оказывается, рабочие до упаду смеялись над незадачливым владельцем маисового участка рядом с домом Т.36.63. Он годами привязывал своего осла к колу, вбитому в нескольких футах от поля. Именно этот кол и разбил глиняное блюдце. Каково же бедняге было узнать, что он изо дня в день «попирал ногами» несметное богатство! Свое негодование он выражал так бурно, что рабочие пришли в восторг, а Томми сокрушался, что его познания арабского языка не выходят за пределы обычной благопристойной лексики и он многое не понял.
После ужина нам предстояло отделить фрагмент с росписью от стены. Это делалось очень просто: на гипс накладывали легкую чертежную доску, а затем осторожно поворачивали весь сэндвич — две доски со слоем штукатурки между ними. Снять доску с лицевой стороны ни у кого не хватило духу.
— Ну что же, смелее, — сказал Джон, — взглянем на хорошенькую пташку!
Доску сняли. Все обошлось благополучно. При мягком свете керосиновой лампы крылья, покрытые серыми, зелеными и пурпурными мазками, по-прежнему летели по светло-желтому небу, как и раньше, светился зрачок, возможно, чуть потускневший под новым слоем лака, но все же живой и яркий.
— Хорошо! — сказал Джон. — Кстати, нам придется найти специальный ящик для погрузки ее на судно. И, я полагаю, юный Саваг заслужил бакшиш. Ему, должно быть, пришлось немало потрудиться, чтобы доставить ее в дом неповрежденной.
Джон отправился в канцелярию писать статью о находках последних нескольких недель и также о сегодняшней. Статья предназначалась для лондонской газеты; две копии направлялись в Управление службы древностей в Каир и лондонскую контору. Я принялась за обычную регистрацию находок.
Это занятие отняло у меня много времени. Когда я, борясь со сном, прикрепила последний ярлычок, мне стало казаться, что передо мной расплавленная, блестящая, рябая водная поверхность. Маленький хеттский амулет я отнесла в кладовую и положила в отдельную коробочку. Наконец-то он освободился от ответственности, тяготившей его три тысячи лет. На ночь Джон, к великой радости Хилэри, забрал клад в свою комнату и попросил одолжить ему револьвер. Хилэри с готовностью принялся объяснять устройство механизма.
— Но я не собираюсь пускать его в ход, — спокойно сказал Джон. — Мне нужно иметь какой-нибудь предмет, который оградил бы меня от вторжения. Я уверен, что ничего не случится.
— У нас же есть Леонардо, — сказал обиженно Хилэри. — Он никого не впустит в дом.
Ничего не произошло ни тогда, ни позднее. Правда, один раз Леонардо свирепо залаял. Думаю, что в душе Хилэри на мгновение пробудилась надежда, но затем вновь воцарилась давящая тишина.
Мальчишкам с фелюги было наказано, проводив Джорджа на станцию, переночевать по ту сторону реки и захватить на обратном пути утреннюю почту. Вечером следующего дня, когда я кончала перепечатывать отчеты и статью Джона, один из них бесшумно вошел в контору и подал мне пачку писем и одну или две посылки. Мальчик тут же удалился, сверкнув белозубой улыбкой. Как приятно было видеть это! В любую погоду египтяне неизменно приветливо улыбались вам.
Наверху лежала телеграмма, адресованная руководителю раскопок. Она заинтересовала меня. Я отобрала свои письма и посылку с фотоснимками из Каира и тут увидела, что к дому приближаются несколько куфти. Следом за ними в контору вошел Джон. Заметив почту у себя на столе, он взял телеграмму и нахмурил брови. Наступила зловещая тишина, слышался только шелест бумаги.
— Что ж, я ожидал этого, — сказал он, наконец, и протянул мне бумагу. Это была телеграмма из нью-йоркской газеты, направленная через американское агентство в Каире. В ней сообщалось, что газета готова.
У Джона переутомление выразилось в том, что он работал еще больше, чем обычно; он стал очень молчаливым и подчеркнуто вежливым. Гильда не на шутку беспокоилась за него.
Я была уверена, что у Ральфа вновь поднялась температура, но он отказывался мерить ее. Хилэри усиленно трудился над планом Северного предместья.
До конца сезона оставалось всего десять дней. Маленький, с морщинистым лицом столяр из Куфта уже мастерил во дворе ящики для перевозки находок в Каир. Слово «раздел» все чаще проскальзывало в наших редких беседах. По условиям концессии предметы, обнаруженные при раскопках, привозились для осмотра в Каирский музей. Директор музея и его эксперты имели право изъять все уникальные находки, достойные, по их мнению, пополнить коллекции музея. И лишь оставшиеся вещи доставались археологам, проводившим раскопки. Следовательно, руководитель археологической экспедиции должен был заранее распрощаться со всеми ценными находками. Ему приходилось лишь довольствоваться сознанием, что предмет древности найден им. Кроме того, он получал право публиковать сведения и фотографии от имени Общества, для которого он работал. Наше Общество, не располагающее достаточными средствами для работы, было очень заинтересовано в том, чтобы мы привезли в Лондон как можно больше любопытных находок. Ничто так не пленяет воображение и не вызывает желания пожертвовать какую-нибудь сумму, как интересные экспонаты на выставках. Вряд ли непрофессионал проявит энтузиазм при виде фотографии с унылой надписью: «Удержано в Каире».
Мы, конечно, признавали за крупным национальным музеем право хранить у себя уникальные древние предметы. И все же надеялись, что директор отнесется к нам снисходительно. Ведь расплывчато сформулированный закон давал простор различным толкованиям, поэтому все зависело от характера и настроения директора музея. В конце концов, какие предметы следовало отнести к уникальным? Сегодня директор говорил: «Все предметы, за исключением отлитых по форме, сделаны руками, а, следовательно, уникальны. У нас уже есть две тысячи рыболовных крючков, но этот чуть длиннее остальных, а поэтому, нам следует иметь и его». Завтра же он мог сказать: «У нас имеется серия статуэток, очень похожих на эту, найденную вами, и вы можете оставить ее себе».
Джон надеялся на такой исход. В Каире нас принял мистер Энгельбах, сотрудник Службы древностей, который, по всей вероятности, должен был присутствовать при разделе находок и давать советы директору. Он сетовал на то, что некоторые руководители экспедиций пренебрежительно относятся к требованию музея и присылают наспех нацарапанные рисунки, неясные снимки с ошибочными ссылками и т. д. «А все потому, — жаловался Энгельбах, — что они считают это бюрократической чепухой и не желают тратить на нее драгоценное время!»
Джон добивался, чтобы наши отчеты отсылались регулярно, были точны и понятны. Он подбирал четкие фотографии, а я выверяла ссылки на них. Отчасти Джон поступал так умышленно. Он надеялся, что это может повлиять на исход раздела. Пока все шло отлично. Мы узнали, что в Службе древностей нас хвалили за примерное поведение, а Джона считали образцовым руководителем. Но что будет через две недели?
Мы прилагали все усилия, чтобы выполнить намеченную программу. Джон изменил первоначальный план, предлагая провести раскопки северного угла Предместья в будущем сезоне. Ему не хотелось принимать такое решение, но он понимал, что это заставит Комитет изыскать средства еще на одну экспедицию.
— Пока мы не окончим работу на этом участке, нельзя опубликовать материалы о раскопках всего Северного предместья, — сказал Джон.
Столяр готовил шесть ящиков: один — очень прочный — для притолоки, два для росписи с птицей (первый вкладывался во второй, чтобы меньше чувствовалась тряска) и три больших для остальных находок.
Это было безумное утро. Все находились в поле. Я приступила к составлению описи предметов и их классификации по группам. Маленький плотник то и дело, подобно кузнечику, впрыгивал в канцелярию, обмерял прислоненную к стене притолоку, потом с шумом выскакивал обратно и садился на корточки перед своей работой. Скрип пилы и стук молотка возобновились. Снова звучали заунывные коптские гимны. Впрочем, возможно, это были и новые песни из репертуара куфти. Манера исполнения в обоих случаях одинакова: вибрирующие звуки сливались в протяжную бесконечную мелодию.
Наконец, явился Хуссейн и сказал, что обед сейчас понесут в поле. Пойти туда или пообедать дома? Мне так хотелось убежать от шума, канцелярии и нудной работы. В душе я надеялась, что срочно потребуюсь на раскопках и тогда вынуждена буду оторваться от бумаг, хотя отлично сознавала, что невыполненная работа камнем ляжет на моей совести. Если заниматься ею вечером, при свете качающейся керосиновой лампы, когда цифра 3 делается похожей на 8, можно наделать массу ошибок.
Убедив себя в том, что мой долг — остаться здесь и закончить описи, я принялась за яичницу-болтунью. Интересно, может ли стук молотка, подобно пытке, довести до сумасшествия? Не успела я подумать об этом, как меня срочно вызвали в поле. Было велено захватить побольше мелких коробочек и щеточек. Тут я вдруг разозлилась. Почему меня отрывают от моих прямых обязанностей? Нельзя четко и хорошо выполнять канцелярскую работу, если секретарю вечно приходится рыться в пыли.
Скоро я была уже в пути. И, как это обычно со мной бывало, раздражение исчезло, настроение поднялось, и я радовалась тишине. Ветер утих, небо прояснилось. Солнце светило ярко, и поля, которые мы последнее время привыкли видеть мглисто-серыми, обрели ясные, четкие контуры.
Я отлично знала, что очень нужна в поле, иначе меня бы не оторвали от работы. Не жаль сил и времени, если сознаешь, что ты пусть маленькая, но необходимая часть одного сложного механизма.
Кто-то приближался со стороны раскопок. Это был Ральф.
— Вы чувствуете себя лучше? — спросила я и поняла, что вопрос был явно излишним. Он снова выглядел веселым и бодрым, шляпа была потешно надвинута на лоб.
— Сегодня утром, впервые за весь месяц я почувствовал себя совершенно здоровым, — ответил он. — И свои съемки фактически закончил. Теперь иду чертить.
— Очень рада, Ральф, — сказала я. — Надеюсь, шум молотка и скрип пилы не вызовут рецидива. Кстати, вы не знаете, зачем я понадобилась?
— Кажется, еще ожерелья; над одним из них трудится Гильда, но перед самым ленчем нашли второе. Я там не был, но, по-моему, это в маленьком доме Т. 36.68. Прощайте! Думаю, что мы все-таки увидим Грецию!
Улыбнувшись, он пошел дальше. Здесь, в Амарне, мы с Ральфом неожиданно обнаружили, что всю жизнь лелеяли одну мечту — попасть в Грецию. И сейчас она вдруг стала осуществимой! По окончании сезона мы намеревались отплыть в Афины, а оттуда отправиться вглубь страны; Джон обещал снабдить нас рекомендательными письмами к сотрудникам Британского археологического института. Нам предстояло путешествовать по горам и долинам, пробираться на мулах по извилистым тропкам. Джон наметил для нас различные маршруты — Коринф, Микены, Тиринф, Эпир, возможно, Олимпия и Дельфы. Я опасалась, что Ральф после загадочной лихорадки не сможет предпринять такое утомительное путешествие и ему придется вернуться прямо в Лондон. Но, кажется, все обошлось благополучно.
Я пришла на участок, чувствуя себя очень счастливой, и присела рядом с Гильдой около груды щебня, которую она уже начала разбирать. Отдельные бусины и подвески виднелись повсюду. Мы подбирали их целыми дюжинами. Но длинных нитей ожерелья нигде не попадалось.
День тянулся медленно. Груда постепенно уменьшалась. Теперь она была высотой около фута. Вдруг моя щетка скользнула по чему-то твердому. Большой камень? Сдув песок, я увидела неровную поверхность бело-серого цвета с черными пятнами. Нет, конечно, это не камень.

Голова статуэтки третьей дочери Эхнатона Анхесснпаатон (супруги Тутанхамона), найденная при раскопках в доме Т.36.68. Раскрашенный известняк. Метрополитэн-Музеум в Нью-Йорке
Прежде чем поднять предмет, надо посмотреть на него с другой стороны. Я обошла кругом и принялась осторожно сверху вниз водить щеткой по щебню. Крохотные желтые струйки песка быстро текли между засохшими комками грязи. Таинственный предмет был почти рядом. Еще одно движение щеткой — и мы увидели изогнутую поверхность, покрытую красновато-коричневой краской. Ниже песок осыпался, и образовалась маленькая щель.
— Не можете ли вы что-нибудь увидеть сквозь нее? — спросила Гильда.
Я легла на землю, заглянула в щель и поняла, что это головка. Можно было разглядеть лишь часть лица, покрытого красноватой краской, — изгиб подбородка и более темный уголок рта. Гильда позвала находившегося неподалеку Джона.
— По-моему, это голова статуи, — спокойно сказала она ему.
Он долго и внимательно всматривался, еле сдерживая волнение.
— Я подожду, пока вы очистите ее, — сказал он.
Мы осторожно удаляли пласты щебня. Мучительно делать что-нибудь медленно, когда сгораешь от любопытства. Но торопиться было нельзя. А вдруг на лице, которое мы еще не видим, окажется трещина? Тогда от одного торопливого движения все может погибнуть.
Мы расширили впадину под головкой, и Джон подсунул туда руку. Гильда еще раз провела щеткой — и головка опустилась на руку Джона. Он медленно извлек ее из руин. Затем очень осторожно перевернул на ладони.
Перед нами было лицо юной девушки, обрамленное темным, парадным париком. Из-под изогнутых темных бровей смотрели удлиненные, прекрасно очерченные глаза. Уголки приятного, мягкого рта были чуть опущены. Детская округлость смуглых щек странно контрастировала с крохотным, но волевым подбородком. Скульптору каким-то чудом удалось передать трогательность и благородство молодости, обремененной королевским саном. Эта маленькая головка являлась еще одним прекрасным образцом Амарнского искусства. Скульпторы эпохи Эхнатона умели подмечать и в совершенстве передавать нечто большее, чем внешнее сходство.
Я посмотрела на Джона. Его осунувшееся, посеревшее за последние недели лицо сразу преобразилось. Сияющий, он стоял на коленях в пыли, держа в руках чудесную вещь.
— Теперь, — сказал он медленно, — мы можем считать, что наша работа увенчалась успехом!
Глава двенадцатая
В тот вечер золотисто-розовое небо просвечивало сквозь деревья, предвещая тихие дни. Нил совсем успокоился. Когда мы с Гильдой, заперев шкаф с медикаментами, вернулись в столовую, лампа уже горела. Перед Джоном на столе лежала маленькая головка и раскрытая книга, в которой был помещен снимок одного из стульев, найденных в гробнице Тутанхамона. Кожаную спинку его украшало тиснение из золота и серебра с драгоценными камнями и цветными стеклышками: молодой фараон сидит в кресле, откинувшись на спинку и заложив руку назад. Его взор устремлен на юную супругу, царицу Анхесенпаатон, третью дочь Эхнатона. Она стоит перед ним, прямая и смелая, касаясь правой рукой его плеча.
Джон повернул найденную головку в профиль, придав ей тот же ракурс, что и на снимке. Сходство было поразительное: тот же удлиненный разрез глаз и те же темные брови, небольшой изящный нос и полные губы с чуть опущенными уголками, нежные щеки и маленький решительный подбородок. Даже форма париков совпадала.
— Я думаю, это Анхесенпаатон, — сказал, наконец, Джон. — Интересно, согласятся ли со мной другие?
Закрыв книгу, он вдруг произнес:
— Его величество Джон желает пива!
И тут мы поняли, что мрачная полоса миновала. Мы имели право быть счастливыми: ведь сезон завершился удачно.
Это был чудесный вечер. В ожидании ужина мы сидели вокруг стола и пили пиво. Маленькая головка в колыбельке из ваты переходила из рук в руки; мы восхищались талантом художника, сумевшего так много передать в этой миниатюрной вещице.
Ральф начал рисовать головку. В его веселых голубых глазах светился живой интерес. Теперь я была уверена, что он снова здоров и полон сил, и могла мечтать о покрытых снегом горных вершинах далекой Греции.
Я вспомнила наш первый вечер почти четыре месяца назад. Внешне мы не изменились, пожалуй, только загорели. Мы были веселы и тогда, но не так, как сегодня. Теперь мы искренне радовались тому, что выполнили большую работу и что все неприятности позади. Усталость не имела сейчас ни малейшего значения. — Я сфотографирую ее завтра, — сказал Джон, — и сам отпечатаю. Нужно поскорее отослать отчеты.
В тот вечер я быстро закончила регистрацию и вновь принялась за описи. Напрасно я боялась, что утреннее мрачное настроение вернется: оно рассеялось, подобно туману на солнце. Маленькая головка, видимо, придала нам бодрость и принесла успокоение. Я решила сегодня обязательно закончить опись бронзовых и каменных предметов, включая фрагменты скульптур и наше новое сокровище.
Поздно вечером, когда я завершила работу, мне захотелось еще раз взглянуть на головку. Она покоилась на мягком белом ложе; во взгляде ее удлиненных глаз и уголках изящного рта таилась легкая усмешка. Я со всех сторон освещала головку электрическим фонариком, стремясь при свете его бледных лучей уловить «секрет» совершенства лепки. Притолока Хатиа была очень интересна; золотой клад вызывал любопытство, но лишь эта головка доставляла мне подлинную радость. Поистине нам посчастливилось «откопать» сокровище!
Я вспомнила слова Альфреда Тернера: «Изучайте внимательно все скульптуры там, на месте. Как бы мне хотелось увидеть египетскую скульптуру у нее на родине, а не в музее». Какими жалкими казались мне теперь мои попытки мять глину и обтесывать камни. Я прекрасно понимала разницу между посредственными способностями и подлинным талантом. Передо мной было произведение одаренного мастера. Глядя на маленькую головку, ученица приветствовала неизвестного художника, умершего более трех тысяч лет назад.
Прикасаясь к предмету, пролежавшему так долго под землей, я испытывала странное волнение. Слова «это сделано три тысячи лет назад» я теперь воспринимала так: эта маленькая головка, прижатая ворохом щебня к развалившейся стене, лежала здесь в прожженном солнцем безлюдном месте все время, пока горела Троя, пока ассирийский царь Синахериб разорял города за пределами своего государства, а Афины достигли расцвета и пришли в упадок; она находилась там во время первого похода римлян в Лондон и в тот день, когда Гарольд пал в битве при Гастингсе30, а последний Плантагенет31 — на Восвортском поле; так она лежала долгие годы, вплоть до сегодняшнего дня! И вот, наконец, оказалась в теплой человеческой руке.
Я вдруг подумала, что и Нефертити когда-то держала в маленькой смуглой ручке портрет любимой дочери. Мне казалось, что и сейчас царица с любопытством наблюдала за мной через открытую дверь. Положив головку на место, я вышла во двор, залитый серебристым светом. Легкий ветерок, точно шлейф платья, коснулся меня. Слабый звук, похожий на шорох шагов маленьких, обутых в сандалии ножек, замер вдали. И вот все исчезло.
На другой день я попросила Джона разрешить мне сделать слепки с одного — двух металлических предметов, пока они еще не запакованы. Ведь с некоторыми из них нам неминуемо придется расстаться в Каире.
— Слепки? — переспросил он, несколько озадаченный.
Я объяснила ему, что лондонский ювелир снабдил меня специальным материалом — морской пенкой и научил делать слепки. Он сказал, что по ним сможет изготовить копии из материала оригинала.
Джон заинтересовался. Мы отправились в комнату, где хранились находки, и пересмотрели все предметы.
— Хеттский амулет из клада, — сказал он вдруг. — Что вы на это скажете? В Каире его обязательно отберут.
— Надеюсь, он выдержит. Предмет, с которого делается слепок, не должен быть хрупким, так как его приходится немного сдавливать. Было бы ужасно сломать амулет.
Немного помедлив, Джон сказал, что готов рискнуть, и я уселась за работу.
Морская пенка достаточно мягка, чтобы в нее можно было вдавить предмет, и достаточно тверда, чтобы запечатлеть каждую деталь. Взяв два куска такой пенки, я терла их, пока они не стали плоскими и гладкими. Затем очень осторожно вдавила амулет большим пальцем в меловой слой одного куска и, когда он наполовину погрузился, наложила сверху второй. После этого я стала сжимать обе половинки. Как только они соединились, я открыла их и вытащила амулет. К счастью, он ничуть не пострадал. Теперь каждый кусок хранил точный отпечаток половины амулета. Я снова соединила обе половинки слепка, крепко связала их проволокой и перочинным ножом выдолбила снизу воронку, а сверху просверлила две тонкие сквозные дырочки.
Хилэри пожертвовал для опыта несколько пуль и теперь плавил свинец. Мы влили расплавленный свинец в воронку. Послышалось слабое шипение, и вот перед нами новый амулет — точная копия настоящего. Только с макушки свисали два тонких коротких свинцовых усика. Острым ножом я отсекла их и затвердевший сгусток у нижнего отверстия. Работа была завершена.
Позднее мой лондонский ювелир сделал с этого свинцового слепка множество копий из массивного серебра, и у каждого человечка, как и у оригинала, были круглые золотые шапочки.
На следующее утро мы с Гильдой приступили к упаковке мелких предметов, и к венгру они уже были готовы к погрузке.
Ральф и Хилэри запечатали чертежи и зарисовки в металлические цилиндры.
Склад снова был пуст. Во дворе, среди разбросанной бумаги и соломы в лунном свете белели готовые к отправке ящики. Еще один сезон подходил к концу.
На следующий день к причалу подошла большая парусная баржа; она должна была доставить наши драгоценные ящики в Каир. Все рабочие собрались на берегу. Некоторые помогали перетаскивать вещи на борт, другие пришли ради развлечения. Такое большое судно не часто причаливало к их берегу. Его называли дедушкой нашей фелюги. Неуклюжее, с заплатами всех цветов и размеров, оно, казалось, в любой момент может неожиданно пойти ко дну, хотя мы были уверены, что этого никогда не случится. Вероятно, это судно существовало сотни лет.
Когда все ящики были благополучно водворены на борт, по трапу со степенным видом прошествовали гуськом трое куфти; в одной руке каждый нес по палке, в другой — по узелку. Они обязаны были сопровождать наши находки в Каир, а затем доставить их в сохранности с берега к двери музея. Высокие, стройные, в черной одежде и белых тюрбанах, эти куфти походили на Сима, Хама и Иофета; всем своим видом они точно говорили: «Право же, это не наше занятие». Их дружелюбно приветствовал капитан баржи — старый «морской волк» с сухим загорелым лицом. Вся команда состояла из троих рослых приветливых юношей — его внуков.
Как только ящики были аккуратно уложены, баржа отчалила. Течение все дальше и дальше уносило ее. И вдруг два паруса странной формы, как крылья гигантской птицы, веером раскинулись по обе стороны мачты. Легкий бриз раздул их, и старая неуклюжая баржа на наших глазах превратилась в прекрасное легкое судно.
Ослепительно белые паруса, развеваясь над странным грузом, поравнялись с северным мысом; еще несколько мгновений — и они исчезнут из поля зрения. Я подумала о головке принцессы, о тщательно нанизанных на нитки ярких ожерельях, о бронзовых ножах и зеркалах, о нарядной притолоке Хатиа. Все эти предметы плыли теперь по реке, навсегда удаляясь от родных мест, где они пролежали так долго.
Наконец баржа скрылась. Никто не произнес ни слова, но всем стало ясно, что с этой минуты сезон окончен.
— Сегодня вечером мы дадим импровизированный бал, — сказал Джон, все еще не отрывая глаз от далекого мыса и полоски прозрачной голубой воды.
Радостная весть мгновенно облетела всех: каждый, кто умеет петь и танцевать или желает присутствовать на вечере, приглашается в дом. Хуссейн и Абу Бакр развесили во дворе фонарики и поставили у стены в столовой складные стулья. Пока мы ужинали, гул голосов и суета нарастали. Порой раздавалась трель волынки или дробь барабана. Хуссейн сновал с блюдами вокруг стола. Он еле сдерживал возбуждение.
Мы вышли. Мягкий свет падал на темные лица собравшихся у наружной стены. Один мужчина и две девушки-прачки сидели на корточках у кухонной двери: у них через плечо висели барабаны. Они сами смастерили их из глины. Полые и длинные, эти инструменты напоминали дымовые трубы; их широкое отверстие было затянуто плотной кожей. Рядом с барабанщиками сидели двое мужчин с длинными тростниковыми волынками. Мальчишка притащил ворох соломы, положил ее у ног музыкантов и поджег. Держа барабаны над пламенем, музыканты ударяли по коже. Она становилась более плотной, а звук более высоким. Мы уселись на стулья, и барабанщики принялись отбивать свои странные, непривычные для нас ритмы. Барабаны то звучали дружно, то спотыкались и спорили друг с другом. Прекрасные исполнители, меняя место и силу удара, вызывали самые различные звуки: глубокий при сильном ударе по центру и более высокие, нежные при быстрых, легких ударах пальцами по краям.
Очень интересно было наблюдать за их руками. Двигались лишь кисти, гибкие и ловкие; верхняя часть руки оставалась неподвижной, придерживая тяжелый барабан.
Но вот в игру вступили волынки с басовыми трубками, и толпа восторженно замерла. Низкие звуки волынки состязались с ровной дробью барабанов. В течение нескольких минут музыканты играли, точно изучая друг друга. Но скоро зазвучала одна мощная неотразимая мелодия, и слушатели забыли, что перед ними у тлеющего огня сидят пять человек. Музыканты застыли, подобно изваяниям, склонив головы над инструментами. Двигались только проворные, быстрые пальцы. Жалобные звуки волынок и дробь барабанов, напряженные лица слушателей, зачарованных музыкой, свет ламп и мерцающего костра — а над всем этим небо в алмазах! Это был один из тех моментов, которые запоминаются на всю жизнь.
Собравшиеся не замечали нас, возможно потому, что за это время привыкли к нам, и, казалось, не они наши гости, а мы приглашены на чудесный национальный праздник.
Хуссейн спокойно стоял рядом с нами, закрыв глаза и слегка потирая большие руки. Все молчали, напряжение нарастало.
Вдруг от толпы отделилась фигура в белой одежде и остановилась посреди двора. Певец не мог больше ждать. Веселое оживление охватило толпу, все заулыбались, напряжение немного спало.
— Лучший певец, — радостно шепнул Хуссейн, — Его не заставите петь, если он не захочет.
Это был уже немолодой человек в изношенной одежде. Он стоял спокойно, как повелитель, который сознает свою власть над слушателями. Певец поднес руку ко рту, точно хотел донести песню до самой отдаленной границы Египта. И вот его серебристый голос присоединился к волынкам и барабанам; музыканты признали мастера: инструменты зазвучали тише, давая простор прекрасному высокому и чистому голосу. Я не понимала слов, но Хуссейн сказал, что это очень старинная песня о царском сыне, утонувшем в реке во время жатвы. Все подхватили песню, повторяя хором конец каждой строки; волынки жалобно вторили, а барабаны скорбели об утрате.
Наконец, песня смолкла. Певец со склоненной головой устало опустился на землю у костра. Раздались аплодисменты и восторженные возгласы; он в знак признательности поднял руку, улыбнулся, зажег папиросу и, прислонившись к кухонной стене, задумался.
Теперь на середину двора выскочил гибкий Махмуд Умбарак и с очень серьезным видом начал исполнять сложный танец. Зрители сосредоточенно следили за плавными красивыми движениями его рук; он то размахивал белой палкой над головой, то держал ее тонкими пальцами на уровне плеч. В черной одежде, изящно и легко он, как балерина, скользил по двору. Этот танец ласкал глаз, но не волновал. Махмуд торжественно и красиво описывал круги по двору, думая только о техническом совершенстве танца. Он исполнял его со старательностью, присущей всем куфти. Закончив танец, Махмуд скрылся, провожаемый восторженными аплодисментами.
Один номер следовал за другим. Три девушки танцевали вместе. Потом акробат прошел несколько кругов на руках, удерживая между ступнями нелепо торчавших ног цветные платочки. Вокруг него быстро носились в джиге двое мужчин с цветными платками в руках. Они размахивали ими над головой, опускали вниз, а затем закидывали назад.
Где я могла раньше видеть те же движения? Внезапно Ральф сказал:
— Да это же мавританский танец! Его обычно исполняют в костюмах героев легенды о Робин Гуде!
Ну конечно! Последний раз я видела такой танец под бледно-голубым небом Эссекса в Текстеде.
Я наблюдала, как причудливые фигуры быстро двигались при свете ламп, как цветные платки развевались и опадали, и мне вспомнился английский весёлый майский праздник: белокурые юноши во фланелевых костюмах, с бубенчиками на подвязках и яркими платками, так же весело танцевали по кругу. Сколько еще обычаев, которые мы считаем исконно английскими, обязаны своим происхождением далекой Аравии ил» даже более отдаленным краям!
Музыка смолкла, танцоры покинули сцену и были встречены веселым смехом и дружеским похлопываниями по плечу.
Внезапно откуда ни возьмись появился Комик; он двигался на широко расставленных ногах, принимал забавные позы и жестикулировал. Настоящее его имя было, кажется, Халиф, но все его звали Комиком. Это был добродушный человек, наделенный чувством юмора. Соседи по работе постоянно толпились около него, хохоча до слез.
Теперь он, шатаясь, ходил по двору, хватался за голову и дрожал всем телом, изображая больного, дряхлого старика. Вдруг на сцену тихо проскользнул другой рабочий; прячась в тени, он стал преследовать Комика, который заметил его, с перепуга сделал прыжок и, забыв о мнимой старческой немощи, принялся паясничать: вскакивал на базы колонн, вопил, бормотал что-то невнятное и перелетал через дворовую ограду. Все присутствующие покатывались со смеху.
Но вот наступила развязка: противник оказался сильнее его; ударом по голове он свалил Комика с ног и, танцуя, исчез со сцены. Комик прилагал все усилия, чтобы притвориться мертвым: бился в судорогах, подмигивал, храпел. Хуссейн уверял нас, что он мертв.
Второй актер медленно возвратился на сцену. Лицо его было закрыто шалью.
— Теперь он изображает жену умершего. Она разыскивает мужа, — сказал Хуссейн.
Скорбная фигура двигалась по двору, стараясь не замечать распростертый на полу «труп», который не мог оставаться спокойным, все время вертелся и острил. И вот несчастная вдова увидела своего мужа. При свете луны она рухнула на колени, качаясь из стороны в сторону в безутешном горе.
— Вот она нашла его, — любезно пояснил Хуссейн. Вдруг зрители притихли. Из мрака появился третий актер. Он стал блуждать по двору, согнув одну руку. Видимо, он держал корзину. Другую руку актер опускал в корзину, затем протягивал ее вперед или отводил в сторону. Эти движения повторялись вновь и вновь.
Внезапно Джон воскликнул:
— Он сеет! Это невероятно. По-моему, они исполняют какую-то пантомиму, основанную на древнем ритуале, который связан с севом хлеба.
Град воображаемых семян посыпался на «умершего». Актер, играющий жену, вскочил и пустился в пляс вокруг «мужа», простирая руки к небу. «Труп» начал кататься по сцене и стонать. Толпа снова захохотала. Но теперь смех звучал прерывисто, неуверенно. Казалось, все понимали, что перед ними совершается нечто значительное, в их душах пробуждались давно забытые воспоминания.
Но, вот, «умерший», ожил и вскочил на ноги. Он стал прыгать с одной базы на другую, издавая радостные крики. Потом схватил за руки свою жену, и они с ликующим видом начали танцевать. Наконец, сцена опустела.
Было уже очень поздно. Кажется, все, не сговариваясь, сочли маленькую мимическую сценку заключительным номером вечера. Джон поднялся. Музыканты тоже встали и на прощание сыграли какую-то веселую мелодию. Джон подошел к стене; свет лампы падал на его непокрытую голову и голубой критский плащ. Он поблагодарил всех за чудесный вечер и хорошую работу в течение всего сезона.
— Может быть, — сказал он, — мы скоро вернемся и проведем здесь еще один сезон.
— Да будет на то воля Аллаха! — раздалось со всех сторон, а один из куфти заявил, что у них никогда не было такого мудира, «как Вы, Ваша честь».
Все одобрительно замахали руками, раздались аплодисменты и смех. Джон в знак признательности поднял руку, повернулся и направился в столовую, раскрасневшийся, взволнованный. Когда мы подошли к нему, он сказал:
— Это самая большая честь, которой я когда-либо удостаивался и на которую мог надеяться.
Явился Хуссейн с пивом и сэндвичами. Джон спросил, знает ли он что-нибудь о разыгранной Комиком сцене. Карие глаза Хуссейна блестели, на лице играла счастливая улыбка; жестикулируя, он пытался объяснить: это очень, очень древняя история о старике, который должен был умереть ради спасения своего народа. Он был убит злым человеком и ожил только тогда, когда посеянные семена начали прорастать.
— А кто же был этот старик? — спросил Джон. После минутного колебания Хуссейн сказал:
— Говорят, что он — урожай маиса и хлебных злаков.
— А ты-то сам веришь этому, Хуссейн?
На его лице появилось серьезное выражение.
— Это всего лишь древняя легенда, — ответил он наконец.
Когда Хуссейн ушел, мы еще долго говорили о чудесном таланте этих простых людей. Особенно восхитила нас пантомима. Сцена, разыгранная перед нами, пусть немного шаржированная и искаженная, перенесла нас в далекое прошлое, более далекое, чем эпоха Эхнатона.
Глава тринадцатая
Незаметно пролетали последние три дня нашего пребывания в Амарне. Мы расплатились с рабочими; последний раз прогулялись по центральной части города и Северному предместью и наняли четырех сторожей для охраны территории раскопок летом. Наконец наступил грустный день отъезда. Кажется, только Хуссейн выглядел счастливым: он предвкушал увлекательное и веселое путешествие. Джон решил не отправлять клад вместе с остальными находками, а поручить Хуссейну отвезти его в Каир в надежном сейфе. Заодно Джон и Гильда решили показать ему город, где он никогда еще не бывал.
Настало время отъезда. Прощальный взгляд на залитый солнцем старый дом, на уснувший город, опять покрытый толстым слоем пыли — нашего вечного спутника, на далекую расщелину в скалах, которая ведет в овеянную мраком Долину призраков.
Мы вновь пересекали мирную реку и, оглядываясь назад, видели толпившихся у причала людей, которые стали нашими друзьями. И еще долго можно было различить знакомые фигуры: Хуссейна Савага — по головному убору, который он всегда так ловко накручивал на высокий лоб, Комика — по тому, как он метался из стороны в сторону, размахивая, точно крыльями, огромными руками, Абу Бакра — по его позе: он стоял неподвижно, и был на голову ниже остальных — безутешная, стройная, крохотная фигурка.
На вокзале нас покинул Томми. Ему предстояло несколько недель работать с другой экспедицией, которая вела раскопки южнее Луксора.
В вагоне было душно и тесно. Таким же душным и тесным казался нам сейчас и мир двадцатого века, в который мы возвращались. Но Хилэри все же развеселил нас, рассказав о том, как он собирается скрыть от бдительности таможенных чиновников золотой соверен. Довольный собой, Хилэри показал баночку с кремом для бритья, в которую он положил монету и тщательно выровнял потом поверхность крема.
— Я рад, что ваш крем пригодился хоть на что-нибудь, — сказал Джон, который давно привык к густым бородам своих коллег.
Поздно вечером мы прибыли в Каир. Как приятно было увидеть на платформе троих куфти! Последовала церемония приветствий и рукопожатий. Они сообщили, что прибыли в Каир сегодня утром, но ящики уже благополучно доставлены в музей.
Хилэри из Каира направлялся в Палестину, и мы посадили его на ночной поезд. Он уехал, не выпуская из рук баночку со своим золотым совереном.
— А вдруг они даже не вскроют его чемоданов? — спросила Гильда.
— Тогда он умрет от разочарования, — сказал Ральф.
Нам было грустно. Хилэри стал для нас любимым ребенком, и будет обидно, если он повзрослеет.
Длинный день закончился благополучно, если не считать забавного случая с Хуссейном. У входа в отель он на мгновение потерял нас из виду в снующей толпе. Очевидно решив, что мы уже в отеле, он стремительно взбежал по лестнице и принялся описывать круги вместе с вращающейся дверью. Когда мы добрались до него, он совершал, наверное, шестой круг, глаза его были готовы выскочить из орбит. Сначала он был очень смущен и испуган, но скоро успокоился и хохотал над собственной наивностью и чудесами цивилизации.
На следующий день мы отправились в канцелярию мистера Энгельбаха и договорились о разделе находок, который был назначен на завтра на десять часов утра. Мы распаковали ящики и по группам аккуратными рядами разложили все предметы на длинных столах. Эта чистая, официальная комната уже начала придавать так хорошо знакомым нам предметам вид музейных экспонатов.
Утро тянулось бесконечно. Наконец пришел мистер Энгельбах и осмотрел находки. Многие из них он уже знал по фотографиям. Увидев головку принцессы, Энгельбах покачал головой.
— Я постараюсь сделать все от меня зависящее. Ведь я в долгу у вас, вы очень хорошо относились к нам в течение сезона. Но боюсь, что «Старик» обязательно захочет оставить ее в музее; она прелестна, не правда ли?
На следующее утро состоялся раздел. «Старик», как называли директора музея мистера Лако, оказался высоким пожилым французом с седой бородой. На самом кончике его носа каким-то чудом держались очки. Взгляд беспокойных голубых глаз пронизывал насквозь. Началась длительная процедура. «Старик» медленно двигался вдоль столов с Энгельбахом и Джоном. Первый давал объяснения на беглом французском языке, а второй лишь изредка вставлял отдельные слова. Облюбовав какой-нибудь предмет, мистер Лако глядел на него, откинув голову назад; борода смешно торчала кверху; затем он долго вертел предмет в своих удивительно длинных руках, как будто только это могло помочь определить его ценность. Иногда все трое склонялись над столом. Я медленно следовала за ними на почтительном расстоянии. Издали все это напоминало какой-то религиозный ритуал, а сами они были похожи на священника и двух дьяконов, которые медленно шествовали вдоль фантастически длинного алтаря, отвешивая поклоны.
Я отмечала в списках предметы, отобранные мистером Лако для Каирского музея. Притолока Хатиа первая бросилась в глаза и в тот же миг подверглась аннексии. Подобная участь была уготована большинству наших лучших находок. Какое это было грустное занятие — писать против серийного номера каждого удержанного предмета несносное «К». Лягушка-амулет, два отличных бронзовых ножа, алебастровый кувшин с надписью, покрытый синей глазурью изразец, на котором был красивый узор — бледно-голубые лотосы вокруг пруда, игрушечный гиппопотам, лучшее из наших ожерелий — мне казалось, что я проставила букву «К» почти над всеми находками. Видимо, нам не удастся показать на летней выставке ни одного интересного предмета! Я взглянула на Джона; он сохранял полнейшую невозмутимость, зато мистер Энгельбах явно начинал нервничать. Он отстал немного и, повернувшись ко мне, сказал:
— «Старик» немного строг. Я очень сожалею, но у вас действительно оказалось много интересных предметов. Однако раздел еще не закончен.
Он возвратился, а я опять принялась писать букву «К». Ну что ж, у нас оставалось все-таки несколько хороших вещей: алебастровый кувшин, хотя и без надписи, несколько интересных скульптурных эскизов, бронзовое зеркало и маленькая бронзовая дамская сумочка, в которой находился остаток ножниц и щипчики, и одно хорошее ожерелье.
Мистер Лако в изумлении уставился на слитки золота и серебра. Джон намеренно разделил их на две половины, а между ними поместил маленький амулет. Он принялся спокойно объяснять «Старику», как был найден кувшин с золотом. Тем временем тот схватил амулет.
— Мне не надо золота и серебра, — сказал «Старик», — но этого маленького человечка я должен иметь, он очень любопытен. Мы удержим одну половину вашего клада, а другую вы можете взять себе.
Это превзошло наши самые смелые ожидания. Наконец, мистер Лако взял в руки головку принцессы. Его длинные пальцы любовно поглаживали маленькую головку.
— Она превосходна, — сказал он. — Полагаю, что я должен…
— Несомненно, наша коллекция амарнских портретов достаточно обширна, сэр? — мистер Энгельбах говорил спокойным тоном, но заметно было, что он волнуется.
— Да, конечно, у нас отличная коллекция, — последовал ответ, — но необычайное изящество лепки…
— Фактически это копия того найденного два года назад портрета из известняка, только с париком. Разве я не прав, сэр? И она не так уж безукоризненна. Вы заметили, на подбородке отломан кусочек? Положи ее на место, старый скупец! — Едва ли нужно пояснять, что последняя реплика была произнесена по-английски и шепотом.
Долгая мучительная пауза. Джон глядел в окно. Мистер Энгельбах молчал, но лицо его побагровело. Я грызла кончик карандаша. Наконец прозвучал ответ:
— Наш друг прав, амарнская скульптура действительно достаточно полно представлена в коллекции музея. Не думаю, что с моей стороны было бы справедливо удержать этот образец.
Медленно, точно против воли, он опустил головку обратно в коробку; но мы поверили в счастливый исход только тогда, когда «Старик» отошел от нее.
И вот раздел был закончен. Мистер Лако пожал нам руки, выразив надежду, что Общество сделает заявку и на будущий сезон. Потом поздравил нас с хорошими результатами, еще раз пожал руки и, поклонившись, удалился в свою канцелярию. Мистер Энгельбах присел около первого попавшегося сфинкса и, сняв феску, вытер платком лоб.
— Надеюсь, вы довольны, — сказал он. — Сначала «Старик» был несговорчив. Мне казалось, что он собирается забрать все.
— Очень довольны, — ответил, сияя, Джон, — и весьма признательны вам. Если бы не ваше убедительное красноречие, мы, конечно, не получили бы головки.
Двое служителей музея погрузили все отобранные предметы на тележку и увезли их в служебные комнаты.
На следующий день, заполнив множество таможенных анкет, мы вновь запаковали ящики. Наши находки отправились в далекое путешествие в Лондон. После летней выставки они будут распределены между музеями, которые финансировали работу Общества.
Позднее Комитет разрешил продать нашу долю золота и серебра, и Английский банк выплатил нам двести фунтов. На эти деньги мы провели трехнедельные раскопки в Амарне в следующем сезоне. Наша мечта о зарытом кладе, наконец, сбылась. До продажи клад демонстрировался на выставке. Оформляя демонстрационную витрину, мы в точности воспроизвели обстановку и условия, при которых был найден кувшин с золотом: он лежал на боку в песке, и из его горлышка сыпались золотые и серебряные слитки, а на переднем плане стояла копия серебряного хеттского амулета, отлитого по моему свинцовому слепку.
Здесь же на выставке, на почетном месте, в центре зала была установлена и головка. После закрытия выставки одна американская дама, очень щедро и постоянно жертвовавшая деньги на раскопки, обещала внести тысячу фунтов, если мы отдадим маленькую головку музею Метрополитэн в Нью-Йорке.
Таким образом, по воле случая клад попал в хранилище Английского банка, а головка, совершив еще одно путешествие через океан, ныне украшает витрину Нью-йоркского музея.
Юная девушка, великий художник и грабитель — эти трое из далекого прошлого обеспечили нам возможность продолжить работу в будущем сезоне.
Но я забежала слишком далеко вперед… Мы все еще находились в Каире, утомленные, но счастливые. Последний обед, задушевная, беззаботная беседа. На прощание Джон начертил для нас новые маршруты по Греции и надавал уйму всяких советов.
На следующий день мы с Ральфом отбыли в Афины.
1 О ней см. Г. Картер. Гробница Тутанхамона, М., 1959.
2 Служба древностей (Service des Antiquites de L'Egypie) — ведомство, основанное в 1858 г. Контролирует работы археологических экспедиций и следит за охраной памятников прошлого. (Прим. ред.)
3 P. Montel, I sis ou a la recherche de l'Esypte ensevelie, Paris. 1956 p. 128–129.
4 Назван по имени императрицы Виктории, правившей с 1837 по 1901 г. (Прим. ред.)
5 Имеется в виду «Общество исследования Египта» (Egypt Exploration Society), основанное в 1882 г. (Прим. ред.)
6 Имеется в виду «New Sayings of Yesus and Fragments of a lost Gospel» bу В. Р. Grenfell and А. S. Hunt. (Прим. ред.)
7 Спагетти — тонкие макароны. Итальянское национальное блюдо. (Прим. ред.)
8 X. Ваддингтон — архитектор экспедиции.
9 Джон Пендльбери — талантливый английский археолог, работавший на острове Крит и в Египте, где он в течение ряда лет руководил раскопками в Тель-эль-Амарне. Застрелен немецким парашютистом при оккупации фашистскими войсками острова Крит. Его труд «Археология Крита» вышел в 1950 г. в русском переводе. (Прим. ред.)
10 Кносс — дворец правителей острова Крит, находившийся на северном побережье. (Прим. ред.)
11 В советской науке принята другая хронологическая система, предложенная академиком В. В. Струве, согласно которой Эхнатон правил с 1424 по 1388 г. до н. э. (Прим. ред.).
12 В русском переводе Аменхотеп означает «Амон доволен», Эхнатон — «Угодный Атону».
13 В русском переводе Ахетатон означает «Горизонт Атона».
14 Себах — удобрение.
15 Флиндерс Петри (1853–1942) — известный английский археолог, более полувека производивший раскопки в Египте. (Прим. ред.)
16 Ярд равен 0,914 м
17 Пригород Каира, где находятся пирамиды. (Прим. ред.)
18 Фут — около 30 см.
19 Куфт — древний Коптос. Через него торговый путь, проходя Красному морю и в каменоломни Вади Хаммамата, откуда доставлялся строительный материал. (Прим. ред.)
20 Русла пересыхающих дождевых потоков в Африке.
21 Алиса — героиня известной детской книги английского писателя Кэрролла «Алиса в стране чудес». (Прим. ред.)
22 Картуш — овальная рамка, в которую обычно вписывались имена царей и цариц. (Прим. ред.)
23 Розеттский камень — стела, найденная в 1798 г. солдатами Наполеона вблизи города Розетты в Дельте. Она содержала декрет 196 г. до н. э. в честь царя Птолемея V Эвергета, написанный иероглифическим, курсивным (демотическим) и греческим письмом. Этот текст оказал значительную помощь при дешифровке египетских иероглифов. (Прим. ред.).
24 Это объяснение неверно. Внимание и силы фараона были отвлечены внутренними распрями. См. вступительную статью. (Прим. ред.)
25 Имеется в виду книга недавно умершего известного немецкого египтолога Г. Шефера: Н. Schafer, Die Religion and Kunst von
26 Это не совсем точно. Сменхкара умер, видимо, еще при жизни Эхнатона. (Прим. ред.).
27 Бертран и Ратон — персонажи известной басни Лафонтена «Обезьяна и Кот»: синонимы Обманщика и Обманутого.
28 Игра, напоминающая теннис.
29 Маскотта — талисман, приносящий счастье.
30 В 1066 г. при Гастингсе норманны под предводительством Вильгельма Завоевателя одержали победу над королем саксов Гарольдом. (Прим. ред.)
31 Плантагенеты — династия, правившая в Англии с 1154 г. Ее последний представитель Ричард II низложен в 1399 г. парламентом. (Прим. ред.)
Wyszukiwarka