Аноним
Канал имени Москвы
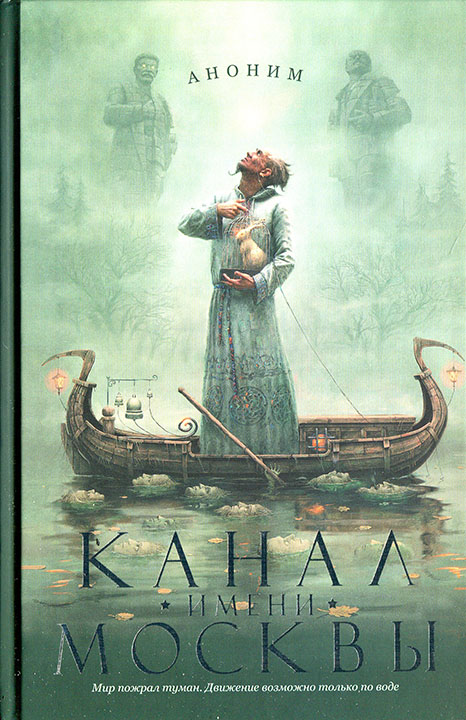
Аннотация
Мир пожрал туман, и движение возможно только по воде. Что там, в тумане: ожившие страхи, древние чудовища или древние боги? Те, кто знают, молчат. Маленькую Дубну, столичный Дмитров и зловещие Темные шлюзы канал связывает с угасающими островками цивилизации. От тайны к тайне, от шлюза к шлюзу — к мифической Москве, которую также, возможно, накрыл туман.
«Канал имени Москвы» — первый роман самого обсуждаемого и ожидаемого цикла последнего времени.
Аноним
КАНАЛ ИМЕНИ МОСКВЫ
Движение начинается
Глава 1
Белый кролик
1
Они пересекли канал рано утром восьмого мая, и дул сильный норд-ост. Это было хорошо, потому что остатки тумана, клочьями стелившегося над водой, прибило к правому берегу, и поверхность Волги окончательно расчистилась. Великая русская река разливалась здесь широким Иваньковским водохранилищем и резко поворачивала к Дубне, затем через Кимры, к Ярославлю и ещё дальше на восток и юго-восток, к живым и призрачным городам, пока не впадала в таинственное Каспийское море, о котором ходило столько слухов, легенд и баек.
Человек в пыльном походном плаще и мягкой шляпе, которую он считал панамой, неслышно усмехнулся и принялся счищать кожуру с яблока. Другая часть волжской воды поднималась здесь по каналу до процветающего Дмитрова и выше, до Яхромы и даже Икши, если створки между шлюзами пять и шесть всё ещё были открыты. Человек в пыльном плаще отрезал себе кусок яблока тяжёлым складным ножом, чьё широкое лезвие было отполировано почти до зеркального блеска. Он устроил себе ложе в тени старого ясеня, склонённого над водой, и с самого рассвета наблюдал за туманом на другом берегу. Ещё на нём был надет не менее пыльный камуфляж, а через плечо он перекинул баул из непромокаемой ткани. Надетое же на камуфляж было скрыто под длинным плащом. Прочные кожаные ботинки на вибрамовской подошве выдержат, на его взгляд, ещё одну починку, хотя в мире, где такая обувь выпускалась массовым производством, их давно уже определили бы на свалку.
Некоторое время назад, но уже после того, как они пересекли канал, он извлёк из своего баула потускневшую латунную трубку с припаянными дужками, через которые был пропущен задубелый кожаный ремешок с множеством бисерин. Эта вышивка напоминала буквы давно утраченного алфавита, а рядом с трубкой к ремешку крепился то ли большой клык, то ли, напротив, небольшой игрушечный костяной бумеранг и кусочек чёрного пера. Человек в пыльном плаще поднёс латунную трубку с того конца, где были две сквозные насечки, к губам, и издал тихий, на грани слуха, металлический свист. Противоположный конец трубки был запаян, и к нему крепился резонатор. Затем он надвинул свою шляпу-панаму на глаза и принялся ждать в тени ясеня.
Ворон, как и всегда, появился внезапно, хотя человек в плаще знал, что при желании смог бы проследить за его полётом. Птица сидела на ближайшей ветке, неподвижно склонив голову, и пристально смотрела на латунный манок. В глубине её круглых глянцевых глаз тускло светился золотой огонёк.
— Привет, Мунир, — произнёс человек в плаще.
Птица встрепенулась и, перелетев на плечо к человеку, начала переминаться с лапы на лапу. Присутствовала в движениях ворона какая-то весёлая деловитость. Человек в плаще всегда подозревал, что у него довольно весёлый нрав, если, конечно, у границ, которые ворону приходилось пересекать, вообще действуют подобные категории.
Человек бережно, успокаивая, похлопал птицу, а потом быстрым и точным движением выдернул из-под крыла небольшое перо. Ворон молча перенёс экзекуцию. В отличие от многих врановых, собратьев-воронов, попугаев, скворцов и пересмешников, которые болтают на потеху зевак, ворон Мунир не умел говорить. По крайней мере, не мог издавать членораздельных звуков, воспринимаемых человеческим ухом. Зато он умел слушать. Внимательно слушать и слышать, и этим его способности не ограничивались.
Человек в плаще прикрепил к своему латунному манку выдернутое перо, а старое словно само потускнело и отпало. Он снова похлопал птицу, и ворон перешёл на вытянутую руку и уселся на кулак. Лапы с острыми когтями были сильными, и человек чуть поморщился — давно ворон не сидел у него на руке. Мунир деликатно ослабил хватку и внимательно посмотрел человеку в глаза. В этих чёрных глянцевых зеркалах можно было увидеть много всего («Это всё из-за тумана», — холодком мелькнула какая-то ненужная назойливая мысль), но человек в пыльном плаще произнёс лишь одно слово:
— Пора.
Ворон всё ещё внимательно смотрел на человека, словно ждал подтверждения, и тогда тот, кивнув, негромко добавил:
— Время пришло.
Словно в ответ птица встрепенулась, в глотке её родился каркающий звук, и, захлопав крыльями, вспорхнула в воздух. Описав небольшой круг, ворон, не набирая высоты, полетел через реку к противоположному берегу, где туман, сгущающийся в глубине до лиловой мглы, подходил почти к самой воде. Человек в плаще улыбнулся, наблюдая за полётом ворона, он видел, как тот превратился в точку, а потом как точка начала растворяться в мглистой дымчатой завесе.
— Давай, лети, старый друг, — проговорил человек. Чуть поёжился, снова вспомнив, как сегодня на рассвете они пересекли канал, и подумал, что, скорее всего, является единственным, кто видел это.
Вскоре точка стала неразличима — туман поглотил ворона. А он всё ещё стоял и смотрел на мглистую завесу, что клубилась на правом берегу, смотрел на туман, который не был туманом.
* * *
Сейчас человек в пыльном плаще отрезал себе кусок яблока и, бросив взгляд на лезвие ножа, снова усмехнулся. Но теперь, наверное, в этой усмешке мелькнуло что-то опасное, и его серые глаза, спрятанные под надвинутой на лоб шляпой, стали на миг очень холодными. Подушечкой большого пальца отёр с лезвия яблочный сок и чуть повернул его, поймав солнечный зайчик. Он их видел уже некоторое время — тех, кто приближался сейчас со спины: отполированное лезвие служило неплохим зеркалом, хоть и искривляло силуэты. Схоронясь в густом кустарнике, они крадучись двигались с разных сторон, пытаясь не производить лишнего шума. Вне всякого сомнения, точкой, где они намеревались встретиться, был старый ясень, под которым сидел человек в плаще.
«Их подослали меня убить? — с некоторой отстранённостью подумал он. И следом мелькнула мысль: — Вряд ли. Тот, кому в мирной Дубне понадобилось меня убить, не стал бы нанимать троих олухов, которые, при всём усердии, шумят, как торговки на базаре». Однако… Расплывчатые отражения силуэтов в зеркале ножа чуть выросли, и стало возможным получше рассмотреть, с чем они пришли. Всего лишь две биты, наверняка утяжелённые, и — сидящий сейчас под ясенем еле заметно поморщился — допотопная охотничья гладкостволка.
— Ступайте обратно, — не поворачивая головы, сказал человек в пыльном плаще. — Возвращайтесь по домам, если они у вас, конечно, есть.
Фигуры в отражении застыли. Не сразу, а как только до них дошло, что говорят с ними. Потом быстро и нерешительно переглянулись. Даже спиной человек в плаще ощущал их напряжённое молчание. «Растерянность, смятение и агрессивность — привычная смесь, — чуть устало подумал он. — И крайне опасная. Как мелкие сварливые собаки, которые со страху могут здорово цапнуть. Трусливые истерики могут наделать много беды». Наконец он услышал:
— Отдай нам оружие. И мы тебя не тронем.
Он вздохнул, и говоривший быстро добавил:
— Шелохнёшься — стреляю.
— С чего вы взяли, что у меня есть оружие? — спокойно поинтересовался человек в пыльном плаще.
— Ну… ты ведь… rug?
— Если ты так говоришь, — усмехнулся он. Никто не заметил, как пальцы совершили быстрое круговое движение, и теперь нож плотно лёг в его ладонь лезвием.
— А у гидов всегда при себе оружие, — заявил тот, кто стоял за спиной. А потом раздался звук, который ни с чем не спутать, сухой клацающий звук взводимого курка. — Ну, я жду!
— Хорошее ружьё, — вдруг похвалил человек в плаще. — Надо же, «Зауэр три кольца». Германское. Два ствола в горизонталь. Двенадцатый калибр. Когда-то стоило целое состояние, а сейчас вещь вполне себе бесполезная.
За спиной молчание. Вся троица на мгновение сбита с толку. В принципе, он мог всё сделать быстро. Не оставить им шансов. Они бы даже не успели понять, что уже мертвы. И возможно, это было бы правильно. С санитарной точки зрения. Только… Только вопрос этот всё ещё оставался спорным. Старый, как мир, вопрос цели и средства. Ведь вот как — всё рухнуло, а старые вопросы остались. А за спиной шёпот, новый голос:
— Как это он узнал? Про ружьё?!
— По звуку, — спокойно пояснил человек в пыльном плаще. — Когда твой приятель взводил курок.
Молчание. Всё более густое, наэлектризованное. Спросивший про ружьё явно не ожидал, что его услышат под ясенем. Снова шёпот:
— Говорил же, не стоит с ним связываться! О них такое ходит…
Потом третий, грубый голос:
— Ладно, кончаем его. Давай! И сами всё заберём!
«Вопрос цели и средств… трусливые истерики правда опасны. — Человек в пыльном плаще снова поморщился, а следом опять назойливо мелькнула эта совсем не подходящая ситуации мысль: — Это всё из-за тумана». Третий голос всё более входил в раж, обогащаясь интонациями беспощадности:
— Чего с ним цацкаться? Валим его! Если кишка тонка, давай я сделаю. Давай!
Там, за спиной, в зеркале лезвия, происходила сейчас смена лидера. Как это всегда бывает, даже самой маленькой стае требуется вожак, который будет действовать. Если его действия окажутся поспешны, неосмотрительны или глупы, то стая погибнет.
Эта стая доживала сейчас последние мгновения. Хотя ни у кого из них человек в пыльном плаще не собирался отнимать сегодня жизнь. Но они сейчас совершили несколько ошибок. Замешкались, передавая ружьё, а это целый вагон времени (так говорили в его детстве); не определились сразу, насколько далеко готовы зайти, хотя… Главная ошибка была другой — им вообще не стоило сегодня утром здесь оказываться. Ведь лишь в одном они оказались правы — он действительно гид. И если б он был просто гидом, сейчас на берегу лежало бы три трупа. И даже их предсмертные конвульсии уже бы закончились. Но им несказанно повезло: просто гидом он не был.
Полёта ножа в воздухе никто не заметил, лишь свистящий шёпот. Человеку, который сейчас вознамерился стать вожаком стаи, показалось, что между глаз ему воткнули раскалённую кочергу. И она, белой молнией боли, двинулась дальше, взрывая мозг мириадами искр в ореоле густой черноты. Он повалился на колени, выпуская ружьё из рук. Один из его подельников, видимо, тот, что шептал, просто застыл на месте. Второй попытался подхватить оружие, когда услышал:
— Не стоит этого делать, если хотите жить.
Но не только ледяное спокойствие, исходящее от этого голоса, заставило их повиноваться — они никогда не видели, чтобы человек двигался так быстро. Вот он только что сидел в тени ясеня, а теперь стоит лицом к ним, а из-под полы его распахнутого плаща чёрной бездной на них смотрит ствол.
«Господи, ведь это „калашников“, — мелькнуло в голове у того, кто говорил шёпотом. — Где ж он прятал его? На спине?!»
— Вы безмозглое и опасное дурачьё, — произнёс человек в пыльном плаще. — И мне жаль на вас пороха. Но больше вам так не повезёт. Поняли меня?
Те стояли, ошарашенные, и, казалось, ещё не пришли в себя.
— Я спрашиваю: поняли?
Оба согласно затрясли головами, что придало им сходства с китайскими болванчиками. Когда-то такой стоял в буфете, в доме, полном света, о котором в последнее время ему удавалось почти не думать.
— Что вы поняли? — Голос человека в плаще звучал ровно: ни вызова, ни угрозы.
Тот, что говорил шёпотом, облизал пересохшие губы. Ему стоило труда произнести внятно следующую фразу, но он постарался:
— Больше так не повезёт. Нам…
— Это верно, — подтвердил человек в пыльном плаще. — Так — никогда. А теперь убирайтесь. И чтоб я вас не видел.
Он сделал шаг в их сторону, и оба испуганно попятились.
— И заберите с собой это дерьмо, — он кивнул на несостоявшегося вожака: тот лежал, уткнувшись лицом в лужу собственной крови, смешанной с прибрежной пылью.
— Ведь ты убил его? — Говоривший шёпотом снова облизал губы и снова перешёл почти на шёпот.
— Если б захотел, — спокойно отозвался человек в плаще. — Он жив. Нож ударил его рукояткой, а когда со лба сдирают кожу, это даёт много крови.
Больше не обращая на них внимания, он нагнулся, отыскав в траве свой отскочивший нож, отёр рукоятку большим листом лопуха. Потом поднял двустволку.
— А ружьё я заберу, — сказал он.
Те стояли, не смея пошевелиться.
— Только это не трофей. Будем считать, что оказываю вам услугу — избавляю от глупых и смертельно опасных мыслей.
Оружие оказалось в прекрасном состоянии — видимо, ворованное: обчистили дом кого-то из учёных и пошли с дробовиком на гида. Пошли за чем-то более серьёзным: за нарезным стволом — карабином или, если повезёт, автоматом. Им и повезло, только они не представляют, насколько. Оба всё ещё стояли, бледные от страха, и угрюмо смотрели на него.
— Я что сказал? — Человек в плаще повесил двустволку на плечо. — Вон! Пошли отсюда!
Они неверяще повернулись, вжав головы в плечи, словно ожидая выстрела в спину. Человек в плаще чуть брезгливо поморщился и снова подумал, что с санитарной точки зрения было бы правильно не оставлять им шансов. Он смог бы убить их быстро и безболезненно, возможно, сохранив тем самым чьи-то жизни. И кто знает, может, таков теперь его путь: быть просто санитаром, прагматичным санитаром, и действовать вне связки вопросов цели и средств. Его рука пошла вверх по ремню, как будто он сейчас скинет двустволку и его большой палец взведёт спущенный было курок, а указательный ляжет на спусковой крючок и плавно нажмёт его…
(это всё из-за тумана)
Вместо этого человек в плаще лишь окликнул их:
— А дружка кто заберёт? — Он вдруг почувствовал, как наваливается дикая усталость, и прежде всего из-за ежесекундной необходимости делать моральный выбор. И ещё от того, что выбор, подобный сегодняшнему, давно уже не приносит ему радости, даже атавистической радости подаренной кому-то жизни. — И послушайте, хоть вы и мерзкое отребье, я скажу кое-что: следующая встреча с гидом окажется для вас последней.
Прежде чем уйти, они одарили его взглядом затравленных шакалов, которые обязательно укусят исподтишка. Тогда зачем он это говорит? Потому что таков его долг? Но все проповеди давно рухнули в небытие вместе с проповедниками, сдохли, как и мир, который они должны были спасти.
А он стоял и смотрел им вслед, и ветер, к счастью, в сторону реки, обдувал его лицо.
Когда-то в доме, полном света, в другой жизни, он рос счастливым ребёнком, которого очень любили. Мама, конечно, в шутку звала его «особенным мальчиком», и в его сердце, давно уже превратившемся в камень, всё же запечатлелась эфемерная капля той нежности. Возможно, это был лишь отсвет, но он сохранился. А отец, хоть и был очень занят, всё же находил время поиграть с ним. И повоспитывать. Отец никогда не говорил прямо о моральном выборе, цели и средствах, но много рассказывал о людях, которым приходилось подобный выбор делать. Да, он был счастливым ребёнком, и, по идее, у него не оставалось шансов выжить после того, как тот мир закончился. И уж тем более стать тем, кем он стал.
А потом он заставил себя больше не думать о вещах отвлечённых и тем более думать о прошлом. Лишь подошёл к воде и посмотрел на другой берег — туман казался непроницаемым. И было почти незаметно, как что-то в нём клубилось, набухало и пульсировало, было почти незаметно, что туман полон жизни. Человек в пыльном плаще передёрнул плечами, плотнее схлопывая полы, словно только что его пробил озноб, и вспомнив, как сегодня на рассвете они пересекли канал, чуть слышно проговорил:
— Ну, вот и началось.
2
Чуть худощавый и не в меру вихрастый юноша с большими карими глазами на веснушчатом лице остановился у обочины дороги и произнёс:
— Ну, и что всё это значит?
В принципе, обычно он редко разговаривал сам с собой вслух. Он был нормальным молодым человеком с серьёзными планами на будущее. Он вырос в Дубне, городе учёных, рыбаков, гребцов и мирных фермеров, и лишь выражение мечтательности, не часто, время от времени посещавшее его лицо, отличало его от большинства сверстников. Юноша перешёл деревянную, залитую солнцем мостовую и двинулся вдоль набережной, где плоты-причалы были украшены гирляндами по случаю завтрашних торжеств. Приготовления к весенней ярмарке, одному из двух главных событий на канале, шли полным ходом, и весь городок жил в предпраздничной лихорадке.
Звали юношу Фёдором. Хоть одет он был и небогато — в чистые, изрядно поношенные рабочие штаны с самодельными заплатками на коленях да в видавшую виды кофту с разными пуговицами у разреза ворота, — эти его карие глаза, в которых светился весёлый любопытствующий огонёк, не остались без внимания сверстниц. Тем более что веснушки, крайне редкие для кареглазых, появлялись у Фёдора лишь в мае, а потом проходили, отлетали, куда-то девались, отмечая ещё один год его жизни, которых набралось уже девятнадцать. Простой наряд весьма шёл ему; худощавость при желании вполне можно было принять за ладно скроенную поджарую фигуру, а разные пуговицы — за проявление оригинальности и собственного стиля. Некоторые девушки Дубны сполна обладали подобными желаниями, только Фёдор ничего об этом не знал. Его сердце давно уже принадлежало лишь одной из них.
Сегодня на рассвете Фёдор проснулся со странной фразой, которую тут же забыл. Произнёс он её сам или кто-то во сне сказал это его голосом, он не знал.
И вроде бы слова были пустяковыми и даже, скорее, сулили что-то интересное, новое, необычное, то ли приключение, то ли что-то… Предостережение? Это странное туманное, неуловимое ощущение, как будто между «да» и «нет» — могло ли такое быть? Присутствовал ли какой-то неприятный холодок во всём этом или померещилось со сна? Всё утро Фёдор пытался вспомнить странную фразу. И даже когда шёл на занятия с отцом, ненавистные унылые занятия по бухгалтерии, хитрая фраза не давала ему покоя. Словно ему сказали (или он сказал!) что-то крайне важное, что он может пропустить, не понять, не вспомнить, а потом, наверное, станет очень сожалеть. Потому что… Собственно говоря, ненавистный бухучёт, а точнее, выхлопотанное батей местечко в налоговом отделе Дмитровской водной полиции (место хлебное, конечно) и было тем серьёзным будущим, с которым Фёдор, как покорный сын, вынужден был согласиться. Хотя грезил совсем о другом. Манили его тайны канала. Другая жизнь, полная скитаний и чудес. Так или иначе, всё утро Фёдор старался вспомнить сон, не отпускали его странные слова, словно они и были потаённым ключиком к этой другой жизни. Он пытался, но ничего не прояснялось. Лишь от старика своего, бати, получил на занятиях выволочку за рассеянность и отсутствующий вид. А потом батя, к счастью, обнаружив, что в доме кончился сидр, вручил Фёдору две пустые фляги и отослал сына в «Белый кролик», безусловно, лучший трактир в городе.
Своим отменным вкусом дубнинский яблочный сидр был знаменит по всему каналу (а говорят, и за пределами, если таковые существуют), лучший же сидр в городе подавали в «Белом кролике». А какую там коптили рыбу! Настоящую волжскую рыбу, чистую, проверенную учёными, а не выловленную непонятно кем и непонятно где. Местные рыбаки любили говаривать, что о рыбе за пределами Дубны с уверенностью можно сказать лишь одно, а именно что уже неизвестно, насколько она ещё рыба. «Хорошо ловится рыбка-мутантка?» — частенько подначивали они своих незадачливых коллег-конкурентов.
Фёдор с радостью взялся исполнить поручение отца. Во-первых, оно освобождало от так нелюбимых занятий.
А во-вторых, нашлись у Фёдора и кое-какие собственные планы в «Кролике», который завтра соберёт добрую половину города, а через три дня, на закрытие ярмарки, уж явно съедутся все. И главное, там будет немало чужаков. Из гребцов, которые ничем не обязаны его бате. «Что ж, именно сейчас, в эту навигацию», — подумал Фёдор. Это решение вызревало в нём давно, а лучшего времени, чем весенняя ярмарка, трудно было подыскать.
Ярмарка всегда притягивала самый разнообразный народец. Съезжались окрестные торговцы и дмитровские купцы, которые по последней моде всё чаще именовали себя «негоциантами»; приходили рыбаки и горожане, кто по делам коммерции, а кто за новостями; водная полиция жаловала своим вниманием ярмарочные торжества, куда ж без неё; и кое-кто из учёных, даже гиды, бывало, появлялись в эти шумные дни, но самое важное для Фёдора — ярмарка, как магнитом, тянула к себе множество гребцов. Их обветренные лица, почти такие же, как у гидов, можно было отличить с первого взгляда. На танцах они не бузили, да и вообще два раза в году выказывали несвойственную сдержанность. Ещё бы, вовсе не погулять сбирался речной люд, а, как у них было принято говорить, «зацепиться веслом». Люди канала приходили на ярмарку за контрактами. В эти дни всегда появлялась возможность получить самый неожиданный заказ, поэтому некоторые гребцы не то что к торговым рядам, а даже на вечерние посиделки в трактире заявлялись полностью собранными, готовыми сняться с якоря, сорваться в любой момент. Оно и понятно — хороший контракт на перевозку может год кормить. Конкуренция была жёсткая, но с обеих сторон: из нанимателей выигрывали самые щедрые, из гребцов — самые опытные. Даже до Дмитрова, хотя здесь всего-то немногим более сорока вёрст по каналу, путь не всегда безопасен. А за процветающей купеческой республикой, выше и дальше по каналу, у Тёмных шлюзов человек незнающий пропадёт сразу. Лишь гребцы, да ещё Дмитровская водная полиция знают характер, дух и непростой норов канала, знают все тонкости и нюансы, особенно про то, что может происходить по берегам, на что лучше не смотреть и уж точно не поминать к ночи. Знают, где и чего стоит беречься и в какие дни лучше не ходить вовсе. Хотя всего, конечно, не знает никто. Даже гиды, о которых люди столько судачат, но всегда затихают при их появлении.
Вот именно на этот пришлый люд и надеялся Фёдор. Слышал юноша, да и не он один, что гребцы, бывает, не чураются и «левых» заказов, контрабанды: рисковых и хлебных «серых» (это когда почти с ведома водной полиции) и «чёрных» рейсов, — на них и рассчитывал. «Гребцом, конечно, наняться не удастся, — прикидывал Фёдор, — но матросом или юнгой и, если не выйдет по-человечески, в какой-нибудь „левый“ рейс — вполне возможно». А ещё рассчитывал заказать на завтрашнее открытие ярмарки лучший столик, потому что Вероника обещала пойти на танцы с ним.
«Конечно, Сливень не откажет, — думал юноша, — не зря старинный батин приятель. Самый козырный столик будет моим».
(и всё же, о чём была хитрая фраза?)
В «Белом кролике» рыбу не только коптили. Хороша была также тройная уха. А запеченная рыба? А жаренная в большой шкворчащей сковороде да залитая юшкой? Ох-ох-ох, это вам… Юноша даже почувствовал приток слюны. Но он завтра закажет другое, чем и поразит Веронику. Главное, фирменное блюдо, под которое копил, откладывая по монетке, целый год. Вкуснейшее, пальчики оближешь, рагу из кролика. С картошечкой, кореньями, лучком и шампиньонами, приправами, которые сыщешь только в Дмитрове, да обильно сдобренное сливками. Но вовсе не крольчатина, которая в Дубне не переводилась, делала это блюдо царским, а как раз таки густой соус, сваренный на основе настоящих коровьих сливок. Возможно, благодаря именно этому рагу, а точнее — щедрости, граничащей с расточительностью в обхождении со столь ценным продуктом, коровьими сливками, Фёдор, как и все остальные, называл трактирщика не Карл Вольфович, а дядя Сливень. Правда, злые языки указывали на другие источники столь своеобразного имени. В числе их первенство делили крепкая сливовица, сшибающая с ног даже бывалых гребцов, которой Сливень потчевал всех желающих, а также сам хозяйский нос характерного цвета и размера.
Фёдор усмехнулся и снова подумал о странном сне. Почему он никак не отпускает? Почему назойлив, как муха? Зачем это смутное чувство то ли волнующего ожидания, то ли чего-то… тревожного? Вроде бы нет. Скорее, какой-то неведомой перемены, может, даже хорошей, только… словно цена за неё окажется слишком высока. Ну да, перемены. Ведь он собирается тайно наняться в рейс, хоть и не избежать ему за это батиных розг. Так в чём же дело?
«По-моему, я видел что-то», — попытался юноша вспомнить сон. Помимо хитрой, играющей с ним фразы, было что-то ещё. Очень знакомое, всегда перед носом, но сейчас зачем-то ускользающее. Оно не желало открываться, хотя и пульсировало где-то внутри предостерегающим маячком. Это было странно. И это пугало.
— Укушенный, укушенный, пустым мешком придушенный, — услышал Фёдор детский голосок и даже не обратил на это внимания. Какая-то малышня играла у реки, в его детстве тоже была эта считалка, но…
Это было как вспышка.
«Я видел клетку с чучелом кролика, — подумал Фёдор. — С чучелом Дюрасела. В темноте. Вот в чём дело. Чучело, белый кролик, он тоже стоял на задних лапках, как обычно, а потом… с ним что-то случилось. Отчего я проснулся с испугу. Но прежде услышал те самые слова».
— Ну, и что всё это значит? — произнёс юноша.
Фёдор стоял перед входом в трактир «Белый кролик».
Дверь была врезана между двух склоненных друг к другу стволов толщенных деревьев, аккуратно, чтобы не повредить древним дубам, и действительно напоминала лаз в кроличью нору. Клетка с чучелом находилась за этой дверью. Ну, не совсем так… за деревьями начиналась тенистая аллейка, и в глубине двора стоял симпатичный домик, собственно сам трактир, с террасой над Волгой. Во дворе тоже располагались деревянные столы и длинные скамьи, и всё это с фонариками для свечей по периметру, и ракушка эстрады для музыкантов.
Но с этой стороны было всё же шумно, поэтому считалось, что самые козырные столики находятся на террасе под навесом. Прекрасное место для романтики.
(а что случилось с чучелом? Почему ты испугался?)
Оттуда открывался великолепный вид на реку, с которой, в отличие от канала, всегда дул свежий ветерок. А устав от танцев, можно было отдохнуть на огромных подушках, раскиданных повсюду во множестве, или в гамаке. Сливень, конечно, был горазд на всякие выдумки. К нему ходили не только за вкусной едой и питьём, а за уютом и радушием, послушать свежие новости и старые байки, часто рассказанные по-другому, побыть среди людей да посудачить, что новенького выкинул хозяин с интерьером. Сливню было не лень постоянно что-то менять, разные мелочи, которые, однако, тут же замечали. Так трактирщик веселил своих гостей, и, возможно, по этой причине его заведение процветало.
Но самым известным элементом декора долгое время оставалась подвешенная к потолку на длинной цепи большая клетка с настоящим живым кроликом — талисманом заведения. Кролик, как помнил Фёдор, был абсолютно белым, в общем-то, чистеньким, с пушистой переливающейся шёрсткой и совершенно ненормальным именем Дюрасел. Всё было бы хорошо, только к концу вечера от клетки начинало изрядно попахивать. На аппетит и пищеварение кролик Дюрасел не жаловался, и за длинный день этот запах проходил все стадии своей остроты, зашкаливая где-то за отметкой «непереносимый». Вот тогда подвыпившие посетители не выдерживали, умоляя хозяина наконец сжалиться и пустить зверушку на рагу. Но вообще-то к забаве Сливня все относились с пониманием — талисманы на канале уважали.
А потом Дюрасел сдох. От старости, время пришло. Сливню даже в первое время приносили соболезнования, но трактирщик высказался в том духе, что да, помер мой Дюрасел, отлетел, как осенний листок, но он прожил счастливую жизнь, талисман как-никак, и сделаю-ка я из него чучело. Помещу обратно в клетку в полный рост на задних лапах и закачу по нему вечеринку, чтоб зверушка услышала её со своих кроличьих небес. Помянуть беднягу Дюрасела собрался полный трактир, но когда с соболезнованиями хозяину было закончено, кто-то заметил, что во всём есть свои плюсы: Дюрасел в новом виде выглядит столь же милым и гарантированно не столь же вонючим. Словом, вечеринка удалась, и с тех пор к видоизменённому талисману стали относиться даже с большим теплом, чем к Дюраселу времён безотказной работы пищеварительного тракта.
Фёдор прошёл «лаз» в кроличью нору — во дворе никого, — и двинулся к домику. Скинул с плеча баул с флягами, которые называли «четвертями», потому как вмещали по два с половиной литра каждая. Он решил оставить вещи во дворе и направился внутрь поискать хозяина — возможно, Сливень возился в подсобках.
(и о чём были странные слова?)
Фёдор осторожно толкнул дверь, где-то в глубине звякнул входной колокольчик, приглашая юношу в пустынный притихший полумрак — в трактире ни души. Лишь клетка с чучелом поскрипывает на цепи в своём привычном углу. Оно и понятно: народ затаился, хотя уже к вечеру появятся первые посетители, а завтра и все три ярмарочных дня здесь будет вообще не протолкнуться. Дмитровские капиталистые купчишки понавезут много чего в обмен на нашу рыбу, ещё, конечно, станут затариваться сидром многих сортов (и судя по цветению, к осени урожай обещает быть очень даже отменным), ну, и, разумеется, главный наш товар, так сказать, уникальный, не имеющий аналогов и конкуренции, — электричество. По мнению чужаков из глухих тёмных деревень, таинственная вещь, которую ворожат учёные. Собственно, ему, электричеству, Дубна и обязана покровительством Дмитрова. Ведь из-за него, как догадывался Фёдор, учёные и живут так вольготно в своих просторных коттеджах в древней тени реликтовых сосен. Местные любят посудачить о дмитровских благодетелях, хотя, на взгляд Фёдора, что-то здесь не так, и ещё далеко не ясно, кто в ком больше нуждается. Еда у нас почти вся своя. Крольчатинка и свинина. И лодки мастерить не перевелись умельцы. Ну, нет пахотных земель, с собственным хлебушком и любым зерном у нас плоховато, да и вообще земли мало — лишь узкие полоски вдоль рек и левого берега канала — всё учтено, нарезано под фермы и яблоневые сады. Зато есть что предложить взамен. У них ремесло, разнообразная гастрономия, промышленные и редкие товары, оставшиеся от великой прошедшей эпохи, у нас — электричество! Так что ещё далеко не ясно…
Фёдор теперь уже не без лёгкого оттенка гордости усмехнулся и подумал, что в ближайшие три дня весь канал покроется лодками, и назаключают людишки контрактов аж до следующей осенней ярмарки, и потекут в разные стороны звонкие рубли да полезные товары, следовательно, нужда в гребцах возрастёт. Может, и Фёдору улыбнётся удача? «Ведь, — юноша неожиданно вздрогнул, — о чём-то таком были неуловимые слова из странного сна».
Как только Фёдор подумал о сне, этот притихший было маячок тревоги вновь напомнил о себе. И что-то неуловимо переменилось в воздухе. Юноша непонимающе оглянулся, но в поле его зрения попала лишь знакомая клетка, пустые столы, длинные лавки… Фёдор сделал несколько шагов вперёд, к стойке, и остановился. Никого? Однако тут же пришло ощущение, что эта пустынность обманчива. Точнее, даже не так. Перемена была здесь с самого начала, она таилась, скрывалась от Фёдора, оттого руки и стянула гусиная кожа.
— Есть здесь кто? — позвал юноша тихо.
«Что-то я стал какой-то мнительный, — подумал он. — Это из-за странного сна?» И следом его мозг пронзила гораздо более чёткая, коварная и пугающая мысль: «А что в этом сне случилось с чучелом? Не намного ли это важнее сейчас для тебя? Со стоящим на задних лапах стариной Дюраселом? Ведь оно…»
— Дядя Сливень! — позвал Фёдор. — Меня тут батя прислал…
Ответом ему стала полная тишина. Только это неприятное ощущение не прошло. Напротив, оно сделалось острее. Скользкий холодок в спине, гнетущее ощущение чужого взгляда, что наблюдает за вами. Фёдор чуть повернул голову: «Так что случилось с чучелом во сне? Ведь перед самым пробуждением, там, в темноте, чучело белого кролика… Оно…»
— Оно ожило, — хрипло прошептал юноша. И тут же пришла уверенность, что за спиной творится что-то потаённое. Быстрое и скрытное движение, от чего по этой самой спине пробежали мурашки. Оно ожило. И сейчас Фёдор это увидит. Вот прямо сейчас воочию увидит тот самый кошмар, что уже обнаружило его периферийное зрение. Сон настиг его здесь…
Фёдор резко обернулся и… захлопал глазами.
— Фу ты господи! — облегчённо и слабо выдохнул он.
Юноша стоял в абсолютной тишине и смотрел на клетку, понимая, что и нагнал же он на себя страху. В клетке сидел живой кролик, вовсе не чучело. Тоже белый, но покрупнее почившего Дюрасела. Гораздо крупнее, хотя юноше всегда казалось, что Дюрасел, став чучелом, несколько увеличился в размерах. Видимо, когда Фёдор сюда входил, бросив беглый взгляд на клетку, зверюге просто вздумалось подняться на задние лапы,
(как и чучело Дюрасела, которое потом ожило)
вот он и решил…
(ожило.)
Просто спутал, нагнал страху. А сейчас кролик уселся к нему вполоборота и принялся сонно жевать траву. Фёдор снова сглотнул. Вроде бы он не был трусом, но… Всё равно что-то смутное и неприятное так и не желало окончательно выветриваться.
— Дядя Сливень! — на всякий случай снова позвал он.
Кролик никак не прореагировал на звук голоса, впрочем, как и трактирщик. Фёдор сделал шаг, протяжно заскрипели половицы. Ну, ладно! Надо со всем этим завязывать. Юноша быстро подошёл к клетке и постучал пальцами по прутьям:
— Привет, малыш! — Собственный голос показался Фёдору нарочито бодрым. — Ты у нас новенький?
Какая-то золотистая искра пробежала по круглому глазу кролика, а челюсти продолжали деловито работать.
— А я тебя спутал, представляешь? Думал, ты чучело.
Фёдор смолк. Попытка ласково обратиться к кролику очевидно провалилась. И не только потому, что ничего приятного в «малыше» обнаружить не удалось. Скорее напротив, что-то с ним было не так. Этого кролика вовсе не хотелось взять на руки и погладить. Возможно, тому виной какие-то неестественные пропорции; кролик неприятно мясист, раскормлен, возможно, именно это вызывало смутное, чуть брезгливое ощущение. И потом, зачем он вставал на задние лапы и изображал из себя чучело Дюрасела? Принимал ту же позу? Зачем наблюдал за ним?
— Всё! — сказал сам себе Фёдор, глядя, как зверёк принялся жевать капустный лист.
Юноша провёл рукой по лбу и легонько склонил голову. Кролик выглядел абсолютно нормально, и если позволить своему сердцу чуть доброты… Ему вдруг даже стало жаль кролика, словно он его незаслуженно обидел, навыдумывав чего-то из-за испугавшего его сна. Это просто кролик. Трогательное и доверчивое существо, нежное и беззащитное создание божье, как говорит батя. И вовсе нет никакого ощущения болезненной раскормленности… Пугание людей не входит в приоритеты белых кроликов.
— Укушенный-укушенный, пустым мешком, — пробубнил Фёдор, глядя на клетку и раздумывая, что ему могло показаться не так в этой милой зверушке.
Он глядел, как, деловито чавкая, работали челюсти кролика, как он забавно прижимал ушки, каким круглым, с отсутствием контакта, был его глаз, и думал, что с удовольствием бы провёл рукой по его шёрстке. Когда-то, в пору, когда Фёдора называли его детским прозвищем Тео (многие и сейчас так зовут), у него тоже был кролик. Мальчик ухаживал за ним, растил, пока не пришла чёрная весна. И кролика пришлось съесть. Как он тогда плакал и как ненавидел батю!
— Почему ты то пугаешь меня, то заставляешь думать о плохом? — тихо обратился Фёдор к «малышу».
А потом зрачки юноши застыли. Теперь уже не мурашки, а чьи-то холодные пальцы прошлись по спине. И вновь накатили обрывки недавнего сновидения. Всплыли в сознании и повисли здесь, в этой густой тишине. Сон… Он вспомнил голос. Часть фразы.
— Место, где заканчиваются иллюзии, — хрипло произнёс юноша, И кивнул. — Такие были слова.
Кролик в клетке прекратил жевать.
Не совсем так. Не только челюсти зверька приостановили свою работу. С ним происходило что-то ещё. Что-то неестественное, что не случается с доверчивыми беззащитными существами. Снова вернулось ощущение неприятной мясистости, раскормленности, словно пропорции кролика незаметно, совсем чуть-чуть, но видоизменились. Зверёк вроде бы нахохлился, верхняя его губа волнисто задрожала, обнажая блеснувший ряд мелких, но по-кошачьи острых зубов. У Фёдора промелькнула мысль, что таких зубов у кролика не бывает, не должно быть, а потом всё внутри него куда-то провалилось. Он увидел глаза белого кролика. По ним снова пробежала золотистая искорка, только… Цвет их сменился. Они налились сейчас чем-то тёмным, как густой кроваво-вишнёвый сок, и вроде бы стали больше. И Фёдор услышал, — он даже не сразу поверил своим ушам, не хотелось ему верить, — потому что он услышал тихое, похожее на змеиное, нарастающее шипение.
— Что такое?! — Панический всхлип юноши иссяк на выдохе.
Если бы он сейчас не успел инстинктивно отдёрнуть руку, быть бы ему укушенным — кролик с шипением бросился к прутьям клетки и бестолково ударился об них.
«Бешеный, — мелькнуло в голове у Фёдора. — Может, его вообще отловили в тумане, кто их знает!»
(место, где заканчиваются иллюзии)
— Привет, Тео!
Фёдор вздрогнул и быстро отпрянул от клетки. Обернулся. Перед ним стоял Сливень: вытирая руки о край длинного фартука, трактирщик добродушно улыбался.
— Дядя Сливень, — пролепетал юноша. — Как хорошо, что это вы.
— Ну да. — Трактирщик несколько озадаченно посмотрел на парня. — А кого ты ожидал здесь увидеть, сынок? Привидение?
И он отрывисто хихикнул. Фёдор смутился. Но тут же, тыкая чуть согнутым указательным пальцем себе за спину, спросил:
— Дядя Сливень, а этот… этот?..
— Да, кролик, — отмахнулся трактирщик. — Приходили тут одни, дали мне его. Нечего, говорят, Сливень, тебе приличных людей чучелом пугать, пока ярмарка. Мол, гости ваших местных дел не знают. Потом его заберут.
— Он больной, — сказал Фёдор.
— В смысле? — удивился Сливень.
— Больной, — повторил Фёдор. И замялся. Он не знал, что ему следует говорить дальше, в чём, собственно, болезнь кролика. — Ну-у, бешеный…
— Не-е, — заверил Сливень, — здоровый. Проверено.
Фёдор посмотрел на клетку. Никакой перемены не было, никакого плохого ощущения. Пушистый белый кролик, может, чуть крупнее обычного, сидел на своём месте и мирно грыз капустный лист.
— Мне, между прочим, эти-то, которые его дали, — трактирщик перешёл на громкий шёпот, которым обычно сообщают военную тайну, известную всем, — они из полиции были. Вот. Кто дал-то его.
— Зачем? — почему-то спросил Фёдор.
Он так и не определился, что ему стоит и чего не стоит говорить добродушному, но болтливому Сливню. «Вдруг ещё решит, что я баловался чем не тем!» — рассудил Фёдор. Он, как и все на канале, знал про слизь речного червя, вызывающую видения, и про чёрные грибы (их ещё звали сатанинскими) с гиблых болот, знал про сонные споры, надышавшись которыми люди оказывались там, откуда не хотели возвращаться, знал и кое-что другое, но никогда этого не пользовал. Считалось, что молодые люди, вставшие на эту дорожку, очень скоро плохо кончат.
— Дак говорю ж я, не нравится им моё чучело, — вскинулся Сливень, однако как-то странно не глядя на клетку. — Мне-то с ними ж не поспорить, сам знаешь.
— Ну да, — согласился Фёдор.
— Хотя мог бы! — В глазах трактирщика мелькнула неожиданная яростная искра.
— Давно пора, — поддакнул юноша. А сам подумал: «А ведь тебе, дядя Сливень, тоже что-то не нравится в этом кролике, ты что-то чувствуешь… Только вот что?»
Сливень покивал, успокаиваясь, и с прежним добродушием махнул рукой:
— Да брось ты, сынок. Через три дня его и так заберут. Верну своего старика Дюрасела, как только ярмарка закончится. И заживём мы по-прежнему. Всё у нас будет тип-топ. — Сливень подмигнул Фёдору и, как бы подводя черту под этим разговором, совсем другим тоном поинтересовался: — Так с чем ты пожаловал?
Фёдор выполнил поручение отца. И конечно, Сливень по старой дружбе с его родителем не отказал парню в лучшем столике. Хотя его уже пытался забронировать для своей компании сынок высокого полицейского чина из Дмитрова.
— Там на террасе завтра будут одни богатенькие, — пояснил Сливень, — мне ж от них прибыток, как без этого. Но я специально держал лучший столик для кого-то из своих. Ты понимаешь, сынок, о чём речь?
— Ну да, — не нашёлся с ответом Фёдор.
— Ладно, пусть они у меня тут похозяйничают три дня. — Сливень бросил быстрый взгляд на клетку и тут же отвернулся. Возможно, он даже сам не заметил, как чуть-чуть поморщился, а возможно, Фёдору это просто показалось. — А там и пора будет напомнить гостям, что мы у себя дома!
Фёдор поблагодарил радушного и прекрасного в праведном гневе трактирщика, про себя отметив, что и ему будет завтра чем блеснуть перед Вероникой, и двинулся в обратный путь. Батя уже заждался, да и своих дел полно. Он пытался выкинуть из головы странную историю с белым кроликом, объяснить себе всё случайными совпадениями и испугавшим его сном. Пытался, но перед тем, как свернуть с набережной, что-то заставило его остановиться и бросить взгляд на трактир дяди Сливня. Когда он только шёл сюда где-то с час назад, ещё с пустыми флягами, юноша обратил внимание на забавную игру теней. Так уж вышло, что тени от раздвоенных стволов деревьев над входом в трактир с этого самого места очень походили на кроличьи уши, а сама дверь, лаз в нору, — на мордочку зверька. Сейчас ничего забавного он в этом не нашёл. Солнце двинулось к закату, удлиняя тени. Фёдор стоял и смотрел на ещё одно совпадение, и лёгкая испарина выступила на его лбу. Кролик из тени придвинулся к трактиру и выглядел теперь угрожающе. Он напоминал даже не о болезненной раскормленности, а о чём-то хищном, притаившемся в шкурке безобидного трогательного существа. Вот кто-то открыл дверь, и Фёдор вздрогнул: кролик из тени оскалил пасть. Он теперь её не закроет, в трактир потянулись посетители, и дверь будет оставаться открытой. А кролик не станет шипеть — он всё ещё притворялся беззащитным и нежным. И только всё ближе, вслед за уходящим солнцем, подползал к трактиру. Словно ждал, когда пробьёт его час, и тогда уже, отбросив излишние церемонии, он сможет поглотить то, за чем пришёл.
3
— Мать, поди-ка сюда.
Крепкий мужчина с обветренным лицом и выбеленными сединой короткими волосами как-то несколько смущённо смотрел вниз и в сторону.
— Поди, разговор есть.
— Так что ж, Макарушка, говори. — Женщина оторвалась от своей постирушки и мокрой рукой поправила волосы. — Нет же никого.
— Да нет, мать, поди, разговор важный.
Она послушно отложила работу, тем наметив свою готовность, но с места не сдвинулась. Он сам сделал к ней шаг. Видимо, это изменение дистанции показалось ему достаточным для важного сообщения.
«Что-то его точит, — подумала она. — И, похоже, я знаю, что».
Её муж, Макар, когда-то считался лучшим гребцом в городе, а силён, что бык, был до сих пор, — смущение с ним как-то не совсем вязалось и поэтому очень ему шло. Она помнила эти чудесные минуты его смущения, но сейчас сердце ей подсказывало, что разговор ждёт не из простых. Кстати, были в Дубне гребцы, которые до сих пор считали её мужа лучшим.
— Ну, не тяни…
— Сегодня к Веронике опять сваты приходили. — Он всё ещё разглядывал свои стёртые сандалии.
— И что?
— Всё женишка побогаче ищут.
Она вытерла руки о фартук:
— Слушай, чешут люди языками! Ты что, Дубны не знаешь? — Знаю. Только они, как разбогатели, сильно переменились. Скоро вообще здороваться перестанут.
— Макар…
— А что — Макар? Полгода девка сватов принимает, весь город знает, только нашему парню невдомёк.
— Ну так что ж, возраст подошёл. Девка-то видная.
— А к чему тогда Фёдору голову кружить? Ведь он на ней жениться собрался.
Она усмехнулась:
— А ты мне не кружил?
— Это другое. — Он наконец поднял на неё свои усталые, но не потерявшие пронзительности глаза. — Дошло до меня, что они согласие дали.
Женщина промолчала. Теперь ей пришёл черёд смотреть в сторону.
— Пусть сами разбираются, — проронила она.
— Я не хочу, чтоб из нашего сына делали недотёпу, мать. Нечего держать Фёдора на побегушках, а самой…
— Кто хоть?
— Поняла наконец? — Он кивнул. — Хороший вопрос. В этом всё дело. Бузинский сынок. Тот самый, купчишка. Чтоб пересчитать, кто в Дмитрове побогаче Бузиных будет, хватит пальцев одной руки.
— Поди узнай, что там Вероника себе думает, — рассудительно заметила она. — Девка-то ухаживаний его не отвергает. Вон, завтра на танцы собрались.
— Разве это ухаживания? — вздохнул мужчина.
— Решение родителей молодым сейчас не закон, Макар, — попыталась она успокоить. — Может, ну… может, сама-то она…
— О чём ты? Не та уже Вероника. Надо поговорить с парнем.
Она подняла руки в протестующем жесте, да так и застыла. Он был прав. Перемену в Веронике видели все. Кроме Фёдора. А он по-прежнему выходил у неё за порученца, ухажёра и носильщика её вещей. Так повелось у них ещё с детства, со школьной скамьи. Только и детство, и школьная гимназия давно остались в прошлом. Но передавливать в этом деле нельзя.
— Разве это ухаживания? — повторил Макар. И сделал к жене ещё один шаг. И вдруг глаза его весело блеснули. — Или ты забыла, какие бывают ухаживания?
Он ухватил её за руку, приобнял, чуть отклонив, словно приглашая к танцу, и нежно пощекотал:
— А? Забыла?!
— Прекрати. — Она еле заметно порозовела.
— Забыла?
Его щекотания всё больше превращались в ласковые поглаживания. У Макара были большие, крепкие и чуть усталые, как и его глаза, руки с задубелой кожей; тёмные от солнца руки гребца, сильные и нежные.
— Прекрати! — хрипло и весело прошипела она, попытавшись вырваться, впрочем, не прикладывая особых усилий. Потом с сожалением поняла, что вырваться придётся. — Прекрати, вон уже Федор идет.
Это было правдой. Сын возвращался с большими четвертями холодного сидра, и Макар прекратил.
— За вами теперь должок, — он ей подмигнул. — Как стемнеет.
— Увалень, — отрезала она, ещё больше розовея.
— Ничего. Попытаюсь справиться, — пообещал мужчина.
Она хихикнула. Потом серьёзно посмотрела на мужа:
— Макар, прошу тебя, не надо ему ничего говорить. Если всё подтвердится, если это правда и Вероника тоже так решила…
— А у тебя остались сомнения?
— Тогда она ему сама… Пообещай мне немного подождать. Дай им возможность объясниться. И ему, и ей.
— Три ярмарочных дня они будут на людях. Ты хочешь, чтобы нашего сына продолжали водить за нос?
— Именно поэтому — они будут на людях. И им придётся… Понимаешь? Теперь Вероника просто будет вынуждена объясниться, чтобы, ну… не было двусмысленности. Всё решится в самые ближайшие дни. Да и Бузины не потерпят, чтобы их будущая невестка… Понимаешь?
— Не потерпят — что? Чтоб якшалась не пойми с кем?
Глаза Макара блеснули, а в низком хрипловатом голосе мелькнула жёсткая нотка. Как ей нравился этот голос!..
Она улыбнулась.
— Нет, — произнесла она с достоинством. — Я этого не говорила. Чтобы их будущая невестка продолжала принимать ухаживания другого. Вот и всё.
Макар смотрел на неё, а Фёдор уже приотворил калитку.
— Наверное, ты права, — наконец сдался мужчина. — Я просто не хочу… Парню двадцать скоро, нельзя так. Не по-людски. Вот… выставлять его мальчишкой на посмешище. Ну, ладно, права ты. Пусть так и будет. Три дня ждём.
— И Макар, — она снова улыбнулась, она умела обставлять свои победы незаметно, так, чтобы последнее слово оставалось за мужем. — Зря ты его, по-моему, с этим бухучётом мурыжишь. Не по нему это, и к другому парня тянет.
— К другому…
— Фёдор по твоим стопам пойти хочет. Неужто не знаешь?
— По моим стопам… Много ли мы добра моим ремеслом нажили?
— А по мне так в самый раз. — Она развела руками, вроде бы обводя двор и их нехитрое хозяйство, но на самом деле указывая на мужа и идущего от калитки Фёдора.
Мужчина бросил быстрый взгляд на юношу и наконец тоже улыбнулся. Потом вздохнул:
— Дурь это у него в голове. Сам таким был. Ты же знаешь, мать, если из дюжины гребцов хоть одному подфартит, считай, хорошо. Удача к нашему брату сурова. Знаешь ведь.
— Знаю. Но Фёдор всегда был смышленым и…
Упрямым? И это тоже, но не совсем так. Она не нашла правильных слов. Упрямый — да, но и… Где-то там, очень глубоко, внутри весёлого, отзывчивого и всегда покладистого Фёдора скрывался камень. У их мальчика была очень твёрдая сердцевина. Она всегда чувствовала это. Словно внутри него был какой-то совсем другой человек, о котором юноша, возможно, и сам не догадывался. Порой это её озадачивало. Порой немножко пугало.
— Софья Спиридоновна взялась обучить бухгалтерии, — сказал Макар. — Это всегда твёрдый заработок. Надёжный. Парня надо на ноги ставить, мать. А вся эта дурь…
— Макарушка, неужели не видишь, что наш сын восхищается тобой?
— Вот тоже…
— Ты видел его глаза, когда… ну, когда вы с парнями рассказываете?..
— Я уж пеняю на себя за свой болтливый язык, — в сердцах обронил мужчина. И бросил взгляд на Фёдора. Было видно, что в душе-то он польщён.
— Не пеняй. Нашлось бы кому рассказать.
«Дело говорит за себя», — любили повторять гребцы. И снова уходили по каналу. Труд их был тяжёлым и опасным. И почти всегда за копейки. Её муж знает, что это. И боится за Фёдора. Только не усидит их парень на тёплом бухгалтерском стуле.
Упрямый? Бесспорно. Но вот и то, что её пугало… когда ей казалось, что внутри Фёдора скрывается кто-то ещё. Не просто тайный характер, который ещё проявится. И тогда она думала: «А вдруг это правда?» И лезли в голову тёмные мысли, и тяжесть ложилась на сердце. Умом она понимала, что всё это бессмысленные глупости, невозможная чушь, но иногда думала: а что, если так оно и есть? Вдруг все эти байки, что ходят про гидов, — правда?
На канале болтали о вещах самых невероятных, плели столько небылиц, особенно про учёных и гидов.
Оно и понятно, люди их не понимали и побаивались. По крайней мере, относились с настороженностью к тем, кто ходит в туман, хотя и видели, что это необходимо. Львиная доля всех этих россказней оказывалась нелепой выдумкой. Только в эти тёмные минуты ей казалось: «Но как, если хоть что-то из этих невероятных, а порой и безумных фантазий окажется правдой?» И тогда её мальчик… У неё были более чем веские основания прислушиваться ко всем этим историям. К сожалению, были. Основания, связанные с Фёдором, с их Фёдором. Ей даже думать не хотелось о том, что Фёдор может стать гидом. Вещи, которые она слышала, были пугающими. О том, что может произойти в тумане. И особенно о младенцах, которые… не совсем младенцы. И в эти тёмные минуты, когда подкрадывалось шершавое безумие и тяжестью ложилось на сердце, она думала, что если это сможет его уберечь, пусть уж лучше идёт в гребцы. Порой она сама смеялась над собой, порой чувствовала, что балансирует на грани и уже не знает, чему верить. Но уж лучше в гребцы. Потому что если это так и во всей этой болтовне есть хоть крупица правды, то никакой бухучёт его уже не удержит.
Она взглянула на мужа, и тут же оба услышали весёлый оклик Фёдора:
— Мам, пап, если не видите, я вернулся!
Она поняла, что необходимо взять себя в руки. Обычно они шутили друг с другом, и когда женщина обернулась, на губах её играла улыбка, а тени, залёгшие у глаз, были почти незаметны.
— А ты кто? — поинтересовалась она.
— А кто обычно зовёт вас «мам-пап»?
— Мам-папом?
— Но вы можете считать меня разносчиком сидра.
— Ладно. Договорились. Поставьте в погреб. И ступайте своей дорогой.
Она бросила взгляд на мужа.
— Может, мы покормим его? — И поняла, что ещё чуть-чуть, и улыбка её будет выглядеть вымученной. — Ужин скоро. — Она добавила в голос строгости. — Но за стол у нас пускают только с чистыми руками.
— Знаю, — насупился Фёдор. Поднялся на крыльцо и вошёл в дом. В их совсем крохотный, но чистенький двухэтажный дом, который они делили с ещё одной семьёй такого же неразбогатевшего гребца.
Женщина вздохнула. Макар пристально смотрел на неё.
— Не думай о плохом, — вдруг попросил он.
Она ответила мужу долгим настороженным взглядом. Щёки её уже какое-то время не казались порозовевшими.
— Как скажешь, — негромко отозвалась она.
4
Ворон Мунир доставил своё послание по назначению. И когда перед адресатом побежали буквы, его лицо преобразила тихая счастливая улыбка.
— Наконец-то, — прошептал он.
Сообщение было сухим, сдержанным, ни одного лишнего слова:
«Его манок цел и действует. Сегодня с утра манок выглядел совсем как новенький. Я вызвал Мунира при помощи его манка.
P.S. Думаю, завтра они начнут поиск по всему каналу. Мы сделали всё, чтобы Дубна привлекла их наименьшее внимание».
Эта радостная улыбка ещё какое-то время светилась на лице адресата. Но потом она померкла. И у переносицы залегла глубокая тревожная складка.
5
Вторую ночь подряд Фёдору снились странные беспокойные сны. Он спал в своей крохотной комнатке, уместившейся на чердаке с единственным оконцем, и лунный свет падал на его лицо. Луна набирала силу, войдя уже в третью четверть, и возможно, это она беспокоила юношу, и возможно, лёгкий ветерок, играющий быстрыми тенями, или что-то иное, но Фёдор ворочался, и сон его был неверным. Вот и сейчас он проснулся, отчётливо слыша голос Ивана Афанасьевича, строгого учителя начальных классов по критической теологии, о котором, к счастью, он давно уже успел позабыть. Фёдор не питал никаких сентиментальных чувств к школьной гимназии, окончил её с грехом пополам, а в день выпуска, когда у многих одноклассников, и в особенности у одноклассниц, трогательно блестели глазки, а некоторые девочки даже утирали слёзы рукавом, он был несказанно рад, что всё это тягостное мучение осталось позади. Однако сейчас он почему-то услышал голос старого учителя и увидел его хмурое лицо (Иван Афанасьевич вроде как вообще никогда не улыбался; сказать, что его побаивались, было бы явным недобором, да только беда в том, что предмет его входил в список обязательных). Фёдор лежал с открытыми глазами, смотрел в окошко, посеребрённое луной, а голос «старого цербера», как порой и, конечно, за глаза именовали Ивана Афанасьевича, всё ещё звучал в нём.
«Когда-то канала не было. Волга здесь просто делала поворот в сторону Ярославля, неся свои прозрачные воды мимо родной Дубны. Потом пришли строители канала, перекрыли реку плотиной, и стало Московское море, Иваньковское водохранилище. И насыпали дамбу, в ней прорыли шлюз номер один. При выходе из шлюза по обоим берегам дамбы установили памятники Ленину и Сталину, двум великим строителям канала».
Голос был сухим и монотонным, и, скорее всего, юноша опять уснул. Потому что голос этот стал озвучивать какие-то странные вещи, и Фёдор не был уверен, слышал ли он их прежде;
«…установили памятники Ленину и Сталину, двум великим строителям канала, открывшим электричество. Одно — электричество из воды и второе — электричество из атома. Беречь его они доверили учёным. И прямо за шлюзом № 1, в пятистах метрах строители прорыли канал до Москвы, самого прекрасного города на земле. А Дмитров тогда был всего лишь одним из множества процветающих городов по берегам канала. Потом что-то случилось. Второй памятник, Сталину, убрали. Так закончилась Золотая эпоха. С этого началось разрушение мира».
Лунный свет бередит лоб спящего юноши, и открывается ему уже не странная, а жутковатая картина. Он стоит на каком-то огромном, обрушенном в воду мосту, обдуваемый безжалостным колючим ветром, и далёкие молнии прорезают свинцовое небо. Фёдор никогда не был на этом месте прежде, но почему-то знал, что где-то на канале оно существует. И вот сейчас, с головокружительной высоты моста кто-то сорвался… падает вниз, в ледяную воду. Старый учитель? Фёдор видит лицо Ивана Афанасьевича под слоем воды, понимая, что и сам находится в этой мутной воде. Лицо удаляется, опускается вниз к тёмному дну, а Федор почему-то вынужден следовать за ним.
Ему этого очень не хочется; неприятное предчувствие, а может быть, и тревожное знание говорят, что с этим лицом что-то не так. Что оно лишь маска, всё более очевидно увлекающая его в ловушку, западню, и надо немедленно всплывать на поверхность. Но как это и бывает во сне, Фёдор не в состоянии сопротивляться, сила тяжелая и неколебимая увлекает его всё дальше в глубину, заставляя искать ускользающего обманщика Ивана Афанасьевича. Фёдор движется во мраке, и единственным ориентиром здесь является лицо старого учителя, до того бледное, что кажется, будто оно светится, как речной жемчуг. Юноша уже почти настиг беглеца. И в последний момент он видит, что строгое лицо становится чем-то другим. Прямо на глазах оно меняется, застывая, и превращается в камень. Но не совсем… У самого дна в мутных слоях ила, где маски теперь сброшены, Фёдор видит, что вовсе не хмурый учитель был предметом его погони. Там, на дне, лежит каменная голова, словно отвалившаяся от огромного памятника, лик её чуть присыпан, и от этого Фёдор только укрепляется в уверенности, что голова была здесь всегда и ждала именно его. Юноша отчаянно пытается всплыть, он не хочет видеть того, что — он уверен! — сейчас произойдёт, но лишь беспомощно барахтается в недвижных слоях воды. Потом он прекращает свои бессмысленные усилия. А сердце его стучит так бешено, что Фёдор, наверное, просто задохнётся от страха и удушья.
«Вот в чём дело, — с какой-то убийственной смесью паники и апатии всхлипывает юноша. — Вот для чего я здесь». Да, он здесь именно для этого. Чтобы с беспощадной неотвратимостью увидеть, что вовсе не бледностью речного жемчуга светилось ускользающее лицо. Потому что пустые каменные глаза вдруг начинают открываться, и их наполняет бледно-зелёный свет. Здесь, в тёмном месте на дне канала глаза каменной статуи светятся какой-то тайной и чуждой жизнью, и как только это бледно-зелёное свечение отыщет его…
«Это мёртвый свет», — слышит Фёдор блёклый, будто отсутствующий голос. Взгляд каменной головы всё ближе; извиваясь, делая последнюю отчаянную попытку оттолкнуться, всплыть, вырваться из кошмарного наваждения, Фёдор начинает кричать; он кричит что есть мочи и… просыпается.
Но явь оказывается хуже сна. Потому что всё это не закончилось. Каменная голова была здесь. Она глядела на него за окошком, кошмар проследовал за ним в его комнатку. Фёдор снова всхлипнул: нет, всё не так, это всего лишь луна, и кричал он, скорее всего, негромко. Фёдор повернул голову и сглотнул какой-то прелый ком, подступивший к горлу. Он лежал на скомканной и мокрой простыне, постепенно приходя в себя и понимая, что сонная тишина и умиротворение окутали дом. И к счастью, родители, чья спальня располагалась прямо под ним, на первом этаже, скорее всего, не слышали его. Он не разбудил их своими дурацкими детскими страхами. Сон. Просто дурной сон, и теперь он прошёл. И хоть к таким вещам на канале относились серьёзно, всё же «сезон сновидений», который случается в самом начале каждой весны, когда к людям приходят сны вещие, остался далеко позади.
Однако его родители в своей спальне на первом этаже вовсе не спали.
— Мать, пора, пора с ним поговорить, — произнёс Макар и нежно погладил жену по волосам. — Парню скоро двадцать, чего ж тянуть.
— Но как же… — вздрогнула женщина.
— Пора ему всё рассказать.
— Ну, постой, потерпи, Макар…
Мужчина какое-то время молчал. Потом негромко, но твёрдо произнёс:
— После ярмарки, мать.
Он обнял жену, привлекая её к себе, и почувствовал, что какое-то время она была тверда и непреклонна, как камень. Потом обмякла, прошептав:
— Мальчик мой. Ну как же…
Обмякла и прильнула к мужу. И они любили друг друга, два уже немолодых человека. Любили боязливо и осторожно, чтобы не разбудить спящего в комнатке на чердаке сына. Потом боязливость и осторожность прошли, из страхов и горечи всплыла страсть, и уже давно им не было так хорошо.
А Фёдор в это время крепко спал. И до самого утра никакие дурные сны больше не беспокоили его.
Вместе с восходом он проснётся бодрым и счастливым и, умываясь, станет петь. Впереди его будет ждать много важных дел в «Белом кролике» — этот решающий ярмарочный день, к которому Фёдор готовился весь год, наконец-то пришёл.
Но пока юноша спал. Вскоре сон охватил и его родителей. Сладкая дрёма разлилась по всему дому. А плотные ставни на окнах да надёжные дверные засовы охранят спящих от тревожных шорохов, таящихся в ночи, и того, что могло бы их издавать.
Однако это вовсе не значит, что дурные сны ушли насовсем. Они ещё кружили над рекой, где закончились ярмарочные приготовления, и теперь в темноте трактира сидел в своей клетке белый кролик. Они ещё таились в тенях, подкрадывающихся к домам людей, так что было непонятно, стоит ли кто неподвижный во дворе и смотрит неотрывно на окно Фёдора, или это всего лишь та же неверная тень от ветки раскидистой сосны.
Настоящие дурные сны не ушли. В этот предрассветный час они словно искали себе укрытия. Они ещё были где-то. Рядом. Совсем недалеко.
Глава 2
Неожиданное предложение
1
— Сын, опять ворон считаешь?
— Нет, батя, что ты? — немедленно отозвался Фёдор. — Невосполнимые убытки отмечаем красным сторно. Правильно?
Макар улыбнулся: как это у него получается? Он внимательно посмотрел на сына: ведь парень явно только что отсутствовал, витал в облаках, путешествуя где-то по своим мечтам, и вот на тебе — оказывается, и не совсем витал, кое-что да слышал.
— Что ж, продолжим. — Макар бросил беглый взгляд на резные настенные ходики с кукушкой, он помнил о своём обещании.
Фёдор покорно вздохнул.
— Хм-м… Пойми, бухгалтер в налоговой дмитровской полиции…
— Знаю, отец, ты мне говорил уже.
Злится. Не по нраву нам бухгалтерия, всё каким-то ребячеством грезит. Когда злится, всегда говорит «отец» вместо «батя». Хитёр ведь гусь, как ни крути, а всё уважительно получается. Да вот только эта его мечтательность, которую посторонние принимают за рассеянный характер…
— Сын, Софья Спиридоновна взялась обучить тебя бухгалтерии из любезности, и нам надо повторить урок до твоих танцулек.
— Батя! Хочу я гребцом быть, ведомо ж тебе про это, — неожиданно горячо выпалил юноша. — Водить лодки по каналу! Или ещё дальше, как ты.
Макар нахмурился. Рассеянно похлопал по карманам своего широкого рабочего комбинезона.
— Ты ведь лучший гребец в городе, — тихо добавил Фёдор.
— И что толку? Толку-то что?! — Макар нашёл курительную трубку и кисет с табачком. Если в его голосе и промелькнула гневная нотка, то всё давно прошло. — Посмотри на меня, сын. Посмотри: седой как лунь. Старик. А ведь только-только пятьдесят… Тридцать из них на канале. Да гол как сокол!
— Что это ты, батя, про птиц заладил, — попытался разрядить обстановку Фёдор.
Но отец поднял руку, показывая ему три разведённых в стороны крючковатых пальца, повторил:
— Тридцать. Ты тоже так хочешь?
Фёдор посмотрел на руку отца и снова попробовал пошутить:
— Это три, батя. Не тридцать.
Тот лишь отмахнулся:
— Поверь своему старику, выкинь всё это из головы. Лучше крепко стоять на ногах.
Помолчали. А потом Фёдор улыбнулся, и опять что-то промелькнуло в его глазах, чему они с матерью так и не отыскали определения.
— Гребцам иногда очень везёт, батя, сам ведь рассказывал.
— Вот эта мечта…
Макар прервался на полуслове, потому что чуть не сказал «сгубила мою жизнь!». Но так ли это? Ну, не нажил денег, да все живы-здоровы. Сын, подаренный на старости Богом, подрастает, а они с матерью по-прежнему нежно любят друг друга. Можно сказать, он счастливый человек. Да вот только… в деньгах ли всё дело? Если копнуть поглубже? Или в том… что какого-то главного приключения в его жизни так и не случилось?
На мгновение какая-то тень накрыла лицо Макара. Он набивал трубку дешёвеньким самосадом и думал, что все эти мысли — это всё вирус гребцов, вирус дальних странствий. Плохое дело. Те, кто не сможет с ним справиться, калечат жизнь и свою, и близких, а с людьми ужиться не могут. И эти гиды — у них и близких-то, наверное, нет, — той же породы. И даже хуже, упаси нас от этого!
Вслух он сказал:
— Да, сын, ты прав, иногда им везёт. — Его пальцы быстро раскатывали табак; трубка вишнёвого дерева осталась от лучших времён, когда он и сам был полон надежд. — Но девяносто девять процентов с трудом сводят концы с концами, — вдруг в его глазах мелькнул лукавый огонёк, и он снова добавил, — поверь ты своему старику.
— Никакой ты не старик, батя.
Макар вздохнул:
— Ладно, всё на сегодня. — Настенные ходики показывали начало пятого. — Как обещал. Свободен. Беги в свой «Кролик». Но всё же помни, о чём я тебе сказал.
2
Когда Фёдор вышел на террасу, с Волги потянуло приятной прохладой, хотя до заката оставалось ещё далеко. Как и обещал дядя Сливень, один из лучших столиков был зарезервирован за ним, но Фёдор не спешил присаживаться. Лишь заботливо, чуть выравнивая, поправил скатерть — он собирался сделать сюрприз запаздывающей Веронике. Потом всё же не выдержал и уселся на один из стульев: если не оборачиваться и не смотреть прямо через реку, то тумана на другом берегу можно и не увидеть. Зато совсем скоро вверх и вдоль по течению реки откроется восхитительной красоты закат. Это будет место Вероники, очень подходящее для такого романтического вечера, потому что сегодня Фёдор расскажет ей всё о своих планах, а потом… Юноша мечтательно улыбнулся и машинально провёл рукой по груди. Как и было принято, молодые люди на канале дарили своим избранницам изящные замочки, ключи от которых оставляли себе, а в день будущей свадьбы молодожёны должны будут запереть замочек навсегда, повесив его на резные перила мостика Влюблённых, что у памятника Ленину, а ключ бросить на дно канала. Вот он, ключ, на тесёмке. У самого сердца…
Собравшиеся к вечеру на террасе, по выражению дяди Сливня, «одни богатенькие» с недоумением поглядывали на простоватого паренька, занявшего лучший столик на двоих, но Фёдор не смущался под их пытливо-любопытными взглядами. Он не испытывал зависти к чужому достатку, но думал лишь о своём. И уж кем-кем, а купцом заделываться не собирался точно. Правда, как и бухгалтером… Расскажи о своих планах — Бог посмеётся. А может, и чёрт — так говорили на канале. Совсем скоро Фёдору на собственной шкуре придётся убедиться в справедливости этой пословицы. А пока его пригласил за свой стол, стол гребцов, старинный батин приятель Матвей по прозвищу Кальян, чем юноша был несказанно польщён. Вот Вероника удивится! Фёдор теперь стал серьёзным, сидит на равных с одним из самых известных капитанов и ведёт размеренную беседу. Ну, конечно, не совсем размеренную, но как можно оставаться спокойным, слушая невероятные, манящие истории людей канала? Даже если половина из них — Фёдор готов допустить — выдумки да байки.
— Да в том-то и дело, — продолжал рассказывать Матвей Кальян, — когда убрали памятник второму вождю, голова отвалилась и упала в воду…
— Плохой знак. Только я слышал вещи похлеще: будто её что-то двигает по дну канала, подводные течения или ещё какая неведомая сила.
— Чего двигает?
— Каменную голову, вот чего! Поэтому никто толком не знает, где она покоится. Отсюда всё на нашего брата…
— Ну, про это я ничего не скажу, — пожал плечами Кальян. — Но поверье есть: тот из гребцов, чья лодка пройдёт над каменной головой, никогда уже не вернётся из рейса. Поверье есть, что правда, то правда.
Гребцы стукнули кружками о край стола и помянули пропавших без вести. Матвей скосил взгляд на Фёдора, и юноша понял, что отказаться не удастся. Впрочем, никто из гребцов на открытие ярмарки напиваться не собирался. Почти всех за столом Фёдор или знал, или уже видел. Из чужаков были только двое — альбинос с каким-то бегающим взглядом, который очень пытался расположить к себе всякими расспросами («Из Икши, наверное, — чуть ранее сказал про него Матвей Кальян. — Там теперь только такие и рождаются, да ещё рыжие, после того, как большую часть города накрыл туман»), и ещё кто-то с бесцветным лицом и печально-угрюмыми глазами. А разговор тем временем принимал всё более захватывающий оборот, и Фёдор слушал во все уши.
— А как отличить скремлина от обычной зверушки? — интересовался альбинос.
— Не знаю. Пока он обычный, по нему и не поймёшь, — рассудительно отвечал Кальян.
— Не, ну правда, капитан, приходилось же брать в рейс гидов?
Матвей лишь неопределённо кивнул.
— Скрытые мутанты, — вдруг решил продемонстрировать свою осведомлённость Фёдор. — Ну, это… облучённые.
— Я слышал, что они вообще вроде как… существа тумана, — мрачно заметил этот бесцветный «кто-то».
— А укушенный… ну, как вампир, сам может становиться скремлином, — подхватил зыбкую тему один из гребцов. Густая борода и лихо повязанная узлом на затылок яркая косынка придавали ему сходство с китобоем или пиратом из старинных книжек, что Фёдор увлечённо проглатывал ещё в гимназической библиотеке. — Ну, если это зверушка. А люди умирают страшной мучительной смертью, вот. Или… меняются, какими-то странными становятся, неуютно им.
— Или уходят в туман, — ещё более мрачно добавил бесцветный.
— Дурни вы! — рассмеялся Матвей Кальян. — Вон там гид сидит, в их зале-то, щас услышит. — Он наклонился и быстро заговорил вполголоса, хотя взгляд его оставался весёлым. — Я слышал, они с гидами дружат, скремлины. Они им, гидам, выходит, как глаза. Позволяют много чего видеть.
— Чего?!
— Того. Опасность, вот. Мерзость всякую и жуть тумана, которую просто так, обычными глазами не увидеть. Так я слышал.
— А про укус? — не отставал альбинос. — Все говорят, что страшнее ничего нет.
— Да не знаю я толком, — отмахнулся Кальян. — Слышал только, что просто так скремлины никогда не кусают. В смысле, пока он обычный. Зверушка и зверушка. А вот когда переменится…
В зале дали музыку. Как и положено, праздник открывал вальс «Синие волны», играл оркестр местной артели, входящей в общую гильдию гребцов. Порой, бывало, дядя Сливень, оставив работу на сподручных, сам присоединялся к музыкантам и дудел в рожок. Но сегодня такого не произойдёт — уж больно много народу стало собираться, и работы будет по горло. А Вероника всё не шла.
* * *
Спустя час в трактире стало не протолкнуться. На террасе собирались те, кого на канале именовали «золотой молодёжью»: всё сплошь купеческие детки да ещё детки высоких чинов водной полиции.
— Конечно, девки у вас в Дубне что ни есть красавицы, — не унимался болтливый альбинос. — Всех самых видных женихов у нас поуводили.
— Да ладно тебе, — добродушно отозвался здоровяк Матвей Кальян.
— А что ладно? Вон, дочка Щедрина, говорят, за самого сына главы полиции собралась. Да и Самсоновы с купчишками вот-вот породнятся. Самые красивые женщины у вас.
Кальян ухмыльнулся. А Фёдор заставил себя не услышать последней фразы. Может, просто совпадение, к тому же у Вероники была сестра на выданье. Только заказанный им столик вдруг показался Фёдору одиноким и заброшенным. На террасе действительно столпилось очень много народу, мест на всех не хватало, и дядя Сливень уже два раза приносил и уносил ведёрко, где охлаждалась огромная бутыль лучшего сидра.
И, конечно, никто не обратил внимания, как в зале появилась клетка с кроликом, почему-то установленная на тележке с колёсиками. Лишь дядя Сливень проводил клетку с живым зверьком, что сменил на три дня чучело почившего Дюрасела, каким-то печальным взглядом. Да и Фёдор неуютно завертелся, словно снова услышал этот голос из вчерашнего сна в весёлом гомоне трактира — его позвал кто-то? — впрочем, так и не определив, что его взволновало.
* * *
Кое-кому всё же хватило проницательности. Тот самый гид в длинном походном плаще, о котором совсем недавно обмолвился Матвей Кальян, сидел в теневой нише в полном одиночестве. Он полудремал за большой кружкой настоящего дмитровского пива, надвинув на глаза мягкую шляпу, которую считал панамой. Впрочем, плащ его сейчас был чист от пыли, а шляпу он только что снял и положил перед собой на стол. Сделал большой глоток пива, отёр рот сомкнутым кулаком, задержав ненадолго и словно бы подув в него. Затем отодвинулся поглубже в тень, так что рассмотреть его теперь не представлялось возможным. Всё оружие было принято оставлять у входа в заведение в специальной ружейной комнате, что гид и сделал. Но, невзирая на майское тепло, плаща не снял. Вряд ли бы кто решился его обыскивать. Вряд ли кто подозревал, что в глубоком правом кармане плаща покоился небольшой, но увесистый ствол, вполне подходящий для ближнего боя револьвер «бульдог».
3
Вскоре Вероника появится. Но всё, что произойдёт дальше, Фёдор будет помнить как во сне. Он так и не поймёт, что случилось с ним и с его возлюбленной.
«Привет, Фёдор, я ненадолго», — скажет Вероника.
От удивления он захлопает глазами и промямлит нечто невразумительное.
«Прости, должна была тебе сказать… Меня пригласили раньше».
«Как? — Фёдор лишь укажет на террасу. — У нас заказан свой столик. Самый лучший, вон, смотри… Я ждал только тебя».
Но Вероника, словно сожалея, покачает головой, изобразив что-то типа усталой улыбки: «Да, но я ведь объясняю, меня пригласили раньше. Но… мы обязательно потанцуем, — девушка кивнёт с каким-то слишком уж излишним энтузиазмом, — обещаю».
«Но ты уже обещала! Пойти со мной…»
«Фёдор, давай не будем портить друг другу вечер. Потом поговорим».
И всё, всего несколько слов.
Расскажи о своих планах… Фёдор так и не поймёт, что с ними случилось. Почему его девушка предпочтёт провести их вечер в обществе веселящейся на террасе купеческой молодёжи, и кто виновен в последовавшем скандале и потасовке. Он сам, глоток ли крепчайшего яблочного самогону, что выпил за упокой пропавших гребцов, купеческие сынки, насмехавшиеся над ним, когда он вновь попытается объясниться с Вероникой, или подначивавший всех альбинос. Девушка, желая избежать конфликта, все же даст ему ещё пять минут и наговорит, верно, с досады, кучу всего, чему Фёдор откажется верить, только конфликта всё равно избежать не удастся. Позже Фёдор решит, что все действовали по какому-то, словно принудительному, недоразумению, наваждению, вовсе не поспевая за событиями, которые посыплются, как снежный ком. Но было ещё кое-что. В самом начале заварухи, когда один из купеческих сынков забавы ради решит проучить Фёдора, предательски врезать ему, подойдя со спины. Накатило странной волной, как и вчера, когда Фёдор стоял тут в одиночестве перед клеткой с белым кроликом,
(чучело Дюрасела ожило)
и что-то случилось. Этот голос из сна прозвучал снова. Только теперь жёстко, чуть насмешливо, но и предупреждающе (или заботливо?), отчего и показался похожим на отцовский, будто откуда-то издалека батя пытался остеречь его. И тихий покладистый Фёдор, прекративший всякие драки ещё в начальных классах гимназии, почувствовал внутри себя какое-то незнакомое холодное возбуждение, и его рука словно сама ушла назад… а потом, незнамо как, обидчик оказался на полу. И ещё один. Фёдор ошеломлённо смотрел на своих противников.
— Ты знаешь, козёл, на кого руку поднял?! — заорали ему. — Это сын самого главы гильдии…
Но наваждение уже прошло. Удары посыпались со всех сторон. Несчастный Фёдор даже не пытался отбиваться, и быть бы ему разделанным под орех, если б Матвей Кальян не вступился за юношу. Весь стол купцов, многие из которых были с охранниками, поднялся на ноги, подтянулись ещё гребцы. В трактире «Белый кролик» на открытии весенней ярмарки началась нешуточная буза. Фёдор ещё хотел отыскать глазами свою возлюбленную, но здоровяк Кальян, воспользовавшись общей неразберихой, потащил его к выходу.
В следующий раз он увидит свою Веронику очень нескоро и совсем при других обстоятельствах.
4
Гид в теневой нише внимательно следил за развитием конфликта, хотя внешне оставался безучастным. Как только симпатичная девушка отошла от столика гребцов (гид слышал всё, что она сказала своему молодому человеку, и почему-то это его не удивило) и направилась на террасу к веселящейся компании купеческой молодёжи, где ей уже вовсю приветливо махали, альбинос протянул ей вслед:
— Ну, я ж говорю, Самсонова за купчишку собралась. — Затем, словно спохватившись, уставился на Фёдора. — Ты чего, парень, расстроился, что ли? Так… это что, была твоя девушка?
Мест на всех действительно не хватало, и единственный оставшийся незанятым столик только что лишился своих стульев, на один из которых усадили Веронику. Эта сомнительная и бесцеремонная выходка была встречена весёлыми аплодисментами.
— Купеческие свиньи! — возмутился альбинос. — Да ещё и стулья ваши забрали.
Только на секунду его простодушный взгляд сделался пытливым и холодным.
Гид сидел в своём углу, скрытый тенью, и спокойно ждал, понимая, что конфликт неизбежен.
«Капитан Кальян, — подумал он, — ты усадил к себе за стол ищейку. Самую гадкую из них». Гид знал род деятельности альбиноса. И знал, что сейчас в трактире «Белый кролик» несколько таких. Они обменивались быстрыми и вроде бы незаметными взглядами, сидели за разными столами с разными компаниями, но гид видел их всех. Силовые линии были намечены.
Потом он быстро посмотрел на террасу. Отвергнутый юноша и девушка о чём-то спорили. Девушка жестикулировала, юноша стоял неподвижно и был бледен. Затем она резко развернулась и направилась к своей компании. Юноша постоял и, будто опомнившись, пошёл за ней следом. Его грубо толкнули плечом, он этого даже не заметил. Купеческая молодёжь встретила юношу насмешливыми взглядами. Гид чуть брезгливо поморщился: «Слюнявый упрямец», — подумал он, глядя на разгорающийся конфликт.
Но в действительности всё внимание гида было обращено на Матвея Кальяна. И его собеседников. Альбинос живо интересовался происходящим, словно человек этот неожиданно оказался тем ещё забиякой. У гида были кое-какие серьёзные планы, связанные с капитаном Кальяном, и когда здоровяк в свою очередь поднялся из-за стола, явно намереваясь вмешаться в начавшуюся драку, он подумал: «Чёрт, как не вовремя!»
Гид снова поднёс к губам кулак. «Слюнявый упрямец» только что продемонстрировал неожиданную ловкость на террасе.
— Ну где же ты, старый друг? — прошептал гид. — Ты мне сейчас очень нужен.
И, наверное, даже проницательный Матвей Кальян, направляясь на выручку Фёдору, не обратил внимания, как альбинос с кем-то быстро обменялся взглядом. И тележку с кроличьей клеткой медленно, как будто невзначай, покатили вслед за капитаном.
5
Альбинос был полностью сосредоточен. Драку он спровоцировал весьма умело. И сейчас видел, как на отвергнутого молодого человека пытались напасть со спины. И как вроде бы худощавый юноша, не оборачиваясь, умудрился перехватить руку гораздо более крупного противника, зажав его большой палец на «болевой», и резко дёрнул руку вниз. Матвей Кальян уже оказался на террасе. Взгляд альбиноса больше не был пытливым, он сделался настороженным и снова холодным…
Гид в теневой нише наблюдал за происходящим с внешним безразличием, но его рука ушла в глубокий правый карман. Он быстро и бесшумно взвёл курок револьвера. Альбинос стал извлекать своё оружие; гид оставался спокоен и невозмутим, словно его не касалось происходящее, но внутри был как сжатая пружина, — он знал, что успеет первым.
А потом у самого потолка, под трактирными перекрытиями воздух разрезали чёрные крылья. «Ну, вот и Мунир», — удовлетворённо подумал гид. И, всё ещё оставаясь сосредоточенным, так же беззвучно спустил взведённый курок. Всё происходящее его действительно больше не касалось.
Внезапная Фёдорова победа оказалась первой и последней. В следующий момент ему нанесли такой удар, что юноша полетел через заказанный им столик. Гид усмехнулся. Альбинос замер и… передумал извлекать оружие. Очень быстро его взгляд из холодного сделался глуповато-простодушным. Здоровяк Матвей Кальян вступился за Фёдора, мощным ударом уложив обидчика на месте.
«Болван ты, капитан», — добродушно подумал гид, глядя, как Матвей умело орудует своими огромными кулаками. Гид, спокойно протискиваясь сквозь дерущихся, направился к выходу из трактира. Последнее, что он слышал, был голос вконец расстроенного Сливня:
— А ну, прекратить бузу! Вот Тихон идёт. Сейчас будет вам всем по первое число! Прекратите!
«Ну, вот и драке конец», — с усмешкой подумал гид и вышел на улицу.
6
Матвей Кальян и Фёдор как зачинщики были с позором изгнаны из трактира «Белый кролик». Кальян смеялся:
— Славная вышла потасовка!
Фёдору хотелось плакать, но он почему-то тоже рассмеялся.
— Не переживай, паря, на твой век девок хватит! — Матвей хлопнул Фёдора по плечу. — Я слышал, что твоя закрутила с Бузиным, да думал, враки всё да сплетни. Да и болтать лишнего не хотелось.
— Враки и есть, — тут же согласился Фёдор. — Она из-за другого… Ну, мол, безответственный я, семью кормить нечем будет, рано жениться… Подождать надо…
— Ну, раз так ты понял, то ладно, — кивнул Матвей. Помолчал. Рассмеялся. И снова хлопнул Фёдора по плечу. — А ты молодец, — похвалил он. — Крепкий оказался. И резкий! Знаешь чего, есть в тебе гребцовская жилка. Только теперь они тебя в покое не оставят, полиция-то… Помяни моё слово, всю бучу на тебя спишут.
Фёдор вздохнул. И тут они оба поняли, что в темноте, под стволами склонённых деревьев, обозначающих «лаз» в кроличью нору у внешних ворот трактира, их кто-то поджидает. Матвей тут же насторожился, у него было неплохое зрение, но незнакомец в длинном плаще вроде бы был один.
— На продолжение банкета не похоже, — шепнул Кальян Фёдору. — Идём, парень. Негоже гребцам по углам шарахаться.
Фёдор не подал виду, но внутри него всё ликовало. Матвей сказал «гребцам». Уже не просто про жилку. Только что он назвал гребцами их обоих.
7
— Смотрю, вас изрядно помяли, — начал без предисловий незнакомец.
— Кому до этого дело? — Кальян посмотрел на него исподлобья.
— Никому. — Человек в плаще пожал плечами, и Фёдору показалось, что он улыбнулся. — Кроме меня. Хотел подойти к вам ещё до… вашей стычки, сожалею, что этого не случилось. Мне нужен Матвей, известный как Кальян.
— И кто его ищет?
— Имя моё вам ничего не скажет. А род деятельности, — незнакомец чуть развёл руки в стороны, — вы и сами видите.
— Гид, — кивнул Кальян и усмехнулся.
Только в усмешке этой не присутствовало пренебрежения, испуга или суеверий обывателя перед гидами, а, скорее, сочеталось достоинство и уважение, и Фёдор, выглядывающий из-за плеча здоровяка, подумал, что всегда догадывался, что Кальян та ещё штучка. Как говорили, «парень с двойным дном».
— Однако у любого гида должно быть имя, — резонно заметил Кальян.
— Меня называют Хардов.
— Э-э?..
— Хэ, а, эр, дэ, о, вэ. Хардов. Думаю, этого пока достаточно.
— Вполне, — вежливо согласился Кальян. — Имя необычное, но вполне.
— Хорошо. — Теперь незнакомец в свою очередь кивнул и сделал ещё один шаг вперёд.
Свет далёкого фонаря упал на лицо человека, представившегося странным и даже несколько пугающим именем «Хардов». Он действительно улыбался.
— Ваши рекомендации я получил от Тихона. Мне нужен капитан для одного… деликатного дельца. Выходим сегодня ночью.
— Ночью?! — испуганно воскликнул Фёдор.
Незнакомец даже не взглянул на него. Он смотрел только на лицо здоровяка, прямо, открыто и с каким-то неведомым Фёдору не грубым, но настойчивым нажимом.
— Точнее, через полтора часа. Ну, что скажешь?
Кальян первым отвёл глаза, и этот настойчивый жар, чувствующийся во взгляде незнакомца в плаще, развеялся.
— Тихона я… сильно уважаю. — Голос здоровяка постепенно выровнялся.
«Кто же ты такой, — вдруг подумал Фёдор о незнакомце, — гипнотизёр? Батя всегда говорил, что гиды опасны, но…» Внезапно снова нахлынуло это странное чувство-видение, что посетило его во время стычки в трактире, и голос, очень похожий на отцовский, успокаивающе прошептал: «Всё хорошо». Заняло всё это не больше одного мгновения. «Да что же это?» — подумал Фёдор и услышал голос Матвея:
— Тихона — да. Но могу ли я вам доверять?
— А ты спроси сам себя! — Эта настойчивая жаркая волна вновь повисла между ними и тут же развеялась. В следующую секунду Матвей как-то по-детски сконфуженно разулыбался и затряс головой.
— Ведь ты такой же бродяга, как и я… Так, братишка?!
— Это да, — согласился человек в плаще, — но вопрос твой верный. Времена нынче тёмные. Знать надо, кто перед тобой. — И Фёдор увидел, что тот протягивает какой-то конверт грубой кожи. — Вот мои рекомендации от Тихона.
Матвей бросил взгляд на конверт, его рука поднялась, да так и застыла.
— Это теперь подождёт, — доверительно отмахнулся он. — Но обязательно ознакомлюсь, если договоримся.
Фёдор, широко распахнув глаза, жадно наблюдал за ритуалом: ведь речь явно шла не просто о контрабанде, а о крупной контрабанде. И та лёгкость и быстрота, с которыми были сняты все сомнения и недоверие, восхитили и озадачили Фёдора. «Кто же ты такой на самом деле?» — снова подумал юноша о Хардове.
— Обязательно ознакомлюсь, — заверяя, повторил Кальян. — Куда надо идти?
— По каналу, — просто сказал Хардов. А потом в его голосе мелькнула сталь. — До самого конца.
Кальян вскинул брови.
— За Дмитров, — скорее утвердительно, чем вопросительно произнёс он, — как я понимаю, даже за Яхрому.
Хардов теперь промолчал.
— Так… — удивлённо протянул Кальян. — Значит, до Икши? Но я не знаю, как там со створками шлюзов…
И снова незнакомец — а ведь он именно и был для них незнакомцем, невзирая на все ритуалы и на то, что он представился каким-то нелепым, тяжёлым и пугающим именем Хардов, — промолчал.
— Что, ещё дальше? — недоверчиво спросил Кальян и вдруг мрачно усмехнулся. — Ну, не Пироговское же речное братство?!
Ответа не последовало.
— Но ведь там… — Голос Матвея осёкся. Здоровяк, видимо, впервые почувствовал себя не в своей тарелке.
— Возможно, ещё дальше, — наконец сказал Хардов. — Не скрою, это очень опасно. Возможно, придётся идти до самого конца. Зато вознаграждение сказочное. Там же, в конверте, увидишь размер гонорара.
— Какого конца, братишка? — хрипло произнёс Кальян. — Ты о чём?
Глаза гида чуть сузились. Здоровяк недоверчиво потряс головой:
— Не-ет. Ты… Ты что, серьёзно?
Кончики губ на лице Хардова наметили тихую и невесёлую улыбку.
— Но ведь там ничего нет! — воскликнул Кальян. — Я слышал, что Москва лежит в руинах. Или что её накрыл туман. Что, это не так?
— Груз очень ценный. За это и платят.
— Подожди! Ты хочешь сказать… Ты хочешь сказать, что ты там был?!
Человек в плаще еле заметно кивнул.
— И что там?!
— Это было давно, — нехотя отозвался гид, и в голосе его мелькнуло нечто похожее на хроническую усталость. — Что там сейчас, не знаю. Ты ведь в курсе, насколько переменчив канал.
— Да. Но…
Кальян замолчал и вдруг обнаружил, что всё это время конверт с рекомендациями и предложением был перед ним. Его рука потянулась и с опаской коснулась конверта. Не так, как будто это была змея, но довольно похоже.
— Полагаю, у меня в Дубне остались только неприятности? — с долей шальной обречённости усмехнулся здоровяк.
Их новый знакомый теперь широко улыбнулся, и лицо его сделалось красивым.
— Но говорю сразу, — покачал головой Кальян, — большего психа, чем ты, я в жизни не видывал. Что ж это за груз такой, если из-за него ты готов соваться в Ад?
— Ад на той стороне реки, — заметил гид. — И вот за тем углом. Вокруг, — добавил он, разведя руки в стороны, и безо всякого перехода сообщил: — Команду я набрал. Пять гребцов. С учётом капитана выходит шесть. И мне нужен рулевой.
— У меня есть. — Кальян не мигая смотрел на Хардова.
Фёдор попытался было представить, что сейчас творится в голове у здоровяка, и не смог.
— С большим опытом. Надёжный. Знает, где появляются блуждающие водовороты, и знает, как прошмыгнуть между ними. Но он ни разу не ходил после заката.
— Зато ты ходил, — быстро сказал Хардов.
— Ходил, — деловито согласился Матвей.
И Фёдор не успевал удивляться перемене: вот только что здоровяк казался потрясённым, но теперь принял решение и уже спокойненько входит в права капитана, превращая подготовку к самому невероятному плаванию в набор обыденных действий.
— Полагаю, и ты не чурался ночи, — Матвей вдруг ему подмигнул, но не фамильярно, а с ещё большим уважением, — а, братишка?
— Я гид. — Хардов пожал плечами. — Но не все пути на канале для меня открыты. Нужен капитан.
И опять это смутное видение, это неопределённое, неопределяемое чувство посетило Фёдора. Наверное, единственное сравнение, что приходило на ум, будто кто-то в его голове листает книгу, извлекая на свет тайные страницы.
— Возьмите меня с собой, — вдруг попросил Фёдор. — Пожалуйста. Хоть матросом, хоть юнгой.
Оба взрослых человека в удивлении уставились на юношу, словно только что обнаружили его перед собой.
— Зачем ты мне? — первым нарушил молчание Хардов.
— Я много чего умею. — Фёдор попытался объясниться быстрее, почему-то ему казалось, что сейчас, в эту самую минуту может всё и решиться. — Готов делать любую работу. Мне ж после того, что случилось, тоже оставаться в Дубне…
— Ну да, — буркнул Матвей, — из-за него, в общем, вышла драка-то. Его ж, конечно, Дмитровская водная полиция, — последние три слова он нарочито растянул, — теперь искать будет. Как только ярмарка закончится. Чтоб людям праздник не портить — всё чистенько… Ненавижу их, понтов!
— Это плохо, — серьёзно сказал Хардов. — Ненависть — ненадёжный попутчик. — Затем он смерил юношу оценивающим взглядом. — Заработать решили, молодой человек? — Он усмехнулся, но глаза продолжали сканировать Фёдора. — Ведь я слышал, что у контрабанды…
При этих словах Матвей бросил быстрый взгляд на гида.
— …есть неписаный устав: все прошедшие сложный рейс получают равную долю, даже юнги. Если выживут, конечно. Только у капитана гонорар выше и зависит от ряда привходящих факторов.
— Мне нельзя здесь оставаться, — прямо сказал Фёдор, а потом, чуть смутившись, добавил: — Я всё равно к кому-нибудь наймусь. Или сбегу.
— Всё это не отвечает на вопрос: зачем ты мне? — Хардов всё так же пристально смотрел на Фёдора.
И Фёдор вдруг смог ответить на этот взгляд. Что-то внутри него, возможно, то, из смутного видения, возможно, что-то другое заставило его губы произнести со спокойной решимостью:
— Потому что вы гад.
Уже через мгновение Фёдор и сам бы не смог ответить, почему он так сказал. Однако лицо Хардова застыло. Взгляд серо-голубых глаз теперь ощупывал юношу с какой-то новой задумчивостью. Словно Фёдор своими словами только что попытался заставить его изменить своё мнение. О чём? О нём? Нет. Явно нет. Что-то другое. О чём-то очень важном, но…
— Смышлёный парнишка, — наконец произнёс Хардов, однако без всякой приязни.
— Знаете, — тут же вставил Кальян, — я мог бы за него поручиться.
— Давай «знаешь», если уже перешли на «ты», — поправил его Хардов, так и не сводя взгляда с юноши.
— Да, давайте. Давай, — чуть спутался здоровяк. Наверное, перейти с этим человеком на «ты» не так легко, как виделось вначале. — Его отец — лучший из гребцов в городе, — он указал на Фёдора. — А лишняя пара рук в дороге не помешает. Мальчишка расторопный…
Но Хардов уже принял решение.
— Лодка отходит через час с четвертью, — сказал он Фёдору. — Не успеешь собраться — пеняй на себя. И ты не задаёшь лишних вопросов.
— Спасибо, — промямлил Фёдор и тут же просиял: — Я не подведу!
Гид еле заметно кивнул и обратился к своему новоиспечённому капитану:
— Уходим прямо сейчас, пока ярмарочные торжества в разгаре. Через час с четвертью лодка должна быть на волне. Я смотрю, ты уже собран.
— Всё своё ношу с собой. — Кальян чуть приподнял баул на плече. — Рулевого свистну, и… привет тебе, ночь.
— Выходите налегке. Я с грузом буду ждать вас у статуи Ленина. Мало ли что, а к пустой лодке претензий не будет. Может, дурням спьяну покататься захотелось.
— Это вряд ли, — холодно усмехнулся Кальян, бросив взгляд на тёмную воду реки.
Даже здесь, в городе, она не выглядела гостеприимной.
О том, что будет на канале, даже думать не хотелось. Но Матвей ходил после заката, было дело, а с этим странным человеком в длинном плаще он был готов рискнуть ещё разок.
— А как же?..
— Первый шлюз? Вас поднимет мой человек. Посветите фонариком. Как будете подходить.
— Это самый безопасный шлюз на канале, — почему-то сказал Кальян. — Наш домашний, как говорится.
— Верно, — согласился Хардов. — Пойдём. Введу тебя в курс дела по дороге. Лодка на самом краю, дальний причал.
Потом гид обернулся к Фёдору:
— Ты ещё здесь?
— Я только… это не вопрос, — залепетал Фёдор. — Вы не местный и, может, не знаете — там охрана на шлюзе. И перед входом в канал, у памятника. Иногда её и на ночь не снимают.
— Сегодня ночью там не будет охраны, — спокойно сказал их новый работодатель, и что-то ледяное промелькнуло в его голосе. — Полагаю, сегодня на воде вообще никого не будет.
— Это точно, — согласился Матвей и зябко передёрнул плечами.
А гид бросил быстрый взгляд на чёткую половинку диска луны, вставшей над рекой. И тяжело вздохнул.
— Найдётся охрана и посерьёзней… — он чуть болезненно поморщился, — но людей там не будет.
— Почему? — упавшим голосом поинтересовался Фёдор. Затем он вспомнил о своём обещании не задавать вопросов и отчего-то виновато посмотрел на Кальяна.
Гид тоже посмотрел на Кальяна.
— Потому что… — Хардов кашлянул и произнёс ровным голосом: — Потому что сегодня появляется Второй.
Глава 3
Шлюз № 1. Ворота открыты
1
Ти-ти-ти, та-а, та-а. Ти-ти-ти, та-а, та-а…
Павел Прокофьевич Щедрин уже собирался отойти ко сну, когда услышал стук в окно. Сердце старого учёного моментально забилось сильней.
— Что же это? — прошептал он, вслушавшись в звук ночи. — Как же?..
Старик даже вылез из-под одеяла, впихивая ноги в мягкие домашние тапочки. Он так долго ждал и одновременно боялся этого момента, что могло и показаться, могло… Стук повторился. Лицо профессора застыло. Ошибки не было. Три коротких удара и два длинных: ти-ти-ти, та-а, та-а. Ти-ти-ти, та-а, та-а.
— Мунир, — сипло проговорил Щедрин.
Он сразу как-то суетливо вскочил с кровати, хватаясь за давно приготовленный баул с необходимыми вещами. Всё, как говорил ему Хардов, но Щедрин не сделал и нескольких шагов, а потом тяжело осел на стул, и плечи его поникли.
— Ну, вот и всё, — с болью выдохнул он. — Девочка моя…
Однако когда спустя пару минут он постучал в комнату дочери, на его лице читалась не вполне уместная попытка нарисовать радость и бодрую сосредоточенность.
— Да, пап, — послышалось из-за двери. — Заходи, я не сплю.
Щедрин осторожно отворил дверь. Дочь сидела к нему спиной и опять что-то писала. У профессора сжалось сердце, и как он ни пытался приглушить эту тёмную, глухую и отчаянную мысль, она всё же выскочила, как чёртик из табакерки: «А ведь такой вот я её больше никогда не увижу». Однако старый учёный постарался, чтобы его голос не выказывал волнения, а звучал по-деловому буднично.
— Ева, — сказал Щедрин, — он прислал ворона.
Плечи девушки вздрогнули. Она отложила перо в сторону и обернулась к отцу.
— Пора, — улыбнулся Павел Прокофьевич, но в последний момент не смог совладать с собой, и предательские горькие складки чуть искривили линию его рта.
— Когда? — тихо спросила дочь.
— Прямо сейчас.
Её глаза застыли и на побледневшем лице, казалось, сделались огромными. Она смотрела на отца. Потом быстро закивала, и короткий, почти неслышный полустон-полухрип сорвался с её губ. Однако произнесла она твёрдо:
— Я готова.
Звук тикающих настенных часов показался сейчас оглушительным.
— Девочка моя, — не выдержал Щедрин.
— Папа… — Её лицо всё ещё было бледным. — Мы же знали, что так будет. Нет другого выхода. И потом, это же не навсегда. Так ведь?!
Какой-то тёмный отсвет испуганного сомнения мелькнул в глазах старого учёного.
— Мы же расстаёмся не навсегда? Скажи, это очень важно — ведь не навсегда?!
— Не навсегда, — тихо отозвался Павел Прокофьевич.
А затем всё-таки всхлипнул и раскрыл объятия, пытаясь справиться со слезами, что вот-вот прорвутся наружу. Этого ещё не хватало. И без того девочка на грани паники. Щедрин шагнул к дочери. — Ева…
Она коротко подалась к отцу с ответным объятием и тут же отстранилась:
— Папа. Всё будет хорошо.
Щедрин смотрел на неё с восхищением, любовью и страхом.
— Конечно, Ева. Как и всегда.
Две мысли, расталкивая друг дружку, пролезли в голову профессора почти одновременно.
«Я спасаю её».
«Собственными руками я обрекаю нас на гибель».
2
Не прошло и часа, а Фёдор уже бежал обратно вдоль опустевших и безлюдных ночью грузовых причалов, где на самом краю города должна была ждать лодка. Ночь и сила реки оказались лучшими сторожами купеческому добру, хоть считалось, что патрули водной полиции наблюдают за пристанью. Может, так оно и было.
Фёдор бесшумно спрыгнул на деревянный настил, остановился и прислушался. Тихо. Где-то за спиной юноши остались такие уютные огни и весёлая музыка — праздник в «Белом кролике» был в самом разгаре, а впереди его ждали лишь ночь и неизвестность. Он уже миновал последний фонарный столб, отмечавший границу города, и тьма, обступившая вокруг, сделалась плотнее.
Фёдор пытался подавить страхи, а заодно справиться с обрывками своих знаний о канале. Собственно, и знаний-то никаких не было: скупые рассказы отца, разговоры в «Белом кролике», слухи, россказни, байки. Все они настойчиво твердили, что после заката сюда лучше не соваться. Все они сходились в одном: в канале что-то есть, какая-то сила, не позволившая прийти тому, что пожрало землю. Тому, что таится на другой стороне, в тумане, который дальше обступает канал с обоих берегов. Собственно, поэтому связь между городами и поселениями людей возможна только по воде. Но что это за сила, какова её природа, и главное, дружественна она или враждебна, Фёдор не знал. Да и полагал, что мало кто в Дубне ведает про это. Ну, может, кто из учёных или… гидов? Ещё говорили о безумных отшельниках, которые живут там, где канал течёт вдоль пустых земель, и некоторые из них вроде бы в безумии своём узрели истину. А ещё про то, что кто-то что-то слышал с гиблых болот, вроде как кто поселился там, в этом жутком месте, но человек ли он или…
Фёдор передёрнул плечами и ускорил шаг. Сухой остаток его знаний вышел весьма скупым и не самым обнадёживающим: что-то бережёт канал, позволяет жизни на нём продолжаться, но это «что-то» очень не любит, когда его тревожат ночью.
На всякий случай юноша чуть отступил от воды.
Прощаться со своими стариками Фёдор не стал. Он знал, что отец не отпустит, а матушка не даст своего благословения. Фёдор не хотел уходить и красться ночью, словно вор, но после случившегося в трактире у него не оставалось выхода. Он лишь подложил записку под любимую батину пепельницу массивного старого хрусталя. Написал много тёплых слов, уверил в сыновней любви и уважении, просил прощения за то, что взял на себя смелость определить самому собственную жизнь, обещал вернуться сказочно богатым и всё равно жениться на Веронике.
— Быть блудному сыну поротым, когда вернётся, — с каким-то экзальтированным весельем выдавил Фёдор.
Хотя, если разобраться, ничего весёлого во всём этом не было. За всё время, что Фёдор помнил, батя порол его всего лишь дважды. И оба раза за дело. Милый добрый дом… Фёдор покидал его и ничего не мог поделать с тихой радостью, что уже бурлила в его крови.
О стычке в «Белом кролике» отцу ещё не доложили. В этом Фёдор убедился, когда, прихватив вещмешок, вылез из окна своей комнатки под крышей и бесшумно спустился по водосточной трубе. Батя с матушкой ужинали. Они никогда не ходили на торжества первого ярмарочного дня, обычно являлись только на закрытие, где уже собирался весь город, но праздничный ужин мать всегда ставила. И сейчас батя запивал его пенным сидром, что передал сегодня дядя Сливень. Когда Фёдор посмотрел через окошко на своих мирных стариков, у него защемило сердце.
— Так надо, — сказал юноша самому себе.
После случившегося в трактире у него действительно не оставалось другого выхода. Своим бегством он, в том числе, отводил неприятности от своей семьи. Почему и оставил вторую, «фальшивую» записку для Дмитровской полиции, где сообщал, что уходит с купцами в другую сторону, вниз по Волге, к Ярославлю. Мол, ну, погорячился парень, юн да зелен, что с него возьмёшь?! К тому же батя в своё время тоже сбежал из дома и тоже разбил своим поступком кое-кому сердце. Кстати, так и стал гребцом! Наверное, это у них наследственное, яблочко от яблоньки…
Вроде бы умом Фёдор всё понимал, только на сердце от этого легче не становилось.
— Я вернусь настоящим гребцом, — прошептал он. — И отцу с мамой больше не надо будет корячиться в три погибели. Ну, и ещё, конечно, женюсь на Веронике.
Фёдор вдруг впервые подумал, что его почти не печалит предстоящая разлука с любимой девушкой. Может быть, потому, что отчасти именно из-за неё он всё это и затеял. Словно его бегство из дома было поступком, совершаемым из-за неё и для их общего блага. Словно как в древних книжках, хранимых учёными, она велела ему отыскать алмазную гору, или изумрудную башню, или черевички великой царицы. А может, всё ещё горька была обида за странную перемену в девушке, неожиданную надменность и чуть ли не презрение в голосе, с которым Вероника наговорила ему всё это в трактире. Так всё запутано…
— Ничего, я ей докажу, — начал было Фёдор.
А потом впереди, на реке он увидел еле различимые тёмные силуэты — это и был дальний причал. Ему туда, там ждала лодка. И там ждало начало… Чего? Перемен? Новой жизни? Какой-то новой надежды… Хотелось бы так думать. Только почему тот голос из сна, суливший эту перемену, порой казался таким пугающим? Фёдор ускорил шаг — ещё несколько минут, и обратного хода уже не будет.
— Я докажу, — повторил юноша, — найду изумрудную гору…
Фёдор подумал, что раньше окончания ярмарки бате, конечно, ничего не сообщат и искать его не станут. Водная полиция уверена, что всё у них под контролем, да и куда человеку деваться с канала? В любом случае, свою первую трубку отец набивал после обеда, значит, и послание под пепельницей обнаружит не раньше. А к тому времени Фёдор надеялся быть уже далеко. На несколько километров ближе к таинственной горе, изумрудной башне его мечты, которая переменит всю его жизнь, сделает его сказочно богатым и почти всемогущим.
* * *
Лодка оказалась большой и неповоротливой, что удивило и озадачило Фёдора. Те, кто промышлял контрабандой, обычно пользовались лёгкими лодками, чтобы обносить небольшие препятствия, а в случае опасности быстро спрятать и судно, и груз. Фёдор считал, что они снимутся с места сразу, без лишних разговоров, пока никто не заметил. Потому так и спешил. «Когда уйдёшь в свой первый рейс, парадной музыки не будет!» — вспомнил юноша прибаутки гребцов. Однако выяснилось, что ещё ждут рулевого.
— Представлю вас команде, когда отчалим, — пояснил Кальян.
Он встречал юношу на берегу, чуть поодаль от лодки, в которой нанятые Хардовым люди уже заняли свои места.
— Странные они, — здоровяк непонятно кивнул на лодку. — Молчаливые, улыбчивые и крепкие. Явно скитальцы. Но, по-моему, не из гребцов. Ни жаргонных терминов, ни специфики наших шуток не понимают. Ну, может, в других местах оно по-другому. — Матвей бросил взгляд на наручные часы и вдруг переменил тему, заговорив о рулевом: — Ничего, успеет. Ещё почти пять минут, а это уйма времени.
По каналу ходили на вёслах; паруса ставили, только оказавшись на широкой воде волжских водохранилищ, хотя возможность таких плаваний с каждым годом сокращалась.
У этой же лодки имелась совершенно ненужная для вёсельного хода мачта, довольно глубокий кокпит с местом рулевого на корме, а на носу — надстройка, в которой, видимо, была оборудована каюта.
— Старушка, — шепнул о ней Кальян, — хотя недавно перестроена. Шесть вёсел, по одному гребцу на каждом баке. Тяжеловата. Да и вообще…
— Вижу, — разочарованно кивнул Фёдор.
На его взгляд, это была самая неподходящая лодка, чтобы идти по каналу в такой рейс, и как-то не вязалась она с историями про дерзких и ушлых контрабандистов. Путь к его алмазной горе начинался на старой тихоходной посудине…
— Правда, название классное, — похвалил Матвей, — «Скремлин II». С вызовом. Это по-нашему.
— Чего?! — Фёдор почти пришёл в ужас.
— Хотя это как посмотреть, — поддразнил его Кальян. — Кто-то считает их чуть ли не ангелами-хранителями, а кто-то самыми злейшими врагами, сущим проклятьем. Но в любом случае они, то есть скремлины, часть мира канала, а нам сейчас туда. — Здоровяк как-то неопределённо махнул рукой и поинтересовался: — Сечёшь?
— А-а, ну-у…
— Понимаешь, Фёдор, что-то надо умилостивить, чего-то лучше не поминать к ночи, а на что-то стоит смотреть с раскрытыми глазами. Хорошее название.
Фёдор промолчал. Была такая лодка «Скремлин». Выходит, предшественница этой. Как-то она ушла с богатым грузом вверх по Волге, в сторону Твери. И с тех пор о ней больше никто ничего не слышал. Лодка словно сгинула, канула в неизвестность. Правда, родственникам членов экипажа мерещились по ночам зовущие голоса, и… Словом, эту историю в Дубне знал каждый; Кальян, конечно, тоже.
— Может, Хардов нанял не ту лодку? — решился заметить юноша. — Я не про название. Про размеры. И потом, эта мачта… Странно.
Здоровяк посмотрел на него с оценивающим интересом.
— Сомневаюсь, — растягивая звуки, проговорил он. — Думаю, он знает, что делает. И тебе лучше так думать. Держи-ка фляжку с сидром, в случае чего мы просто загуляли на ярмарке.
— Хорошо. — Фёдор даже смутился.
Он уловил, или ему показалось, что уловил, неожиданную перемену тона. И опять юноша вспомнил одну из прибауток гребцов: «Дружба дружбой, а за весло капитана не берись».
— И хоть мне многое в Хардове непонятно, — продолжал Кальян, — но я доверяю своим инстинктам. Тео, эта ночь будет длинной. И следующие не станут короче. Это самое мягкое, что я как твой капитан могу сказать тебе о канале. Поэтому нам лучше положиться на Хардова. И мне всё равно, понимают ли нанятые им люди специфику моего юмора.
— Конечно, — согласился Фёдор. В общем, чего тут: Матвей действительно капитан на лодке, и этим всё сказано.
— Послушай, Тео, есть такой неписаный закон: ты всегда должен рассчитывать на тех, кто в лодке, а они — на тебя. Здесь, на берегу, может, оно и по-другому, но там… На какое-то время у тебя не будет никого ближе, Фёдор. Те, кто в лодке! Иначе канал не простит.
И опять юноша промолчал. Подобные сентенции, обобщения житейского опыта были в ходу на канале, только Фёдор не знал, как к ним относиться. Вернее, знал, не особо доверяя этому общепринятому ладу, и боялся, что его мнение Кальяну не очень-то понравится. Но здоровяк уже улыбался:
— Ты можешь отнестись к этому как к первой выволочке. А можешь — как к первому наставлению. — Кальян говорил негромко, и гребцы на лодке их, скорее всего, не слышали. — Обычно команду подбирает капитан, именно потому, что я тебе сказал. Но я доверился Хардову. Сечёшь, что имею в виду?
— Секу.
— Отлично, пацан. И ещё кое-что тебе следует знать: если ты сейчас взойдёшь на лодку, она оторвёт тебя от дома и от всего, к чему ты привык. И нет никаких гарантий, что ты получишь что-нибудь взамен. Только так выходят на волну. Сечёшь?! Если ты не готов, возвращайся в «Белый кролик», закажи большую кружку сидра и болтай о приключениях до конца жизни. Но если готов, добро пожаловать на борт! Хотя скажу сразу — мечтать в трактире гораздо безопасней.
— Я готов, — сказал Фёдор.
А сам подумал: вот, опять. Хотя батя как-то сказал ему, что так принято у гребцов. Это словно заговор беды. В этом бесконечном повторении азбучных истин есть большой смысл, потому что когда-нибудь они спасут тебе жизнь. Звучит так же банально, да только так и есть.
— Вот и хорошо, что готов, — спокойно сказал Кальян.
И вдруг рассмеялся: — Эй, чего пригорюнился? Это была приветственная речь. Так положено в первый раз.
— А-а, — протянул Фёдор, всё ещё не сообразив, продолжают его разыгрывать или уже нет.
— Грамоте обучен? — спросил Кальян.
— Конечно.
— Шучу. Эх, достанется мне от твоего бати…
— Я здесь по своей воле.
— Это сложный вопрос, — ухмыльнулся Кальян, но уже добродушно. — Наверное, он учил тебя вести судовой журнал?
— Конечно, — удивился Фёдор.
— Отлично. — Кальян снова посмотрел на свои наручные часы, фосфорные стрелки светились в темноте. — Первая запись: на волну вышли в одиннадцать двадцать три. Ветер ближе к каналу — ноль. Курс вверх по реке. Идём к шлюзу номер один.
Фёдор кивнул, а Матвей коротко посмотрел куда-то за его спину:
— Ну, вот и он. Теперь все в сборе.
Юноша обернулся. В бесшумно подошедшем человеке он узнал бородача, с которым Кальян беседовал в трактире. Рулевой одарил Фёдора быстрым взглядом и, не сказав ни слова, направился к лодке.
— Всё, быстро уходим, — распорядился Кальян. А потом он сделал что-то странное: отобрав у Фёдора бутыль с сидром, плеснул часть содержимого в воду. — Это каналу, — серьёзно пояснил здоровяк.
Гребцы дружно налегли на вёсла, и старая посудина продемонстрировала неожиданно хороший ход. Совсем скоро лодка оказалась на стремнине и двинулась по реке против течения, держась ближе к своему берегу. Дамба со шлюзом находилась по этой стороне, но Фёдор подумал, что Матвей, обогнув намытую отмель, пытается укрыть лодку под покровом густых деревьев, нависших над рекой. Юноша бросил прощальный взгляд на город — вся восточная часть неба была покрыта густой, почти смолистой тьмой.
«Ну, вот и началось твоё приключение», — сказал сам себе Фёдор. И внезапно вздрогнул. На какое-то очень короткое мгновение ему показалось, что этот его «внутренний» голос как бы и не совсем… его. Что он очень похож на тот тёмный голос из сна. И что прозвучал он сейчас насмешливо.
3
До плотины Иваньковской ГЭС дошли без приключений. Фёдор знал, что участок от Дубны до входа в канал считается самым безопасным отрезком водного пути, и с удовольствием наблюдал, как на привольной речной глади весело играют блики лунной дорожки. Весь далёкий противоположный берег был укрыт завесой тумана; он стоял вдоль кромки воды плотной, мглисто-серой стеной, почти неразличимой с такого расстояния, и Фёдору даже померещилось, что его рваные клочья частично вышли на плотину. Юноша, привстав на носу лодки, пристально вглядывался в темноту, но ничего рассмотреть не смог.
— Ночью много чего чудится, — шепнул ему Кальян, — не обращай внимания на туман. А вот как зайдём за дамбу к шлюзу, следи за окошком диспетчерской. Нам посветят фонариком. Три коротких сигнала и два длинных. Если по-другому, немедленно разворачиваемся и уходим.
Фёдор перевёл взгляд на далёкий пока вход в шлюз, но туман снова привлёк его внимание. Что-то там на плотине, перегородившей реку… Однако вся поверхность водохранилища и весь свой берег были чисты на много вёрст. Туман здесь отродясь не бывал, даже в самые плохие дни вода не пускала его. Лишь небольшой клок, говорят, появлялся на дальнем конце дамбы, где когда-то стоял второй памятник. Правда, по мере приближения к ГЭС шум падающей воды нарастал, и нарастало это тревожно-сосущее чувство… словно что-то в тумане почувствовало их появление, встрепенулось, проснулось и теперь наблюдает за ними с тихой, тёмной радостной злобой. Фёдор подумал, что здоровяк, наверное, прав: вода вроде бы действительно не пускает туман. Но тогда почему нельзя добраться по реке до крупных волжских городов? Связь с Нижним и Казанью оборвалась несколько лет назад, да и про Ярославль говорят, что там творится что-то жуткое. По крайней мере, люди покидают восточную часть города, переселяются в Кимры, а некоторые беженцы даже добираются до Дубны.
Фёдор снова посмотрел на плотину Иваньковской ГЭС, протянувшейся как мостик от берега к берегу, и вдруг почувствовал, что на его спине зашевелились крохотные волоски. Ошибки не было: густой туман теперь полз по плотине. Он двигался в их строну.
— Не беспокойся, — Кальян по-прежнему говорил тихо, — он доползёт только до открытых створок в центре плотины, до места сброса воды, и остановится. Такое уже бывало. Через воду до нашего берега ему не перебраться. Следи-ка лучше за сигналом.
Когда лодка зашла за дамбу, направляясь к шлюзу, Фёдор успел заметить, что туман действительно добрался до места сброса воды и навис над ним, набухая густыми клочьями, но дальше продвинуться не смог.
* * *
Вход в шлюз был обозначен ажурными арками по обоим берегам. Ворота обычно держали открытыми, вода стояла на нижнем уровне, и вырастающие во тьме сооружения шлюза напоминали мрачную крепость, древнюю твердыню, охраняющую город. Фёдора всегда волновала загадка, почему время оказалось не властно над всеми сооружениями канала. Даже те из них, что были частично обрушены, выглядели странным образом новыми, будто построенными лишь вчера, а некоторые обрушения — всего только дань причудливой прихоти архитектора. Вот и эти тянущиеся по обоим берегам ажурные арки отливали необычной новизной, хотя было явно, что во многих местах кладка порушена.
Но гораздо более явным было другое: все иные строения, здания, города и дороги — всё оставшееся от великой эпохи строителей канала давно уже обветшало, состарилось, умерло, пришло в негодность. Даже набережную в Дубне людям пришлось перекладывать заново. И только канал словно заморозила чья-то непостижимая воля. Но почему-то говорить об этом было не принято. Словно было во всём этом нечто глубоко интимное, какое-то таинство и одновременно порочная тайна, о которой не говорят; и нарушить запрет было не то что хуже, а как бы непристойней, чем выставить себя на всеобщее обозрение голым.
В книгах учёных Фёдор отыскал слово, более или менее подходящее для описания этого запрета. Это было слово «табу». Даже гребцы и те, кто промышлял контрабандой, не нарушали этого таинственного «табу». А из разговоров недоброжелателей Фёдор знал, что единственные, кто был склонен к подобному кощунству, — это гиды, которых приличным людям стоит избегать. И вот так вот вышло, что один из них ждал сегодня с запретным грузом у исполинской статуи Ленина, которой тоже не коснулись воды увядания и за которой находились ворота, открывающие вход непосредственно в канал.
* * *
Свет фонарика появился в тёмном окошке диспетчерской — три коротких и два длинных сигнала. Это повторилось несколько раз, и Кальян отдал распоряжение заплыть в шлюз. Фёдор подхватил канат и ждал на носу лодки.
— Швартуйся к первому рыму, — бросил Кальян, — у дальних ворот будет гейзер.
— Знаю, — отозвался Фёдор.
Он чуть пригнулся и быстро накинул канат на крюк, подтягивая лодку к стенке шлюза. Рымом назывался швартовый бакен, который по направляющей в стенке камеры поднимался вместе с поступающей в шлюз водой. От бати Фёдор знал, что камеры наполняются у дальних, верхних створок, напор достаточно сильный, лодки полегче может и опрокинуть. У них была средняя лодка, но всё равно оказаться в воде сейчас не хотелось. Фёдор бросил взгляд назад, в этот момент ворота за ними закрылись.
Сразу же шум плотины сделался каким-то далёким, словно их только что отрезали от привычного мира. Света всё не включали, юноша сглотнул. Но что может случиться в двух шагах от города, в своём, практически домашнем шлюзе? И днём здесь Фёдор не раз бывал, но… то днём.
— Чего-то медлят, — прошептал он.
В ответ Кальян только кивнул. Ещё от бати Фёдор знал, что все шлюзы на канале устроены одинаково. Однокамерные, двести девяносто метров длины, так что за раз могут вместить очень много лодок, и у всех нижние ворота раздвижные, а верхние, дальние, если идти от Дубны, отворяются, уходя под воду.
— Ну, тянут-то, чего ж тянут, — уныло промолвил Кальян.
Что-то в голосе здоровяка не понравилось Фёдору. Он и сам вдруг подумал, что они здесь как в ловушке, и случись что, выбраться из камеры по отвесным мокрым стенам будет невозможно. В зависимости от уровня воды в Иваньковском море, которое то ли по привычке, то ли шутки ради все ещё звали Московским, первый шлюз поднимал на шесть и на восемь, а то и на одиннадцать метров, и сейчас они находились на дне этого колодца. Плеск послышался с правого борта лодки, человек на руле вдруг тоскливо воздохнул.
Сделалось вроде бы ещё темнее, и следом какая-то необычная глухая тишина пала вокруг, словно что-то внешнее вытеснило из шлюзовой камеры все звуки. Ещё один прелый ком подкатил к горлу, а потом Фёдор услышал шёпот. Тихий, в дальнем углу, у противоположной стенки.
Юноша непонимающе оглянулся, но никого или ничего различить, конечно, не сумел. И когда он уже собрался отвернуться, его снова позвали. Чуть слышно, маняще, только теперь шёпот прозвучал ближе, казалось, что на расстоянии вытянутой руки. И сразу же мороз иголочками пробежал по спине.
«Это акустический обман, — вспомнил Фёдор голос бати, — такое бывает. Не позволяй себя обмануть». Но батин ли это голос? Ведь ни о чём подобном Фёдор с отцом не говорил. Он посмотрел на Кальяна: лицо того застыло.
И взгляд также был направлен в сторону дальней стенки.
«Ты что-то слышал?» — хотел было спросить Фёдор. Но теперь делать это оказалось ненужным. Шёпот повторился. Звали его. Всё более настойчиво, громко, с обрадованным и каким-то алчным удовлетворением.
В этой глухой чуждой тишине родились свои собственные звуки: смешки, перешёптывания, хохот. По лицам всех, кого смог увидеть Фёдор, он понял, что они тоже слышат это. Только реагируют по-разному: кто-то сидел, опустив весло, с завороженной счастливой улыбкой; у кого-то, напротив, на лице отразился ужас. Но звали-то его, и для него, Фёдора, нет ничего зловещего в этих звуках. Они сулят, таят в себе какое-то обещание, на которое юноша должен лишь откликнуться; что-то, о чём Фёдор всегда знал или догадывался, о чём-то там, под тёмной водой…
— Фёдор!
Кальян вдруг крепко ухватил его за локоть, и юноша непонимающе уставился на здоровяка, лишь потом сообразив, что уже наполовину вывалился из лодки.
— Т-с-с, — с нажимом произнёс Матвей, возвращая юношу на место.
И тут же в зове появилось что-то гневное, быстро сменившееся на колючий хохот.
— Голоса канала, — хрипло проговорил человек у руля. — Плохо. Нельзя стоять. Мы притягиваем их. Надо двигаться.
Теперь с таким же недоумением Фёдор уставился на рулевого, а тот неожиданно визгливо заорал на юношу:
— Скорее! Чего смотришь? Отвязывай канат.
— Заткнись, — сказал ему Кальян спокойным твёрдым голосом.
И рот рулевого почти комично захлопнулся. Хотя отсвет подозрительности и недавнего ужаса ещё тлел в его глазах.
— Прости, друг, но сейчас лучше вести себя тихо, — добавил Кальян.
Наверное, при других обстоятельствах это действительно выглядело бы комичным, и Матвей с удовольствием бы посмеялся, да только здоровяк знал, что сейчас произошло. Вот уже и Фёдор, и гораздо более бывалый рулевой захлопали глазами, глядя друг на друга, словно обволакивающее их ватное марево начало наконец рассеиваться, нехотя унося с собой чуждые и, теперь уже очевидно, лживые звуки.
— Ничего, Тео, — Кальян ободряюще похлопал приятеля по плечу, — со всеми бывает в первый раз.
— Это что, из-за меня? — промямлил юноша.
— Вовсе нет. — Здоровяк усмехнулся, окинул лодку взглядом, чуть задержавшись на человеке у руля. — Я говорил не только о тебе. Полагаю, что здесь мало кто ходил после заката. Он хороший рулевой, но ночью канал сводит с ума.
Зябкая рябь пробежала по поверхности воды, погас где-то смешок, и словно напоследок холодок обдул лица.
— И… что же, — Фёдор попробовал усмехнуться, с трудом подавляя предательскую нотку истерики, — к этому можно привыкнуть?
— Нет, — улыбнулся здоровяк. Фёдор с облегчением убедился, что и рулевой, и все остальные приходят в норму, — но с этим можно справиться.
И в эту же минуту с громким тяжёлым звуком включили свет.
— Ну, вот и хорошо, — кивнул Кальян, а потом, бросив взгляд на противоположную стенку, как-то тоскливо добавил: — Это всё только цветочки.
Сегментный затвор в верхней голове шлюза медленно опустился, образуя в створке двухметровую щель, и в неё тут же устремилась вода Московского моря, вспениваясь гейзерами. Свет, хоть и электрический, заиграл в дальних брызгах, и от тяжкого морока, только что царившего тут, не осталось и следа. Лодка, покачиваясь, начала медленно подниматься вместе с рымом, скользящим вдоль стенки.
— Так, значит, здесь ничего и не было? — Беспокойство внутри Фёдора всё ещё не улеглось, и вопрос прозвучал с явно излишним энтузиазмом.
— Я так не думаю, — Кальян предостерегающе поднял руку, — хотя и не знаю наверняка. Но лучше не будить лихо.
Совсем скоро вся поверхность шлюза оказалась покрытой толстым слоем пены, казавшейся грязно-рыжеватой в ярком электрическом освещении. Эта завораживающая картина даже смущала, напоминая какой-то сумасшедше-расточительный праздник.
Фёдор никогда не видел столько света ночью. Может, лишь в короткие моменты на самых удачных ярмарках, когда к электрическим гирляндам и огонькам добавлялись фейерверки, да на старых выцветших карточках легендарных городов, на улицах которых, говорят, ночью было так же светло, как и днём. И следом в который раз постучалась мысль: если великие строители канала были столь могущественны, как же они не сумели сберечь всё это?
Фёдор бросил быстрый взгляд на Матвея: здоровяка тоже радовало такое обилие света, он словно пытался впитать его, унести с собой хоть частичку в тёмную ночь, ждущую впереди.
— Какие мощные фонари! — восхищённо промолвил Фёдор.
— Ну да, — Кальян кивнул, — всё-таки учёные живут у нас.
В его словах смешались гордость, оттенок сожаления и какая-то недоговорённость. Но Фёдору показалось, что он понял здоровяка: впереди такого больше не будет. Только здесь, под боком у учёных, возможно столь царственное распоряжение ценнейшим на канале продуктом — электроэнергией. И Фёдор вдруг остро ощутил, что действительно покидает свой уютный милый дом, уходит навстречу неизвестности, и каков будет конец этой дороги, ещё вовсе не ясно. Только что-то говорило ему, что просиди он и дальше в безопасной Дубне, его жизнь мало чем будет отличаться от жизни кролика, лучшим завершением которой станет вкусное рагу на чьём-нибудь столе.
«А ты знаешь иную формулировку смысла человеческой жизни? — услышал он насмешливый голос, порой так похожий на отцовский. — Все рано или поздно покидают насиженные гнёзда. Это и есть взросление». Фёдор попытался было вспомнить, говорил ли он о чём-нибудь подобном с батей, но шум машин смолк, насосы отключили, уровень воды в шлюзе выровнялся с уровнем открывающегося за воротами водохранилища.
Фёдор скинул швартовый с крюка рыма; бакен в стенке поднялся не до упора направляющей, видимо, вода в Московском море стояла не на самой высокой отметке. Отшвартовав лодку, они медленно двинулись по шлюзу к дальним воротам, которые уже начали уходить под воду. Фёдор крутил головой, осматривая стены вокруг, потерявшие значительную часть высоты. Впервые в жизни он проходил шлюз, так ждал этого момента, но даже в страшном сне не смог бы представить, что окажется здесь ночью.
Вскоре они прошли над верхними утопленными воротами, и как только это случилось, с тем же тяжёлым звуком свет отключился. Впереди ждала широкая вода Иваньковского водохранилища, и направо по Волге можно было добраться до Твери, из которой давно не было никаких вестей, а за левым поворотом, метрах в пятистах от Ленина начинался вход в канал. Фёдор обернулся, желая узнать, не посветят ли им на прощание из окошка диспетчерской, но ничего разглядеть не смог. Первый, самый безопасный шлюз их путешествия только что остался позади.
Глава 4
Страж канала
1
Когда в стороне, над дамбой, скрытой разросшимся ивняком, полоснуло светом, Хардов и его маленькая группа находились уже минутах в десяти ходьбы от памятника.
«Ну вот, они вошли в шлюз, — подумал гид, останавливаясь, — можно не спешить и позволить старику передохнуть».
Некоторое время назад он послал ворона проследить, не шпионит ли кто за ними. С тех пор Мунир возвращался несколько раз, но был совершенно спокоен. Хардову удалось воспользоваться этим ежегодным ярмарочным балаганом и вывести Щедриных из города незаметно.
Пока всё шло по плану, и Ева пока держалась хорошо.
Гид очень опасался девичьей истерики, но, похоже, приглядеть сейчас стоило за Павлом Прокофьевичем. Хотя всё ещё может измениться там, на берегу, когда они станут прощаться и до них дойдёт, что лодка, возможно, увозит Еву навсегда. Щедрин сам ждал этого момента, он спасал дочь, но когда холод предстоящей разлуки и одиночества окатит сердце, они могут и не выдержать. Это плохо; не стоит питать тени, таящиеся в ночи, страхом и горечью дурных эмоций. Особенно там, на берегу. Но и об этом Хардов им уже говорил.
— Хардов! — шёпотом позвала девушка. — Простите, Хардов, вы слышите?
Гид обернулся: голос Евы вроде бы звучал спокойно. Она подняла капюшон мужского походного плаща, который он дал ей, и лишь бледность лица, различимая даже при лунном свете, выказывала волнение девушки.
— Нет, Ева, я ничего не слышу, — солгал Хардов.
— Вот именно, — она кивнула, — всё стихло.
Это правда. Только Хардов чувствовал это уже давно. Когда они только покидали Дубну, ночь была полна жизни.
В кронах деревьев галдели птицы, лёгкий ветерок дул над густыми травами, в которых стрекотали насекомые, на ветвях сосны довольно шумно возились белки, где-то проухала сова, а раз дорогу им перебежал не одичавший кролик, а самый настоящий заяц-русак. Мелкое лесное зверьё оказалось приспособленным к жизни в замкнутом мире канала намного лучше людей. Его не беспокоили ночные кошмары, оно не ждало с ужасом «сезона сновидений», не забивало себе голову страшными байками и с каким-то гибельным наслаждением смакуемыми небылицами.
Утрированно, до безнадёжности пугающими, нарочито нереальными историями, которые даже не оставляли возможности для попытки взглянуть правде в глаза. Тихон считал всё это проявлением посттравматического синдрома. Наверное, так оно и было. Только Тихон полагал, что со временем всё должно утрястись. Хардов не разделял даже этого осторожного оптимизма, иногда с нарочитым юмором называя их чем-то вроде стойких оловянных солдатиков из милой, пронзительной и давно утерянной сказки.
В любом случае мелкое лесное зверьё да и вся дикая природа чувствовали себя вольготней. И дикую природу не тревожил туман. Если только он сам не был её частью и порождением. Да, в этом разваливающемся мире мелкое лесное зверьё чувствовало себя вольготней людей. Но сейчас, по мере приближения к каналу, все эти деловитые звуки смолкли. Как стих и ветерок над низкими травами.
В ночи вокруг чувствовалось лишь повисшее и всё более нарастающее напряжение. Это имела в виду Ева, когда позвала Хардова? Древний инстинкт посоветовал сегодня дикой природе держаться от канала подальше.
— Понимаешь, Ева… — осторожно начал Хардов, пытаясь подыскать подходящие слова, чтобы успокоить девушку, — эта дорога от Дубны к памятнику Ленина, дорога Молодожёнов, её иногда ещё называют…
— Дорогой призраков, — сказала Ева. — Да, я знаю.
— Верно, — кивнул Хардов и понял, что уже давно отвык от общения с молоденькими девушками. — Я к тому…
Ева теперь его не перебивала, и гид посмотрел на ответвление старой дороги, что вела в сторону дамбы и дальше, к Иваньковскому гидроузлу. Под дамбой дорога ныряла в туннель, а русло канала со шлюзом № 1 было проложено над ним. Хардов вспомнил чёрный мглистый зев туннеля и подумал, что это скверное место. Особенно сегодня. Даже в благоприятные дни люди предпочитали пользоваться лодками, а не туннелем, для переправы на другой берег дамбы, и не только потому, что он притягивал уйму крыс.
Если верить городским слухам, некоторые мальчишки на спор перебегали туннель — что там, всего лишь несколько десятков метров. Если верить тем же слухам, некоторые из бегунов не справлялись со столь короткой дистанцией: они не появлялись с противоположного конца туннеля, но и назад, к месту старта, не возвращались. И возможно, именно сейчас, в эту самую минуту, нанятая Хардовым лодка проходит над туннелем, о котором столько любят посудачить в трактирах Дубны.
— Я к тому, — повторил Хардов, — что тебе не стоит бояться: сегодня на этой дороге мы вряд ли встретим призраков.
Ева помолчала. Когда она начала говорить, Хардову что-то очень не понравилось в её тоне.
— Я боюсь не того, что нам встретится по дороге, — голос Евы сделался глухим, бесцветным, и она смотрела в сторону памятника, — а того, что нас ждёт там. На воде. Там что-то…
— Брось, дочка, — попытался успокоить дочь Щедрин. — У нас очень опытный гид. Лучший из гидов.
— Неужели вы не чувствуете? — Девушка покачала головой. — Это вокруг… Его словно становится всё больше. Оно растёт…
«Напряжение?» — подумал Хардов. Вслух он сказал:
— Ева, есть такие дни… Я не думаю, что нам что-либо угрожает физически. По крайней мере, я к этому хорошо подготовился. Но существуют дни не самые благоприятные, чтобы уходить в плавание по каналу. Но они такие же и для наших… — Хардов кивнул, ему показалось, что он отыскал смягчающее слово, — для наших недоброжелателей. Там сейчас нет охраны. Люди остерегаются выходить на канал в такие дни. Идём, Ева, лодка скоро будет на месте.
— Хорошо, идёмте, — согласилась Ева. — У нас действительно нет другого выхода. Но я хочу, чтобы вы знали, я не обольщаюсь насчёт людей. Ну, про охрану там, и всё такое… Недоброжелатели — всё так. Только иногда люди — меньшее зло.
— Что ты имеешь в виду, дочка? — сипло спросил Щедрин.
Хардов смотрел на девушку, плотно сжав губы: в общем, чего уж тут скрывать, эта тишина вокруг и ему действовала на нервы.
— Я не знаю, что там, — наконец сказала Ева и снова неуверенно кивнула в сторону памятника, — но оно как бы… пока далеко. Не знаю… Но с каждым нашим крохотным шагом оно приближается намного быстрее.
«Ну, конечно, ведь мы туда идём», — хотел было возразить Хардов. Однако Ева не оставила ему такой возможности.
— Приближается — не совсем точное слово, — сказала девушка. — Оно там есть. Ну, да, становится ближе. Словно чует нас. Будто мы притягиваем его.
— Пробуждается? — вдруг спросил Щедрин.
— Может быть. — Ева удивлённо уставилась на отца. Он, как и большинство учёных, законченный агностик, всегда твердил ей, что все феномены канала скорее психологического свойства. — Да, наверное.
«Оно никогда не спит», — подумал Хардов. Он прекрасно знал, о чем пыталась сказать девушка.
— Но оно идёт. Из какого-то… очень плохого места. Но, наверное, немного времени у нас всё же есть.
«Не совсем так, — мрачно усмехнулся про себя Хардов. — Оно там везде. И всегда было. Там всё буквально пропитано им. Дело действительно намного сквернее, чем виделось в начале».
— Хардов, простите, пожалуйста, старика, я понимаю, что это может показаться смешным, но… — Голос Щедрина стал словно безжизненным, когда он закончил фразу. — Это то, о чём принято говорить «Второй»?
Хардов помолчал. Затем сложил руки и хрустнул пальцами. В сгустившейся тишине звук вышел довольно необычным, сухим, неприятным, будто сломали грифельный карандаш.
— Павел Прокофьевич, вы ведь учёный, — мягко улыбнулся гид, — стоит ли прислушиваться к разным байкам?
— Возможно, вы правы, Хардов, — вступилась за отца Ева, — но знаете… Страшный зверь в лесу назывался Бер. Тот, кто заберёт, видимо. Он жил в своём тёмном логове, которое так и звалось — берлога. И древние лесные люди настолько боялись зверя, что предпочитали не произносить его имени, называя его описательно и по-иному — Тот, кто ведает про мёд. Или Медведь.
— Я слышал об этой истории, Ева, — снова улыбнулся Хардов. — Ещё ребёнком.
— Несомненно, — кивнула девушка, и Хардов уловил в её напоре еле сдерживаемый страх. — Но можете ли вы поклясться, что со… «Вторым» дела обстоят иначе?
Напряжение вокруг достигло своего пика, сменяясь какой-то липкой неподвижностью, словно дальше им придётся двигаться сквозь слои ваты.
— Нет, Ева, не могу, — помолчав, наконец произнёс гид несколько сухо. Он не собирался её обижать, однако никаких истерик он не допустит даже в зародыше. — Но я поклялся тебя защищать, Ева, пока не доставлю в пункт назначения. И я сдержу слово, чего бы мне это ни стоило.
В этот момент пронеслась тёплая волна, и в воздухе захлопали крылья. Ворон Мунир снова вернулся, и сковывающее всех тоскливое оцепенение развеялось. Хардов чуть выставил вперёд руку. Ева смотрела, как ворон садится на приподнятый локоть гида, и ей почему-то вдруг подумалось, что Мунир, видимо, вообще довольно весёлое создание. И от этого девушке стало чуть менее страшно.
— Идёмте, — мягко позвал гид. — Не стоит нам красть своё собственное время.
И они пошли к пятну яркого света впереди — перекрестье мощных прожекторов выхватывало из тела ночи громаду каменного исполина, нависшего над берегом. Вход в канал должен был выглядеть торжественно в любое время, и самая большая из созданных когда-либо в мире статуй Ленина стояла здесь, как каменный страж, бдящий у ворот в сокровенный поток, хранивший дорогу, вдоль которой не угасала жизнь. Ева держалась теперь намного лучше, да и Павел Прокофьевич начал успокаиваться. Хардов посмотрел на перекрестье лучей света впереди, и это вечное ощущение обмана, которое всегда приходило к нему на этом месте и за которое когда-нибудь придётся расплачиваться, вновь тупой иголкой кольнуло его сердце. Ленин не был подлинным стражем канала, хотя в Дубне любили этот памятник, да и во всех окрестных поселениях также, вплоть до Дмитрова. Молодожёны со своими замочками и ключами клялись перед ним в вечной любви, вовсе не догадываясь, что каменная статуя давно уже глуха к их надеждам и обещаниям. Возможно, в отличие от того, что когда-то возвышалось на таком же огромном каменном пьедестале, только на другом берегу дамбы перед входом в канал. Хардов поймал себя на этой мысли, и она ему очень не понравилась.
2
— А ты знаешь, что загруз? — вдруг спросил Фёдор.
Капитан пристально взглянул на юношу, затем отрицательно тряхнул головой:
— О подобном спрашивать не принято, Тео. Нам платят не за это, а за доставку. Если наниматель захочет, он сам расскажет. За исключением тех случаев, когда груз опасен сам по себе.
— Какие-нибудь яды? Сатанинские грибы? Латентные мутанты?
— Разное бывает, — уклончиво ответил здоровяк. — Но если груз опасен, команда должна знать.
— А… я хотел ещё спросить, — замялся Фёдор. — Голоса канала — что это? И правда ли, что их слышат лишь в шлюзах?
— Не стоит здесь об этом говорить, — хмуро промолвил здоровяк. — Потом спросишь у него, днём. Когда будем подальше отсюда. Он-то явно лучше расскажет.
— Кто?
— Хардов, — усмехнулся Матвей. — Я думаю, он знает побольше нас всех вместе взятых. Они все молчуны, гиды, но этого ты заинтересовал.
— С чего ты взял?!
— Вижу. Я уже давно хожу капитаном, Тео. И в серые, а бывало, и в чёрные рейсы, и кое-что в людях понимаю. О, сегодня Ленин освещён даже поярче обычного, будь они неладны с их фонарями.
Памятник выплыл из-за изгиба берега по левому борту, величественный, как и всё связанное с каналом, прекрасно сохранившийся, возможно, последний памятник в мире такого размера, на который не жалели электричества. А может, и нет. Ведь ещё мальчишкой в Дубне Фёдор слышал странные рассказы о том, что жизнь сохранилась где-то и за пределами канала. Возможно. Где-то. Нужно лишь отыскать способ пройти сквозь туман. Фёдор тогда мечтал, что он обязательно сделает это. Отыщет путь, как червь, прогрызёт стенки тумана и принесёт спасение, найдёт эти новые миры, островки жизни, отрезанные хищной мглой. Мечтал, — и юноша чуть печально улыбнулся, — вместе с Вероникой. Что случилось с ней? Куда делась та девочка? «Она просто выросла», — тихо шепнул ему в ночи тот самый насмешливый голос. Он не издевался и не глумился, просто предпочитал звучать отрезвляюще. «И мостик молодожёнов с замочками и ключами от сердец». Но разве не для того он всё это затеял, не для того пустился в путь, чтобы вернуть дорогу к этому мостику, вернуть мечту?
Фёдор смотрел на памятник. Ещё в той же Дубне шутили, что скульптор поработал так, что левой рукой Ленин вроде как чешет попу. Похоже, так оно и было, только сейчас это не выглядело смешным. Убранный светом памятник внушал если не восторженный трепет, то что-то близкое к тому.
— Как красиво! — восхищённо протянул Фёдор. — Никогда не видел его с воды.
— Ну, да, красиво, — непонятно буркнул Кальян. — А вот и Хардов. Похоже, с ним ещё кто-то. Давай правь к берегу, — бросил он рулевому, — за ступенями можно удобно пришвартоваться. Фёдор, бери канат и приготовься. — А потом голос здоровяка зазвучал глуше: — Я б не задерживался здесь надолго.
Взгляд Фёдора быстро пробежался по трём фигурам на берегу, укрытым тенью пьедестала. Значит, будут ещё пассажиры? Один из них, в плаще с капюшоном, показался слишком уж худым, субтильным для гребца или гида, словно был переодетой женщиной.
«Или дохляк какой-то, или девчонка. Точно, баба в мужской одежде!» — мелькнула у юноши уверенная мысль. Но вот взгляд его уже приковал вожделенный мостик, — ему тоже хватило частички света, — мостик с замочками молодожёнов, ключи от которых покоились на дне канала. Фёдор машинально провёл рукой по груди — его ключ висел на шнурке, и он сейчас ощутил его надёжную твёрдость. И хоть Вероника посмеялась над ним и его предложением, юноша сумел незаметно подбросить замочек в её сумочку перед тем, как она ушла.
И теперь по обычаю Вероника должна была хранить этот знак помолвки не меньше девяти месяцев и либо лично вернуть замочек Фёдору, что освобождало её от любых обязательств, либо принять его предложение. Ритуалы на канале соблюдались строго; значит, у них есть как минимум ещё одна встреча, которая произойдёт не раньше, чем Фёдор вернётся из рейса, а к тому времени он предполагал превратиться в завидного и перспективного жениха.
Фёдор неожиданно тяжело вздохнул: почему она так обошлась с ним? Почему так грубо посмеялась, когда он открылся ей, обозвав глупым и нищим мальчишкой? Верно ли, что она стеснялась его общества в «Кролике» перед этими богатенькими купеческими детками, или показалось? И верны ли слухи, что к ней сватался сынок чуть ли не главы гильдии дмитровских купцов? Но, может, она ответила отказом и потому ничего не пересказала Фёдору? Ведь она же Вероника, его Вероника, и у них ведь любовь ещё со школьной скамьи. Может, он сам виноват, что поторопил её своим неожиданным и дурацким предложением? Конечно, он сам! Но вот он вернётся из рейса и больше не будет глупым и уж тем более нищим. И, выбирая между ним и скучной жизнью с богатеньким купеческим сынком, она, конечно же, предпочтёт его! Потому что… он помнит их мечты. Пусть наивные и детские, но мечты иногда могут стать могущественными, если следовать им. Фёдор вернётся…
Юноша вдруг снова тяжело вздохнул. В принципе, существовал ещё один способ освобождения молодых людей от их взаимных обязательств: для этого Фёдор просто должен был отдать ей ключ от замочка, тот самый ключ, что висит сейчас у него на груди. И если так надо будет поступить для её счастья… Но прежде он вернётся. Он докажет! У него есть ещё девять месяцев. Докажет, что отправился навстречу приключениям, потому что… помнит их мечты и помнит о своём обещании когда-нибудь прославиться и разбогатеть. И когда она увидит, каким он стал… Возможно, даже таким, как… Хардов, только готовым сменить свой видавший виды, видавший жизнь и смерть пыльный плащ на уютный домик на берегу в тени деревьев…
— Ау, Тео проснись! Нашёл время ворон считать, — голос Кальяна вывел Фёдора из сладостных грёз. — Бери канат, спрыгивай на берег, найди, за что пришвартоваться! Там должен быть старый кнехт. И давай быстро, пока я не пожалел, что взял тебя с собой!
3
«А вот и лодка, — подумал Хардов. — Что ж, пока всё чётко по графику».
А потом его взгляд невольно вернулся к пустующему основанию памятника на противоположном берегу. Когда-то вход в канал венчали два каменных исполина. Потом по причинам, давно уже стёршимся о время, второй памятник демонтировали, разбив вокруг пустующего основания симпатичный парк.
Виды здесь действительно открывались раздольные, и пока не пришёл туман, правый берег канала и водохранилища был столь же хорошо обжит, как и левый. И паромная переправа ещё не внушала ужаса живым, а была лишь простым и безопасным способом переправиться в Конаково, посёлок по другую сторону. Воспоминания о тех счастливых деньках остались как рассказы о золотой эпохе. Но это знали все на канале. Как и то, что, когда демонтировали Второго, его каменная голова отвалилась и упала на дно, где лежит и по сей день.
Хардов знал ещё кое-что. Поэтому его взгляд всё настойчивей возвращался к пустующему основанию. Тумана там не было. И не было пока ничего подозрительного. Лишь неприятное ощущение, отдающее всё более гнетущим холодком в спине. Все инстинкты гида твердили о том, что игнорировать это ощущение больше невозможно. Ева права — их время почти на исходе. И если это начнётся… «Это очень плохо, — мелькнуло в голове у Хардова, и лицо гида прочертила несколько мучительная, даже болезненная складка. — Но если это всё же начнётся, главное, чтобы он не успел увидеть нас. Иначе на рейсе можно ставить крест».
За то время, что они добирались сюда, успели набежать лёгкие облачка. Но когда луна открывалась, чёткая половинка в виде буквы D, на другой стороне можно было рассмотреть точно такие же ступени, спускающиеся к воде, и вакантное основание, о которое когда-то опирался каменный исполин. Второй вождь, Сталин, он и был подлинным строителем канала. И кости тех, кого согнала сюда его непреклонная воля и кто потом сгинул при строительстве великого пути, всё ещё перешёптывались на гиблых болотах, лежащих у шлюза № 2. Их шёпот сводил с ума каждого; даже сам Тихон, не ведавший страха, остерегался проходить болота ночью, потому что как-то встретился там с кое-чем похуже шёпота.
К счастью, такое творилось не всегда. В основном днём, да и чаще всего ночью лежащие в болотах спали, и если их не тревожить, ничем не выказывали своего присутствия. Лишь в плохие, скверные ночи что-то пробуждало их. Проблема заключалась в том, что сегодняшняя ночь была как раз из таких. Хардов снова поморщился и негромко позвал:
— Павел Прокофьевич, пора. Это наша лодка.
Лишь бы старик не раскис в последний момент. Нравился ему Щедрин, чего уж тут говорить, очень нравился. Своей мягкой открытостью, доверчивостью и какой-то аристократической вежливостью старик напоминал ему о тех днях, когда мир ещё не закончился. И когда каждый мог позволить себе такие качества. Да не каждый захотел! Наверное, гниение мира уже тогда стало необратимым. Атака хищной мглы, хоть и исподволь, уже началась. Только вот такие, как Щедрин, всё ещё оставались островками света, вокруг которых, если повезёт, могли образовываться новые островки. В этом и заключалась их последняя надежда. Это всё ещё не давало вере Хардова окончательно угаснуть.
Хардов в последнее время много думал о Еве. И о том, другом, конечно, тоже. Но что, если Тихон ошибается, что если девушка всё же главное? Хардов, человек, почти растерявший веру, кроме остатков того, что когда-то все они, юноши полные надежд, гордо именовали Путём гида, да ещё, быть может, веры в своего ворона Мунира, не имел права на сомнения. И он выполнит возложенное на него Тихоном, совершит самый странный, невероятный маршрут в своей жизни, хотя сам бы он поступил иначе. И хоть на сомнения в действиях у него права нет, его право на вопросы и эмоции никто не отбирал. Особенно на главный вопрос: Хардов поклялся защищать Еву, Тихон знает об этом. Но если для выполнения возложенного на него придётся переступить через клятву, как он поступит? Хардов без колебаний, если потребуется, отдаст жизнь за Еву, но вопрос ведь не в его жизни. «Миссия невыполнима» — кажется, так назывался старый-старый фильм, который он смотрел когда-то в доме, полном света. И самым печальным во всём этом оставался старик, ничего обнадёживающего которому Хардов сказать сейчас не сможет. Если только не соврёт.
Ева шагнула к отцу. Щедрин сразу как-то ссутулился, раскрыл объятия. Хардов деликатно отвернулся и сделал несколько шагов в сторону. Потому что голос старого учёного задрожал, а потом гид услышал исполненный невообразимой боли и нежности голос Евы:
— Папочка… Папа.
Хардов почему-то снова на миг вспомнил дом, полный света, и заставил себя ничего не слышать. Им надо попрощаться. У них нет другого выхода. У них у всех нет другого выхода. Он с трудом подавил в себе желание соврать, закричать: «Эй, да что вы?! Через пару месяцев встретитесь!» Вместо этого он даст им ещё полминуты. Невзирая на то, что их время катастрофически убывает. Невзирая на то, что сейчас, в вязкой ночной мгле на другой стороне, слишком, до густоты чёрной, чтобы быть естественной, словно её коснулись глянцевой краской, он успел различить кое-что. Там, над пустующим основанием…
Хардов подумал, что пришла пора привинтить глушитель к его девятимиллиметровому ВСК-94 — хорошему многоцелевому оружию, которое могло быть и снайперской винтовкой, и штурмовым автоматом; жаль, что патроны к нему гораздо больший дефицит, чем калибр 7.62 к «калашникову». Ещё жаль, что события могут принять такой оборот, только шуметь здесь Хардов не собирается. Но прежде всего — ещё полминуты. Им надо дать попрощаться. Отцу и дочери, которым, возможно, никогда не суждено свидеться вновь. Лишь надежда будет жить в сердце каждого. Вместо тепла и объятий друг друга будет жить эта надежда. Та самая, которой для Хардова почти не осталось.
— Пора, — сказал гид. — Лодка не сможет ждать.
Старик держится. Он будет стоять здесь и махать им, пока они не войдут в канал и не скроются за воротами. И ничего плохого отсюда, с берега, он не увидит. Другое дело с воды…
— Павел Прокофьевич, конечно, просить вас не ждать, а отправляться домой бесполезно?
— Что вы, Хардов! — отмахнулся старик. — Я уж провожу вас.
Гид вздохнул. Старик чуть потупил взор. А вот щёки Евы блестят от слёз, хотя она и накинула капюшон на половину лица.
— Тогда мне придётся попросить вас хотя бы отойти подальше от памятника, — сказал Хардов. — Возможно, мне придётся стрелять по фонарям прожекторов.
— Боже, Хардов, что за вандализм?
Рот Щедрина раскрылся в недоумении, но гид больше не мог позволить тратить драгоценное время. Ни им, ни себе. Он лишь взял Щедрину за руку, бросив ей: «Идём, Ева!», и быстро повёл девушку к лодке. По дороге она всё же обернулась к отцу, и тот было порывисто дёрнулся и прошептал что-то безмолвно, но Хардов только крепче сжал руку Евы. Затем, не оборачиваясь, он крикнул старику:
— Всё, прощайте! И… ждите вестей, — гид постарался, чтобы его голос звучал если не излишне обнадёживающе, то хотя бы бодро, — хороших вестей!
Однако когда они всходили на лодку и Кальян молча, без лишних вопросов подал Еве руку (вопросы будут потом, Хардов знал это, и его это не беспокоило), гид успел заметить кое-что. Не только как мальчишка, Фёдор пялился на Еву во все глаза, но когда их взгляды мельком встретились, ничего более умного, чем надменное равнодушие, граничащее с презрением, изобразить на лице не смог. Впрочем, Ева, скорее всего, даже не заметила его: мысли девушки были заняты другим. Она лишь кивнула им всем, вежливо поздоровавшись, и быстро скрылась в носовой каюте.
— Всё. Уходим, — распорядился Хардов.
Он прекрасно понимал, какое смятение вызвало появление Евы в умах команды. По крайней мере, той её части, что была набрана из гребцов-контрабандистов. Никакого груза не было. А гонорар велик. Не надо быть гением, чтобы провести логический мостик и связать всё воедино: баба в ночном рейсе! Значит, всё самое ценное либо в её багаже, в её бауле, либо… она сама. Это Хардова также не беспокоило. Сейчас гораздо больше тревожило другое. То, что ещё успел заметить Хардов. Как только нога Евы коснулась борта лодки, один из лучей прожекторов, освещавших памятник, еле заметно дрогнул.
«Возможно, совпадение, — подумал гид. — Но вряд ли. Скорее всего… Скорее всего, надежда войти в канал незамеченными не оправдалась».
* * *
— Капитан, — негромко обратился Хардов к Матвею, — сейчас парням придётся подналечь.
— Я помню, — так же тихо отозвался Кальян. Голос его был спокоен. Почти. По крайней мере он был твёрд. — Команда проинструктирована. Никто не подведёт.
Хардов кивнул. Гребцы действительно налегли на вёсла с удвоенной силой.
«Он хороший капитан, — подумал Хардов, не сводя пристального взгляда то с лучей прожекторов, то с пустующего основания на другом берегу. Теперь вокруг него сгустился туман, который подполз почти к самой воде, и Хардов прекрасно понимал, что это значит. — Такую скорость можно выдержать только на короткой дистанции. Как на соревнованиях, спринтерская гонка. Да вряд ли Тихон дал бы мне плохого».
Хардов обернулся в сторону входа в канал, куда шла лодка, — до двух каменных башенок по обоим берегам, обозначавших ворота для рукотворного русла, оставалось ещё больше трёхсот метров. «А ведь у нас и есть гонка, — подумалось гиду, — только вряд ли кто в лодке, кроме меня, да, может, ещё здоровяка-капитана знает, сколь высока цена приза и цена поражения».
Гид стоял посреди лодки, держась за мачту, ворон Мунир сидел у него на плече. Кальян занял «весло капитана», крайнее по правому борту, и молча задавал ритм. Шуметь сейчас было нельзя. Не в этом месте. Но когда Хардов вновь повернулся к пустующему основанию на другом берегу, он понял, что все самые плохие предчувствия начинают сбываться прямо на глазах. А потом он услышал голос Фёдора:
— Посмотрите, что творится со светом.
4
Ева сидела в темноте каюты, прислушиваясь к звукам снаружи, и её била мелкая дрожь. Она помнила о наставлениях Хардова не включать масляный светильник, пока лодка не войдёт в канал, да она и не собиралась ослушаться гида, только с каждой секундой ей становилось всё хуже. И девушка с трудом сдерживала себя, чтобы не закричать:
— Немедленно поворачивайте обратно! Нельзя сейчас быть на воде!
Ева всё помнила о страхе и плохих эмоциях, которые делают их уязвимыми, как сигнальный маячок, открывают тем, кому не следует, — она помнила слова Хардова. В общем, она, наверное, разделяла подобную точку зрения и пыталась сейчас дышать, как учил её гид. Да только это не особо помогало. Ведь вопрос не в дыхательной гимнастике и, по большому счёту, даже не в том, что ей сейчас стоит успокоиться. Ведь так? Неужели они не понимают, что там, снаружи, всё теперь переменилось?! Всё стало намного хуже, чем когда они только направлялись к памятнику. То, о чём она говорила, чьё приближение чувствовалось с каждым их шагом, теперь пришло. И оно там везде.
Ева не знала, что это, хищное, алчущее, пока ещё слепое, но оно ищет их. И найдёт очень скоро. Надо немедленно возвращаться на берег, на свою сторону, если ещё не поздно. Возвращаться, потому что… Там, на воде, что-то очень скверное, и с каждым мгновением становится только хуже. Даже здесь, во тьме каюты, чьё-то пока ещё бесплотное щупальце холодным ветерком коснулось её лица (или сердца?), и вслед за ним всю лодку за пределами её убогого убежища залила ослепительная вспышка света. Только было в этом ярком свечении что-то неживое, чуждое. «Это плохой свет, — успела подумать Ева. — Он ищет нас. Но не только…»
5
«Вот и мальчишка увидел то, что я вижу уже некоторое время», — мелькнуло в голове у Хардова. В этой мысли было что-то ледяное, какой-то холодный металл, эмоция, которая требовала, наверное, спокойного преодоления и которой Хардов вряд ли станет когда-нибудь гордиться. Но в сложившихся обстоятельствах у гида не осталось времени для анализа эмоций. Челюсти его плотно сомкнулись, и взгляд всё ещё оставался прикован к тому, что творилось с прожекторами. Они больше не хотели освещать самое крупное в мире скульптурное изображение Ленина, словно чья-то немыслимая воля внесла разлад в исправно работающий механизм. «А может быть, эта воля и заставила нас установить здесь прожекторы для своих целей», — безмолвно усмехнулся Хардов, извлекая из-под плаща свой ВСК с уже прикреплённым цилиндром глушителя.
— Что бы ни случилось, капитан, не прекращайте грести, — голос гида прозвучал хрипло. Он обернулся — до входа в канал оставалось не меньше двухсот пятидесяти метров. — Пока мы не пройдём ворота, не прекращайте грести. Там мы будем в безопасности.
Если некоторое время назад лучи света начали колыхаться, как будто где-то в мире существовал ветер, способный их раскачивать, то потом один из них отклонился от статуи и бесцельно устремился куда-то в тёмное небо. Потом к нему присоединились остальные, то перекрещиваясь в пустом пространстве, то столь же бессмысленно скользя по лесу, берегу и тёмной воде. Вот один из них поймал лодку, на миг ослепив всех, кто в ней находился, к нему присоединился другой, и Хардову пришло на ум, что они, как гончие псы, принюхиваются, но подлинная их цель вовсе не здесь. И вот та же невидимая рука стала разворачивать прожекторы и фокусировать их на противоположном берегу дамбы, где над пустующим прежде основанием творилось теперь много чего интересного.
«А тебе нужен свет, — несколько отстранённо подумал Хардов. — Там, в своей тьме ты без света не сможешь». Его рука передёрнула затвор, досылая патрон, а затем гид услышал, как заскрипели его собственные зубы. Там, на другой стороне, творилось и правда много интересного. Создавалось впечатление, что клочья мглы несколько проредились, словно туман теперь отодвинулся от каменного основания бывшего памятника, расползался в стороны, уступая место чему-то другому. Эти всё более набухающие в разных местах сгустки чёрного глянца, которые Хардов заприметил ещё до посадки в лодку, сейчас прорвались, и в переливах бледного скользящего света проступили, а затем скрылись очертания чего-то огромного и бесформенного.
«Ну, вот и началось», — эта мысль накатила на Хардова вместе с волной какой-то прелой усталости. Пространство вокруг них словно сгустилось.
— Быстрее, капитан, — проговорил гид, прижимая приклад наизготовку, чтобы вести огонь. — Ради всего святого, быстрее!
Его слова, казалось, застревали в неподвижном, липком, как кисель, воздухе. И следом это ощущение невидимой злой воли стало нарастать, и что-то попыталось заставить Хардова опустить вскинутое было оружие. Гид не стал ждать, пока это нечто войдёт в полную силу. Вся лодка была перед ним сейчас как на ладони. И время словно замедлилось, позволяя Хардову окинуть взглядом всё, что было перед ним.
Он видел, что гребцы начали ослаблять ритм и лодка теряет скорость, что человек на корме вот-вот бросит руль, потому что смотрит, как завороженный, на противоположный берег, и в его маслянистом взгляде ужас смешался с чем-то похожим на священный трепет; он слышал голос Кальяна, капитана, которого уже успел похвалить: «Фёдор, быстро на руль! С бородачом что-то не то… И держи крепко, парень!» Набирая дыхание, он успел заметить, что мальчишка и впрямь оказался проворным и держится не в пример лучше остальных. Это его не удивило, лишь лёгкая печаль кольнула сердце. Прицелившись, чтобы бить по первому прожектору, Хардов понял, что увидел ещё кое-что: как на другом берегу прямо из тела ночи выступил исполинский каменный бок, как в некоторых местах камень ещё не сделался непроницаемым, и гигантская статуя словно парила над формирующимся пьедесталом. Там, на противоположном берегу, вопреки всем мыслимым прежде законам жизни, в перекрестье электрических лучей появлялся Второй.
— Он вышел прямо из темноты, — с несколько шальной усмешкой процедил Хардов.
Это было давнее воспоминание. Впервые о своей встрече со Вторым ему рассказывал человек, чьё сознание помутилось от увиденного. Он так и визжал, пока Тихон пытался бедолаге помочь: «Он вышел прямо из темноты! Огромный, каменный, но… живой! Жи-и-во-ой!» А Хардов почему-то вместо жалости испытывал что-то похожее на брезгливость.
Да, это было давно…
А потом гид задержал дыхание, и весь внешний мир перестал существовать. Кроме оружия и цели, куда он сейчас пошлёт пулю. Хардов нажал на спусковой крючок. С глухим хлопком, чуть более громким, чем звук выстрела, лопнул первый прожектор. И словно в ответ в плотной стене тумана, стоявшего на том берегу, гневно полыхнуло чем-то холодным, похожим на зарницы. Только это никакие не зарницы. У Хардова дёрнулась щека. Оружие уже было готово к следующему выстрелу. Эта чёрная воля, сковывающая всех, кто был в лодке, чуть ослабила хватку. Гид выстрелил. Второй фонарь прожектора разлетелся вдребезги. Оставался последний: теперь до другого берега добивал лишь одинокий луч. Дышать стало значительно легче. Хардов прислушался и ощутил, как по лбу пробежали капельки пота. Это его озадачило — напряжение оказалось большим, чем чувствовалось.
«Давайте, давайте, гребите, мои хорошие! — быстро подумал он. — Нам бы только успеть войти в канал». Хардов посмотрел на последний луч, связывавший оба берега, и он показался ему натянутым, как струна. И что-то ещё… Звук, низкий и тихий, на грани слуха, похожий на треск статического электричества или гул электропроводов. Хардов снова прислушался, но ничего больше различить не смог. А потом выстрелил ещё раз. И на несколько секунд единственным источником света вокруг них стала бледно-зелёная луна, плывущая в тревожном небе.
* * *
Фёдор почувствовал, что руль больше не вырывался из его рук: потребовалось совсем лёгкое усилие, чтобы вернуть лодку на прежний курс. О том, куда могло затянуть лодку,
(ты же знаешь, куда! В туман, из которого нет выхода)
не хотелось даже думать. Сердцебиение постепенно приходило в норму, по крайней мере, в груди юноши больше так бешено не стучало. Хардов только что произвёл выстрел, и последний луч за спиной Фёдора погас. «Второй» исчез, на его месте теперь зиял громадный, похожий на провал, бесформенный сгусток тьмы. И обруч, сдавливающий виски, ослаб.
(в туман, из которого нет…)
Фёдор крепче взялся за руль. И даже попробовал робко улыбнуться Кальяну. Капитан сидел лицом к нему и с молчаливой сосредоточенностью работал веслом. Мучительная складка, прочертившая лоб здоровяка, ещё не разгладилась.
Фёдор посмотрел на Хардова: гид по-прежнему стоял у мачты и к чему-то тревожно прислушивался. Мунир, взлетевший было, пока гид стрелял, вернулся на плечо хозяина. Сейчас ворон застыл и, забавно склонив голову, глядел на чужой берег. Фёдор глубоко вздохнул: он, наверное, с удовольствием бы посмеялся, только… Это ощущение плохого вовсе не ушло. Оно словно затаилось, притихло в темноте и теперь раздумывает.
Вот и Фёдор услышал этот низкий и какой-то пустотный звук. Мунир заволновался, расправляя крылья.
И вдруг юноша отчётливо понял, что это ещё не всё, лишь короткая передышка. Там, за его спиной, где только что погасли прожекторы, снова что-то происходило. Это он почувствовал, когда мороз иголочками побежал от основания его позвоночника вверх, это увидел в отсветах взгляда Кальяна, когда тот надтреснуто прошептал:
— Не может быть… Они светятся!
А потом здоровяк не смог скрыть поток паники, прокравшихся в его голос:
— Хардов, прожекторы снова светятся.
6
Павел Прокофьевич Щедрин видел, как лодка мирно удалялась по спокойной поверхности водохранилища в сторону входа в канал. По широкой водной глади в серебре весело переливалась лунная дорожка, а яркие фонари освещали мощными лучами памятник Ленину, о котором столько любили посудачить в городских трактирах. Напряжение, которое чувствовалось, пока они добирались сюда, с отходом лодки развеялось почти окончательно. Павлу Прокофьевичу даже показалось, что его лицо обдало лёгким ветерком. И он подумал, что, наверное, зря они беспокоились и всё с Евой будет хорошо. Поэтому старый учёный был искренне изумлён, когда Хардов исполнил своё обещание и расстрелял прожекторы.
— Бог мой, ну зачем это? — промолвил Щедрин.
В какой-то момент ему показалось, будто он различил что-то на том месте, где когда-то находился второй памятник, но именно что показалось: всё было мирно, спокойно, И совсем скоро он пойдёт домой и заварит травяного чаю, что так любили они с Евой за час до сна. Возьмёт почитать старую книгу и лишь потом ощутит, как осиротел его дом.
— Я её спасаю, — теперь уже с уверенностью прошептал Щедрин.
И, конечно, старый учёный не видел того, что творилось сейчас с уже мёртвыми прожекторами. Того, что видела его дочь и все, кто находился в лодке.
7
Если бы Хардов вошёл сейчас в носовую каюту, он бы, наверное, решил, что страх вызвал у гостьи его судна временное нервное расстройство. Хотя его вполне могла осенить и более тёмная догадка. Обняв себя руками, девушка сидела на койке с закрытыми глазами, но лицо её было повёрнуто к узкому разрезу иллюминатора.
— Я прошу тебя, прошу, спаси нас, — шептала Ева, — защити от него и останься жив. Я отдам тебе часть своей любви, я смогу, но останься жив.
Однако Хардов стоял у мачты, и взгляд его был прикован к самому большому в миру скульптурному изображению Ленина. Памятник оказался не только самым большим. О нет, всё не так просто. Впервые за очень много лет Хардов выглядел обескураженным. Правда, оценить этого было некому. Но не в том дело, ведь так? Есть вещи более любопытные. Например, когда только что разнесённые вами в пух и прах фонари оживают. Губы Хардова неожиданно высохли, и их пришлось облизать. От расстрелянных прожекторов исходило явное бледно-зелёное свечение, пока ещё тусклое, похожее на болотные огни. Этот низкий пустотный звук, навевающий мысли о странных опытах с электричеством, повторился, но уже громче.
— Забавно, — прошептал Хардов.
Свечение не просто усилилось. Только что прямо на глазах гида из разбитых прожекторов вырвались первые лучи, не длиннее десятка метров. Слепо обшаривая пространство вокруг себя, они иногда скрещивались, что делало их похожими на световые мечи в руках невидимых сражающихся великанов. Мертвенное тусклое свечение набирало силу, лучи уплотнялись, а потом выстроились параллельно друг дружке, как будто встали наизготовку. И вот в небо ударили мощные столбы бледно-зелёного света. Лицо Хардова застыло. «Это мёртвый свет», — пронеслась в его мозгу какая-то чужая мысль.
Лучи начали опускаться, кружа с каким-то игривым любопытством, словно их интересовала и пустота ночного неба, и далёкая линия горизонта на чужом берегу. «Там нет линии горизонта, — сказал мысленно Хардов. — И когда взойдёт солнце, на том берегу будет стоять лишь туман. — Гид с трудом подавил отчаянный, шальной смешок. — В этом мире посредником между землёй и небом является стена густого тумана».
Хардов быстро обернулся — до спасительных ворот оставалось не больше сотни метров. Но лучи уже бежали по каменным ступеням на дальнем берегу дамбы, по которым когда-то поднимались древние строители канала к своему грозному идолу, неся ему всю свою безмерную любовь, преданность и весь свой страх. Лучи переместились выше и поймали в перекрестье черноту зияющего провала над пьедесталом. Хардову снова пришлось облизать губы: картинка качнулась, дрожа, будто с тем же пустотно-электрическим звуком она обжигалась о края привычной реальности. А затем мёртвый свет выхватил из тьмы очертания исполинской статуи.
— Навались, парни! — закричал гид. Теперь необходимость соблюдать режим тишины отпала сама собой. — Гребите что есть сил!
«На голограмму — вот на что это было похоже, — вспомнил Хардов. — На чудовищную голограмму, нарисованную прямо в небе. Только ты знаешь, что это не так».
Монолитная громада памятника, охваченная бледно-зелёным светом, повисла в черноте неба, раскалывая пространство. Присутствие злой воли, всегда ощутимое в этом месте, сейчас сделалось неодолимым. Хардов подумал, что этот низкий пустотный звук становится объёмней, наполняясь глубиной и силой; только звук не был просто странным, плохим — присутствовало в нём что-то невыразимо иное, словно он нащупывал внутри каждого камертон ужаса и прекрасно резонировал с ним. Гид видел, что лодку вот-вот затопит неконтролируемая животная паника. А потом Хардов услышал хлопанье крыльев; Мунир взлетел — и гид понял, что может прикусить губу до крови. «Второй… Вы не должны оказаться на линии его взгляда, — услышал на мгновение Хардов голос Тихона, — иначе всё самое скверное и мерзкое на канале будет знать о вас. Если вы, конечно, выживете». Только это было старое воспоминание, когда он учил их, ещё совсем желторотых юнцов.
— Нет, Мунир, я запрещаю тебе! — хрипло закричал гид, прекрасно понимая, что ворон никогда бы не ослушался его и что сейчас Мунир действовал, повинуясь подлинному, хоть и невысказанному приказу Хардова.
«Вот ещё одно существо, которое я люблю, готово погибнуть из-за тебя», — горько подумал он. И посмотрел на того, кого некоторое время назад, ещё в безопасной Дубне назвал Вторым. Лик каменного Сталина был обращён к луне, такой же бледно-зелёной, как и свет прожекторов, и это стало единственным маленьким подарочком, который судьба преподнесла сегодня Хардову. Если только не дразнила. Второй смотрел в другую сторону: грозный взор пустых каменных глаз был направлен на шлюз № 1, следя за теми, кто желал появиться оттуда и войти в канал без его ведома. Может, такое случилось просто потому, что луна стояла в той стороне, а может, они с Тихоном все верно рассчитали, но… Гид снова обернулся ко входу в канал — лодка продвигалась всё медленнее, да и руль стал опять вырываться из рук мальчишки.
— Давайте, давайте, парни! — Хардов скосил взгляд на памятник и с трудом заставил себя говорить дальше: — Осталось чуть-чуть. Давай…
Голос гида всё же сорвался. Может, лишь слегка запершило в горле и возникла необходимость прокашляться. Хардов видел, что творилось в перекрестье бледно-зелёных лучей. Он подумал, что судьба, скорее всего, всё же дразнила их. Камертон внутри звучал громче: леденящий кошмар прокрался в кровь, заставляя её стыть в жилах.
— Давайте, парни!..
Прямо на глазах гида каменный Сталин начал медленно поворачиваться. Он оборачивал к ним лицо. Каменный вождь искал их.
* * *
(в туман, из которого нет…)
Фёдор всем телом навалился на руль, который вдруг ожил, налился огромной силой, направляя лодку прочь от входа в канал. Он слышал голос Хардова, «Давайте, парни!», и ещё он слышал поскуливание бородача-рулевого, который как-то странно привстал на коленях, покачиваясь из стороны в сторону, и смотрел на чужой берег.
«Прекрати! Перестань! Это всё из-за тебя!» — хотел было закричать на него Фёдор и понял, что, наверное, уже поздно. Возможно, бородач-рулевой был действительно виноват, но только что с чужого берега пришло властное повеление бросить руль и взглянуть на Второго.
Фёдор, сопротивляясь, посмотрел на памятник. Голова каменного Сталина словно притянула его, сделалась огромной, а потом юноша почувствовал, что сон и явь соединились. Потому что пустые каменные глаза вождя стали открываться. И в них плескался холодный свет. Именно эту голову, лежащую на илистом дне под мутными слоями воды, Фёдор видел в своём страшном сне накануне бегства из дома. Именно этот мёртвый свет был в открывшихся глазах, когда они искали его в липком ночном кошмаре. Свет становился всё интенсивнее, наливаясь какой-то неведомой жуткой жизнью, и как только взгляд каменной головы упадёт на их лодку…
(уже неважно, что будет потом. Безразлично)
Вдруг Фёдор почувствовал, как будто что-то вытащило его из липкой втягивающей воронки. Какая-то сильная рука. И что-то тёплое и
(радостное?)
надёжное словно коснулось его сердца. Этот мёртвый свет, две горящие точки глаз, заметно потускнел. Словно между лодкой и чужим берегом встала лёгкая полупрозрачная пелена защиты. Фёдор поднял голову.
Над ним летел Мунир, ворон гида Хардова. Нет, не совсем так. Мунир парил в далёкой вышине над лодкой, широко распахнув крылья. Слишком широко, и, наверное, никакая другая птица в мире не смогла бы сделать такое.
(Ты ведь знаешь, что Мунир не совсем птица) в туман, из которого нет…
«Вот кто сейчас спасает нас», — подумал Фёдор. Каким-то странным образом юноша понял, что крылья Мунира и были этой полупрозрачной защитной пеленой. Они словно истончились, вытягиваясь в разные стороны, крылья росли, пока не заслонили часть неба. Сам ворон стал уже маленькой точкой высоко над ними, а крылья растягивались и продолжали увеличиваться, превращаясь в подобие огромного зонтика, концы их уже почти коснулись воды. И этими невероятными крыльями, этой охватывающей сферой, ворон сейчас укрывал их. Мунир прятал лодку от ищущего взгляда Второго, заслонял её собой от внешней злобы реки и злобы ночи, позволяя сердцам людей передохнуть, забыть на минутку о неодолимом страхе и биться ровнее. И что-то в этой полупрозрачной пелене…
«Это любовь, я вижу её сияние!» — изумлённо проговорил внутри Фёдора восторженный и испуганный мальчик.
«Это то, что всё ещё не даёт этому миру сдохнуть», — произнёс внутри него гораздо более зрелый голос.
— Боже, я, наверное, схожу с ума от страха, — уныло и протяжно, будто находясь внутри своего собственного замедлившегося времени, пролепетал Фёдор. — Во мне спорят голоса.
«Не будь ребёнком, Тео, — одёрнул его зрелый голос. — Ты прекрасно знаешь, что не сходишь с ума. Ты прекрасно знаешь, что это».
Фёдор потряс головой. Никакие голоса внутри него не спорили. Была лишь эта странная надёжная тишина, эфемерное и давно утраченное ощущение материнской колыбели. Лодка теперь бежала по тёмной воде значительно веселее, на лицах людей читались испуг, но и благодарность; гребцы ритмично работали вёслами в такт какому-то новому звуку. Присутствовало в нём что-то очень интимное, и Фёдор вдруг сообразил, что слышит, как бьётся сердце ворона. Крылья Мунира скрыли оба берега, и единственным ориентиром в полупрозрачной пелене оставались смутные очертания башенок, выплывающих из ночи. До входа в канал было теперь не больше тридцати метров. Фёдор снова посмотрел наверх — по внешней стороне укрывшего их купола слепо скользили два бледно-зелёных смазанных пятна. «Это его взгляд, — понял юноша. — Его глаза».
— Давайте гребите! — неожиданно закричал Фёдор. — Быстрее, он ищет нас!
И тут же встретился с жарким взглядом Хардова. И сконфузился, не сразу определив, что прочитал в нём. Суровое удивление? Гнев? Возможно. Но и что-то ещё, чего юноша никогда не встречал прежде. Всё это было мимолётным, продолжалось не дольше секунды, а потом Хардов отвернулся, тревожно вглядываясь ввысь, в ту точку, которой стал его ворон.
— Гребите, гребите, — болезненно морщась, произнёс он. — Теперь уже недалеко.
А Фёдор всё ещё пытался понять, действительно ли он видел эту невероятную смесь в глазах гида, смесь ненависти, боли и… какой-то неуловимой нежности. А потом сердце его сжалось, потому что в вышине над ними прозвучал мучительный и совсем не похожий на карканье крик ворона. И тихий стон сорвался с губ гида.
— Гребите! — прохрипел Хардов. — Гребите, сукины дети, мой ворон сейчас умирает за нас.
Два бледно-зелёных пятна, блуждающих по куполу, становились всё ярче и всё более походили на прорывающиеся огни. До ближайшей по своему, левому, берегу башни, отмечающей вход в канал, было чуть больше двадцати метров. Фёдор выдохнул, сосредоточенные лица гребцов блестели от пота. Но люди старались: расстояние до невидимой линии, соединяющей по воде оба берега, ворота канала, ещё сократилось.
Девятнадцать метров — дружный взмах вёсел.
Семнадцать метров.
Не больше пятнадцати…
Мунир опять подал голос, и по телу Фёдора прошла судорожная дрожь, столько боли было в крике истязаемого существа, в крике, так похожем на плач маленького ребёнка.
— Осталось десять метров! — отчаянно заорал юноша.
У него всегда был хороший глазомер, и он знал, что сейчас не ошибается. И плевать, как там на него смотрит Хардов. — Девять. Восемь…
Плевать! Фёдор не задавался вопросом, с чего это ему вздумалось кричать и таким образом подбадривать команду.
И уж тем более как это выглядит со стороны. Он набрал полные лёгкие воздуха, чтобы крикнуть «семь», и…
(Скремлин сейчас умрёт. Взгляд Второго прожжёт его)
осёкся. С ним опять кто-то пытается говорить? Говорить о чём-то тёмном. Кто? И почему «скремлин»? Ворон Хардова — скремлин?!
— Шесть, — сдавленно выдавил юноша.
И увидел.
Два блуждающих пятна налились багрянцем, возможно, это всё ещё и мёртвый свет, но он больше не был холодным.
В нём кипела неутомимая ярость. Два блуждающих пятна начали буквально прожигать купол, а потом двинулись по нему, оставляя оплавленные полоски, как на ткани или на горелой бумаге. Мунир захлёбывался в криках невыносимой боли.
— Пять, — сказал Фёдор и почему-то добавил: — Пожалуйста… Четыре. А ну, гребите! Не смейте бросать вёсла! Гребите…
Огни прорвались. Может быть, юноше это только показалось, но прямо перед собой он увидел стену мёртвого огня, всполохи и багряные завихрения, плескавшиеся яростной злобой, и две горящие чёрные точки в глубине, которые заглянули внутрь него, в самое сокровенное и… на миг отпрянули.
— Не смейте, — произнёс Фёдор, с трудом ворочая языком. — Три-и.
Стена огня начала заливать всё, что находилось внутри купола. Столб пламени нёсся прямо на лодку.
«Два», — промелькнуло в голове Фёдора, но он не смог бы поручиться, что сказал это вслух. С какой-то странной апатией пришла мысль: «Нет, этот пламень не сожжёт нас.
И не убьёт. Возможно, просто изменит. И, возможно, настолько, что мы станем завидовать мёртвым». И одновременно в яркой вспышке юноша увидел фигуру Хардова, которая показалась ему гораздо более реальной, единственной реальной по сравнению со всем, что творилось вокруг. Гид стоял, вознеся к небу руки, и полы его плаща широко распахнулись.
— Мунир! Я здесь! — зычно прокричал Хардов, как будто происходящее не оказывало на него ни малейшего влияния. — Я здесь, старый друг.
В следующий миг то ли периферийным зрением, то ли краешком сознания Фёдор увидел Мунира, чьё пике больше походило на неконтролируемое падение, и понял, что нос лодки только что пересёк невидимую линию ворот.
«Как жаль, — отстранённо подумал юноша, — а ведь мы почти успели».
Фёдор сидел на самой корме, и поэтому ему открылось ещё многое. Он видел, что лодка движется по инерции, и видел мёртвый свет, который теперь, если ему суждено выжить, никогда не забудет, а ещё лица команды, на которых запечатлелось что-то, что он, напротив, мечтал бы забыть навсегда. Он видел смеющегося бородача-рулевого, который так и остался на коленях, и видел (неожиданно!) глаза Евы, появившейся в проёме каюты: девушка что-то кричала. А потом Фёдор успел увидеть, как Хардов подхватил своего ворона, скорее всего умирающего, судорожно бьющего крыльями об воздух, и как прижал его к сердцу. И снова глаза Евы.
«Как удивительно», — мелькнула у Фёдора какая-то неоформившаяся мысль.
И всё закончилось.
Послышался спокойный плеск воды о борт. Над ними стояла тихая звёздная ночь. Лодка вошла в канал.
Глава 5
Лодка на тёмной воде
1
Фёдор сжался в комок, не понимая, что происходит. Внезапная и оглушительная тишина и покой словно парализовали его. Юноша передёрнул плечами. Потом осторожно посмотрел по сторонам. И обернулся.
Вся поверхность Московского моря выглядела совершенно умиротворённой. Лунная дорожка теперь бежала по водной глади в сторону своего берега, будто указывая на дом, который всё ещё оставался так рядом. Фёдор ощутил необходимость сглотнуть, дабы оживить высохшее горло. И ещё протереть глаза, удостовериться в открывшейся картине: никаких обезумевших прожекторов и столбов бледно-зелёного света, ни мёртвого свечения, ни яростного пламени, и никакого «Второго», восставшего из древней тьмы, что скрывает мгла. Чужой берег тихо спал, укутанный туманом, сползшим прямо к воде.
— Тихо, — изумлённо прошептал Фёдор.
Это казалось невероятным и больше всего было похоже на внезапное пробуждение, кладущее предел ночному кошмару.
— Мы в канале, Тео. Всё осталось позади, — с какой-то будничной усталостью произнёс Кальян. Отёр испарину.
И улыбнулся. — Правда, такое впервые… А ты молодец. Только можешь больше не вцепляться в руль, как в молоденькую невесту, сбежавшую из-под венца.
Послышались тихие и такие же усталые смешки: команда приветствовала своего капитана. Разгоняя остатки страха, что цеплялись за клочья тумана, команда одобрительными смешками приветствовала и неоплошавшего юнгу, но, наверное, больше всего этого немногословного и опасного человека, чьи глаза и уста скрывали больше, чем говорили, и его удивительную птицу, которая сейчас спасла их. О скремлинах на канале болтали много всякого, но мало кому доводилось видеть этих загадочных созданий вживую, и вот один из слухов на счастье и невиданную удачу всех, кто был в лодке, подтвердился: скремлины действительно дружили с гидами.
— Невесту… — чуть смутившись, повторил Фёдор и с недоумением уставился на свои руки.
Он всё ещё с силой сжимал руль. Левая ладонь горела, юноша поднял её к лицу и понял, что сорвал мозоль под основанием безымянного пальца.
— Ты же говоришь, что вода не пускает его, — почему-то сказал Фёдор, указывая Кальяну на туман по правой стороне.
По мере удаления от ворот туман светлел и густыми клочьями, похожими на клубы пара, стелился по поверхности воды.
— Так и есть, — подтвердил капитан. — Сползает лишь на несколько метров от берега. Да и то лишь по ночам. К утру его раздувает.
Фёдор снова бросил взгляд, наверное, прощальный, на Московское море — единственным доказательством того, что они только что прошли там, оказались расстрелянные Хардовым фонари. Памятник Ленину, лишённый своей торжественной подсветки, одиноко чернел в ночном небе за поворотом русла.
— Включить освещение, — распорядился Кальян окрепшим голосом. — Теперь уже можно.
Фёдор не особо удивился тому, как быстро и чётко был исполнен приказ капитана — двое гребцов по левому борту покинули свои места и растопили масляные фонари на носу и корме. «Они давно ходят по каналу, — подумал юноша. — Расчёты привычные, команда очень быстро становится слаженной. Лишь бедолага рулевой выпал из общего ритма».
Кальян тоже видел это и с сожалением вздохнул: бородач по-прежнему стоял на коленях, что-то бормотал себе под нос, счастливо скалясь.
— Пройдём вперёд четыре километра, — громко сказал Кальян, и Фёдору показалось, что он больше обращается не к команде, а к Хардову, который так и стоял молча у мачты, прижимая к себе ворона. — Там канал пересекает река Сестра. Это хорошее место. Там и отдохнём.
После всего пережитого команда действительно нуждалась в отдыхе, пусть и в коротком — перевести дух. Бородач-рулевой вдруг замер. С несколько нелепой неестественностью склонив голову, он подозрительно уставился на Хардова.
— Это что ж, твоя птичка, что ль, спасла нас, командир? — ядовито поинтересовался он. — Так, что ль?!
Лицо Кальяна застыло. Но Хардов лишь с сожалением посмотрел на рулевого и промолчал. «Чего испугался капитан? — подумал Фёдор. — Что Хардов поступит с рулевым так же, как он поступил с прожекторами? Но ведь это не так. Гиды они… другие. У них… вроде кодекса…» Но откуда у него эта уверенность? Что он вообще знает о гидах?
(знает)
Только то, о чём болтают в Дубне. Но там много о чём болтают. А ведь батя всегда учил его,
(батя?!)
что говорящий — не знает, знающий — не говорит.
Рулевой опять принялся раскачиваться на коленях из стороны в сторону. И тогда Хардов наконец подал голос.
— Да, река Сестра — это действительно хорошее место, — как-то странно произнёс он. Голос его был хриплым, и казалось, что гид вкладывает в свою фразу ещё какой-то, одному ему понятный смысл. — Нам и вправду придётся там отдохнуть. Боюсь, что нет другого выхода. — Он бережно погладил ворона и тихо прошептал: — Ничего, потерпи, старый друг, чуть-чуть осталось, только, пожалуйста, потерпи.
Мунир слабо встрепенулся, а потом его голова поникла. Фёдор увидел, что в обоих крыльях ворона зияют страшные прожженные раны.
2
Какое-то время шли на вёслах молча. Команда, в предвосхищении обещанного отдыха, работала усердно, и по мере удаления от Иваньковского водохранилища с каждым взмахом вёсел людям становилось всё спокойней. Возможно, злая воля Стража канала вновь уснула, но, скорее всего, по какой-то причине просто не дотягивалась сюда.
И это был один из вопросов, множества вопросов, что терзали сейчас Фёдора. Однако он молчал, помня о своём обещании не задавать вопросов, хотя делать это становилось всё труднее. Слишком непохожим на привычные представления оказался мир всего в двух шагах от дома, слишком многие вещи явили себя с совершенно неожиданной стороны.
«Эта девчонка, что она здесь делает? — думал Фёдор. — Неужели весь этот опасный и так хорошо оплачиваемый рейс предпринят ради неё одной?»
Фёдор узнал её. Ещё там, при посадке у памятника Ленину; трудно не узнать. И ещё тогда был крайне изумлён её появлением. Дочка Щедрина, профессорская дочка. Белая кость, из другой жизни. О существовании Фёдора и ему подобных она вряд ли даже догадывалась. Просторные особняки под сенью реликтовых сосен, светские балы (говорят, подобные ей даже обучены не то что с детства есть ножом и вилкой, а непонятным и совершенно бесполезным иностранным языкам), они даже ежегодные ярмарки своим посещением не жалуют, ниже их достоинства, что ль, это всё? Правда, о её папаше в Дубне говорили с уважением, вроде как на нём всё и держится, хоть старик и не от мира сего.
Что ж они при их связях и возможностях не воспользовались более безопасным способом путешествия? Что ты, Ева Щедрина, дочь одного из самых влиятельных людей в городе, делаешь на канале после заката? В обществе скитальца-гида и отчаянных контрабандистов, что явно не в ладах с законом? Что за секрет спрятан в твоём дорожном бауле? Что за секрет под покровом ночи ты унесла с собой из Дубны?
«У больших людей — большие тайны», — сказал как-то батя. Это так, всё верно. Но теперь это вроде как становится их совместной тайной, так? Или не становится? Или его это не касается? Всё запутано, и…
Вопросы, вопросы.
«Рано или поздно многие вещи прояснятся сами собой», — сказал себе Фёдор. И тут же подумал, что именно так люди себя и обманывают. И ещё подумал, что при всей интриге вовсе не Ева вызывает у него самое большое беспокойство.
Так как новой команды не поступало, Фёдор остался на руле. Он был рад, что для него нашлось дело поважнее мальчика на побегушках. Когда же, поравнявшись с переправой на Конаково, Кальян скомандовал ему:
— Юнга, правь ближе к своему берегу. У нас нет дел к паромщику. Ведь так, парни?!
А команда ответила дружным:
— Так точно, капитан!
Фёдор понял, что у лодки, хоть и на время, появился новый рулевой.
Это был невиданный взлёт карьеры. По скупым рассказам и картам бати Фёдор досконально изучил каждый бьёф, отрезок канала, знал о шлюзах и насосных станциях, знал о дамбах, и под каким углом наклона бежит на каждом участке волжская вода к Москве, взбираясь больше чем на сто шестьдесят метров, высшую точку Клинско-Дмитровской гряды, а потом спускаясь вниз, знал о коварном норове блуждающих водоворотов, о которых строители канала ничего не ведали и которые пришли вместе с туманом, знал он и о проклятом корабле у Бугай-Зерцаловских болот, полуразрушенном пассажирском пароходе с огромными трубами и гребными колёсами по бокам.
Пароход ещё застал великую эпоху строителей канала. А потом был брошен у берега многие годы назад, правда, порой загадочным образом менял место своей последней швартовки, появляясь в самых неожиданных местах. А иногда, к счастью, крайне редко, выглядел как новенький — в такие дни его стоило остерегаться особо и обходить как можно дальше. Говорили, что некоторые из гидов могут гадать по поведению проклятого корабля, как на картах, рунах или кроличьем сердце, но подтверждений тому не было. О гидах вообще наверняка известно мало, а Фёдор предпочитал не особо полагаться на слухи.
Да, вопросов было множество, но юноша понимал, что ему не оставалось другого выхода, кроме как проявить терпение. Сейчас он с какой-то наплывающей, увеличивающейся радостью вспомнил ещё один из рассказов бати. Мол, когда проходишь над рекой Сестрой, спрятанной в трубы под каналом, на душе действительно становится легко и весело. Настолько, что гребцы в этом месте обычно принимались петь, и Фёдор помнил слова их лихой песни.
Но всё это касалось дня. Сейчас же стояла ночь, тихая и звёздная, и юноша не очень представлял, чего заслуживают сейчас эти его знания. Лишь кое-какие подтверждения своим прежним догадкам он всё-таки получал. Фёдор всегда считал, что так называемые плохие дни, когда гребцы не выходят на волну, были связаны со звёздными дождями по ночам. Уж почему — неизвестно, другой вопрос, но самые элементарные наблюдения приводили его к таким выводам. Вот и сейчас луна успела скрыться, и весь открывшийся полог неба представлял собой прекрасный и неугомонный звездопад.
Это было волшебней и восхитительней, чем самый богатый ярмарочный салют: звёздочки перечёркивали небо, носились друг за дружкой под мерцающими взглядами их более уравновешенных подруг, иногда распускались гирляндами, а иногда падали совсем рядом, казалось, лишь протяни руку. Эта завораживающая картина, да ещё под мерный плеск вёсел, манила, будоражила, вселяла в сердце юноши беспечную радость, за которой стояла тихая печаль. За которой, видимо, скрывалась радость ещё большая, а за ней печаль уже просто невыразимая, не оставляющая человеку самой возможности примириться со своим местом на этой земле; а за ней всё же радость, ослепительная и оголтелая, в ней и расцветали ответами все вопросы, потому что через миг они уже становились не важны.
И как же удивительно всё получалось: за одним скрывалось другое, перетекало в него, менялось своей противоположностью, и казалось вовсе непонятным, невозможным, почему за прикосновение к такой невероятной красоте выставлена столь высокая цена. Неужели то, что желает нам погибели, может быть так прекрасно? Ведь оно очевидно прекрасно, неужели мы настолько плохи? Но ведь что-то в нас в состоянии восхищаться этим, что-то в нас сотворено из того же звёздного вещества…
— Ты что, никогда не видел, как они играют?
Фёдор закрыл рот. По всей вероятности, даже захлопнул с характерным звуком. Девичий голос вернул его с ночных небес в лодку. Перед ним стояла Ева, профессорская дочка, белая кость, единственная пассажирка их судна. Честно говоря, слухи о её красоте Фёдора совсем не волновали — подумаешь, ей ой как далеко до его Вероники, худовата больно, да и вообще…
— Тебе-то какое дело? — Фёдор исподлобья посмотрел на девушку. Он постарался, чтобы его голос прозвучал независимо, но, возможно, несколько с этим перегнул.
— Никакого, — девушка пожала плечами. — Просто я хотела сказать, что ты молодец. Но вовсе не предполагала, что ещё и грубиян.
Фёдор почувствовал, как его начинает заливать смущение. Он совсем не собирался её обижать, если и вышло, то случайно. Однако… Эта манерная принцесса видела сейчас, как он, словно болван, с отвисшей челюстью пялился на небо. Судя по улыбке, её это зрелище позабавило, жаль только, что слюна с уголка рта не свисала. Конечно, чего б не поиграть с городским дурачком?!
— Прости, — промолвил Фёдор. И вдруг… Он совершенно не понял, как и почему выпалил следующую фразу: — Просто у меня уже есть девушка.
— Чего? — изумилась Ева. — Ну, ты даёшь… Вот до этого мне точно нет никакого дела.
Теперь Фёдор смотрел на неё, хлопая глазами, уши у него уже, наверное, покраснели. Ну что он за дурак?
— Я хотел сказать…
— Ты уже сказал достаточно, — остановила его Ева.
Собралась повернуться, чтобы уйти, и в этот момент лёгкий холодок коснулся лица Фёдора. И на мгновение, всего лишь короткое мгновение, но от этой спокойной радости не осталось и следа. В горле юноши что-то перевернулось с хриплым свистом, когда он поднимал руку, выставив вперёд указательный палец, и перед глазами промелькнули, смешавшись, белый кролик в дубнинском трактире, когда зверёк зашипел на него, приподняв губу и обнажая мелкие, но неестественно острые зубы, глаза Евы, когда она ему кричала что-то несколько минут назад, ищущий взор Второго и ещё что-то, чего ему очень не хотелось бы видеть, но о чём он непостижимым образом знает, и… всё прошло. Ночь снова казалась тихой, умиротворённой. Лишь этот холодок пока не развеялся окончательно, он все еще витал где-то там, над тёмной водой.
— Что с тобой? — Ева, склонив голову, смотрела на юношу. Она готова была предположить, что тот всё ещё издевается над ней. Если это так, то он, конечно, конченый придурок! — но даже масляного света фонарей оказалось достаточно, чтобы заметить, как юноша побледнел.
— Там, — прошептал Фёдор, указывая по курсу лодки, — впереди.
Но вот и холодок развеялся окончательно. Батя прав, и Кальян, и Хардов — река Сестра действительно хорошее место, все они правы, и по мере приближения к реке никакие ночные страхи не могли задерживаться здесь надолго. Юноша чуть отклонился в сторону, чтобы гребцы не загораживали ему то, что он заметил.
— Капитан, — ровным голосом позвал Фёдор, — по-моему, мы здесь не одни.
Теперь и Кальян присоединился к Еве, пытавшейся разглядеть, на что указывал Фёдор. Здоровяк, приподняв весло, развернулся вполоборота по ходу движения судна; какое-то время он молчал, потом покачал головой:
— Ничего не вижу.
— Может быть, какое-то бревно, — произнесла Ева. — Нет, не могу различить.
— Мальчишка прав, — услышал Фёдор. Хардов пристально глядел на него. — Там лодка на тёмной воде.
Юноша потупил взор: гид по-прежнему стоял у мачты спиной к ходу движения. Мунир на его руках успокоился, прикрытый полой плаща, и Фёдор готов был поклясться, что Хардов даже не оборачивал голову.
— Я знаю этого попрошайку, — сообщил гид. Его рука бережно коснулась головы ворона и двинулась дальше, пройдя над крыльями. — Только не вступайте с ним в разговоры, ему лучше не знать ваших голосов. Предоставьте дело вести мне.
Фёдор проследил за рукой Хардова. И вдруг понял, что гид не просто гладит птицу, движения были несколько иные. «Ты лечишь своего ворона, — подумал юноша, — так? Помогаешь ему продержаться до того места, где Муниру будет оказана настоящая помощь? Кто же ты такой на самом деле, Хардов? И если на канале есть место, способное излечивать, почему же ты не хочешь там отдохнуть? Может, ты оттуда, может, там твой дом, из которого ты когда-то ушёл, как сейчас я бросил свою милую Дубну?»
Опять вопросы. Их становится всё больше. И от них становится всё беспокойней.
— Ева, вернись в каюту, — услышал Фёдор голос Хардова. — Пока я переговорю с одним старым знакомым. — Девушка собралась что-то возразить, но Хардов, теперь уже мягко, остановил её. — Так надо, милая.
Девушка подчинилась, одарив Фёдора напоследок ещё одной похвалой:
— А у тебя хорошее зрение.
Он посмотрел ей вслед: походный мужской плащ очень шёл Еве, и Фёдор внезапно отчётливо осознал, что чем больше он пытается получить ответов, тем всё больше будет становиться вопросов. Их количество будет возрастать, пока они не утопят его. Надо отказаться от этого. Ведь вот как всё просто. Приглушить в себе этот беспокойный вопросительный знак. Это главное, первое, что он должен сделать, с чего начать. Знающий не говорит. Конечно, это так. Невозможно отвечать на каждый вопрос,
(даже про голоса, что говорят в нём?)
они будут ветвиться, как дерево, дробиться, как крупа. И лишь отступив от этого, получишь надежду увидеть всю картину в целом. И тогда многие дробные вопросы просто перестанут тебя волновать, самоустранятся. Это главное и первое, что он должен сделать,
(даже голоса?)
что он должен принять, как принимает сейчас эту звёздную ночь. И туман, окутавший правый берег. То ли хищную мглу, то ли диковинную тайну. А может, и то и другое.
3
— Суши вёсла, — распорядился Хардов.
Посреди канала, поперёк рукотворного русла покачивалась крохотная плоскодонка. Её осадка была настолько мала, что казалось, лодочка вот-вот черпнёт воды.
— О, мой старый любезный друг Хардов! — послышался визгливый голосок. — Не зря я вышел на реку в такой час. Ох, не зря.
Команда в изумлении молчала, а Фёдор с любопытством пытался разглядеть забавного взлохмаченного старикашку в замусоленном пиджачке, надетом поверх видавшего виды свитера грубой вязки. У старикашки оказались кустистые брови, причём одна выше другой, прорезанной пополам то ли шрамом, то ли отсутствием волос, и… Фёдор даже не сразу поверил своим глазам, решив, что померещилось в скупом освещении.
В уши старикашки были кокетливо вдеты аккуратные серёжки, но самым невероятным оказался множественный пирсинг в носу, бровях и губах, которыми тот решил украсить свою изрядно пропитую физиономию. Фёдор слышал о новом повальном увлечении — дмитровские модницы буквально помешались на пирсинге, — хотя до Дубны оно так и не докатилось. Но чтобы древнему деду вздумалось следовать довольно сомнительной моде — такое юноша видел впервые.
Лодки не стали пришвартовывать друг к другу, но модник-старикашка неплохо справлялся при помощи однолопастного весла, и плоскодонка встала рядом как вкопанная.
— Дай, думаю, выйду на волну в полночный час, — продолжал тараторить старикашка. — Может, удастся какая коммерция. И тут такая удача: два скремлина, и от обоих пользы с гулькин нос, гребцы и целых два воина. — Дед в подобострастном восхищении поднял два растопыренных пальца. — Контрабанда, словом. А у старика трубы горят. Ой, горя-я-т!
— Привет, Хароныч, — усмехнулся гид. — А я смотрю, ты всё так же слаб на язык.
— Годы уже не те, — пожаловался дед и тут же захихикал, словно выдал какую-то удачную шутку. — Ну, что, скремлинов берёшь, серебряные монеты приготовил?
— Не сейчас, — отозвался Хардов.
— У меня молоденькие скремлины, совсем ещё малыши, с незамутнёнными глазами.
— Обойдусь своим, — тихо сказал гид.
— Понимаю, понимаю, — дед участливо закивал, — но бедолага Мунир-то, гляжу, захворал. И не скоро оправится, если оправится. И как же ты шлюзы-то собираешься проходить? Без скремлинов-то как смотреть в тумане?
— С Муниром всё в порядке.
— Ой, да-да-да… И мне птичку жалко! На речную деву рассчитываешь? Понимаю. Недолюбливает меня старая ведьма, но говорю не поэтому: даже если её знахарство удастся и снимет она мёртвый сглаз, не скоро бедолага Мунир сможет тебе помочь.
— Там и поглядим.
— Тебе что, жаль серебряных монет? Деду на опохмел?
— Ты же знаешь, что это не так.
— Ой, горят трубы… Выпить-то дашь?
— Конечно. — Хардов кивнул. Затем нагнулся и осторожно, чтобы не потревожить ворона, поднял увесистые кожаные меха. — Когда разойдёмся.
— И то верно: пьянство и коммерция несовместимы. — Старикашка жадно посмотрел на флягу и принялся крутить пуговицу на пиджаке. — Не сидр-то хоть? — сглотнув, поинтересовался он, а в глазах его мелькнуло что-то от побитого пса.
— Обижаешь: неочищенный яблочный первач, как ты любишь, — заверил деда гид.
Старикашка облегчённо вздохнул, ласково погладив серьгу на правом ухе и пробубнив: «Серебряные монеты, серебряные монеты…»
— Хороший ты человек, Хардов! — громко возвестил он.
— Сомневаюсь, — усмехнулся гид.
— Человечище! Но долг твой растёт.
— Ещё не пришёл срок.
— Да я не о том, — отмахнулся старикашка. — Просто если Хардов в полночный час вышел на канал, да ещё самогону деду поднёс, то будь уверен и к доктору не ходи — долг его ещё возрастёт.
— Постараюсь этого избежать.
— Зарекалась лиса кур не есть… Хардов, они уже ищут его. Только пока не знают где.
— В курсе. Видел неделю назад, как кто-то переправлялся через канал с белым кроликом. Так, Хароныч?
— Ну-у… — замялся дед.
— А потом зверь этот всплыл в одном из трактиров Дубны. Твоя зверюга?
— Они принесли мне серебряных монет.
— Не сомневаюсь. Правда, лодки были надувные, с электродвигателями. А они у меня все сосчитаны. Две такие у гидов, но они нам ни к чему. Остальные у водной полиции. И в каждой лодке, скажу тебе, любопытные зверушки.
— Я хотел предупредить. Да запил. Коммерция, будь она неладна… А потом с ними был один из ваших.
— Шатун? Боюсь, он больше не из наших.
— Мне почём знать. Я не вмешиваюсь. И сейчас не стану. Не продажный. Понял, да?!
Хардов серьёзно кивнул.
— Хотя про твою лодку уже побольше твоего понял, — уверил старикашка.
— И в этом я не сомневаюсь, — сказал Хардов.
Оба замолчали и смотрели друг на друга, а Фёдору показалось, конечно, только показалось, что между ними происходит какой-то непонятный молчаливый диалог.
— Ну, и чего вышло с белым кроликом? — первым прервал молчание хозяин плоскодонки. — Укусил, что ль, кого? — и вновь довольно захихикал.
Создавалось впечатление, что его своеобразный юмор понятен лишь ему одному, но старикашку этот факт вполне устраивает.
— Он чуть меня не укусил, — решил объяснить Фёдор.
До этого самого момента юноша, как и все в лодке, за исключением Хардова, вообще не понимал, о чём речь. Из всего этого ненормального диалога Фёдор вынес только то, что старикашка живо интересуется серебряными деньгами и его мучает дикое похмелье, поэтому он был рад внести хоть какое-то понимание в эту бессмыслицу. — Ещё вчера, в трактире. Чуть не цапнул.
Дальше произошло нечто ещё более странное. Старикашка, как-то ловко извернувшись, мгновенно оказался перед Фёдором. И словно даже немного вырос. И глаза его словно несколько потемнели, а в нос юноше ударил запах сильнейшего перегара со смесью ещё чего-то… Чего-то незнакомого, но с чем, вы уверены, вам бы ни за что не хотелось познакомиться.
— У него есть серебряные монеты?! — завопил старикашка. — А?! Есть?! Вижу, что есть!
«Псих… — мелькнуло в голове у Фёдора. — Допился до белой горячки».
— Есть серебряные монеты?!
— Нет, — быстро сказал Хардов. — У него нет! — и встал между старикашкой и Фёдором. В скорости реакции гид не уступал безумному деду и уже протягивал тому флягу с яблочным самогоном. — На, держи, отведай-ка лучше пока труда живых.
Дед, мгновенно забыв о своей заинтересованности юношей, жадно припал к горлу фляги.
— Всё. Отходим, — велел Хардов капитану. — Быстро.
Гребцам не пришлось повторять дважды. Слаженно заработали вёсла, и лодка «Скремлин II» аккуратно отошла от плоскодонки, не потревожив увлечённо поглощающего яблочный самогон старикашку, словно все опасались, что тот выкинет ещё какой фортель.
Изумление команды уже сменялось даже не догадками, а чем-то беспокойным и неуютным, похожим на тёмное понимание, и люди, с радостью взявшиеся за вёсла, спешили сейчас от всего этого прочь. Скорость, с которой разошлись обе лодки, впечатлила и озадачила Фёдора, ведь хозяин плоскодонки даже не притронулся к веслу, а всё так же стоял и хлебал из кожаных мехов. Но в паре десятков метров от его лодочки люди снова вспомнили о приближении реки Сестры. Вот и Кальян скупо улыбнулся Фёдору, хотя в его глазах мелькнул отсвет потаённой тревоги.
— Правь на середину, — велел он чуть надтреснутым голосом.
Только теперь до Фёдора дошло, что пока они тут стояли и вели переговоры, их сносило к чужому берегу. Дыхание близкого тумана оказалось холодным, но, возможно, это лишь померещилось с испугу. Юноша приналёг на руль, взяв, наверное, слишком резкий крен, а затем быстро обернулся. Странный дед всё так же стоял посреди своей лодочки, занятый угощением Хардова, и совершенно не обращал внимания, что плоскодонку уже обступили рваные дымчатые клочья и что её сносит всё дальше в туман. А потом лодка и лодочник исчезли, мгла поглотила их.
«Это что, существо из тумана?» — промелькнуло в голове у Фёдора, а потом он услышал голос капитана, показавшийся ему ещё более надтреснутым:
— Хардов… — Здоровяк говорил тихо, словно что-то в горле мешало ему, и всё ещё пристально смотрел на то место, где скрылась плоскодонка. — Это был?..
— Т-с-с, — остановил его гид. — Не говори о нём здесь. Он ещё недалеко.
Матвей как-то зябко передёрнул плечами, став на миг похожим на огромного младенца, а Хардов перевёл взгляд на Фёдора и ровным голосом, в котором почти не чувствовалось напряжения, сообщил:
— Юнга, если ты ещё раз ослушаешься моего слова, я ссажу тебя с лодки вместе с рулевым, как только мы окажемся в безопасном месте.
Фёдор закусил губу, а Кальян быстрым, который вот-вот мог бы стать тяжёлым, взглядом одарил Хардова. Но гид вовсе не собирался нарушать права капитана и тихо пояснил:
— Я не осуждаю его за то, что произошло. И не осуждаю тебя, Матвей. Я знаю, на что способен канал. — Хардов сделал паузу, а Фёдор подумал, что тот впервые обратился к капитану по имени. — Наверное, он хороший рулевой. Но я ссажу его при первом же удобном случае. Дальше он опасен и для себя, и для нас.
И словно в подтверждение его слов до них из тумана долетел хмельной голосок:
— Хардов, хорош твой самогон, бли-и-н. Подлечил ты деда. Но западло этого мира заключается в том, что в нём не обойтись без старой доброй коммерции. Ты знаешь, где и как меня искать.
Видимо, правота слов гида заключалась не только в том, что хозяин плоскодонки ещё недалеко. Потому что голос старикашки неожиданно окреп и будто стал объёмней. И в тот момент, когда в серой дымчатой глубине полыхнуло холодным светом и стали различимы тени, таящиеся в тумане, в том числе и неизмеримо возросшая тень странного деда, потерявшего все атрибуты забавности, они услышали его прощальное напутствие:
— Хардов, не тяни с этим. Тебе не справиться без серебряных монет. Многие мечтали, но никому не удавалось.
Глава 6
В гостях у Сестры
1
Далее шли на вёслах молча. Но молчание не было тягостным, напротив, тихая спокойная радость стала наполнять сердца людей, и им всё труднее стало сдерживать улыбки. Даже бородач-рулевой затих, и огонёк безумия, пусть и на время, покинул его глаза. Туман по правому берегу всё светлел, хотя над головами стояла ясная звёздная ночь. Только сейчас до Фёдора дошло, что Кальян так и не познакомил его с командой, слишком спешно они покинули Дубну, слишком много всего успело произойти. Но сейчас время словно возвращалось к своему привычному течению. Юноша оставался на руле и с удовольствием вытянул уставшие ноги.
— Правильно, пацан, отдохни, — услышал он.
Второй по левому борту гребец приветливо смотрел на Фёдора:
— Мы теперь и без тебя справимся, а ты отдохни.
Был он крепким рослым альбиносом, и Фёдору показалось, что Хардов обменивался с ним короткими понимающими взглядами чаще, чем с остальной командой. Наверное, они были знакомы прежде, да только это всё не важно. Потому что присутствовала в тоне альбиноса какая-то тёплая забота, так разговаривал с юношей даже не батя, а милая матушка, и Фёдор лишь смущённо улыбнулся в ответ.
«Это река Сестра, — понял он. — До неё теперь совсем рукой подать».
Вдруг с носа кто-то тихонечко затянул:
На лианах чуть колышутся колибри,
И раскатисто гудит индийский гонг…
Альбинос поддержал певца:
В этих джунглях мне так странно
Целовать тебя, гитана,
Ожидая нападенья анаконд…
И вот уже вся команда с неожиданной удалью подхватила припев песни, отбивая себе такт взмахами вёсел:
Дай мне свои губы цвета бронзы,
Цвета окровавленного солнца!
Фёдор знал слова этой песни, хотя не понимал половины того, что они значат.
Ты тоскуешь по коктейлям и проспектам,
Но к чему тебе убожеский уют?
Здесь опасно, здесь прекрасно, и совсем ещё не ясно,
Нас отравят, четвертуют иль сожрут.
Дай мне свои губы цвета бронзы,
Цвета окровавленного солнца!
Даже на губах Хардова появилась еле заметная улыбка, когда команда дружно подхватила припев. Лишь бородач-рулевой, морщась, вслушивался в слова старинной песни, словно пытался вспомнить что-то ускользающее.
Здесь тревожно завывают обезьяны,
И покоя нет от мух и дикарей.
Я ласкаю твоё тело, и отравленные стрелы
Отклоняют завитки твоих кудрей.
Фёдор подозревал, что и гребцам невдомёк многое из того, о чём они поют. Эта песня, наверное, была как артефакт великой ушедшей эпохи, как и другие артефакты, которые иногда привозили купцы, чьё предназначение стёрлось из памяти людей. И потом батя рассказывал, что нигде больше — ни в Дубне, ни в других местах — гребцы не пели этой песни, — застольными-то были другие! — лишь здесь, проходя реку Сестру.
Крокодилы неподвижны, словно бархат,
И устало, и уныло стонет лес.
Но признайся, что ты рада, что любовь на Рио-Гранде
Элегантней, чем последний «мерседес».
Слова были странными, ускользающими от понимания, может быть, даже тёмными, но прекрасными. Они напоминали Фёдору то, что он пережил недавно, глядя на звездопад. Возможно, эта песня — и артефакт ушедшей эпохи, но что-то говорило Фёдору, что она намного больше, что она часть той тайны, которая вот-вот откроется юноше.
Дай мне свои губы цвета бронзы,
Цвета окровавленного солнца!
«Боже! Как же прекрасен мир, в который есть возможность возвращения», — мелькнула в голове у юноши совсем уж шальная мысль. Словно в полузабытье восторга Фёдор увидел, как Хардов поднёс к губам какой-то манок и беззвучно подул в него. И тут же к голосам команды присоединилось множество других голосов. Целый радостный хор в ожившей ночи пел теперь:
Дай мне свои губы цвета бронзы,
Цвета окровавленного солнца…
А Фёдор и сам не понял, почему он стал править лодку к правому берегу. В туман,
(дай мне свои губы цвета бронзы)
который теперь не был просто туманом. В нём появились цвета, яркие и чистые, он забурлил колоритом, как будто лодка шла через хвост радуги. И стало светло, куда-то подевалась ночь, и Фёдор увидел, что игривый туман, заблестевший, как утренний морозный снег, сложился в женское лицо невообразимой красоты. Это Огромное лицо не испугало юношу, скорее наоборот, что-то в его сердце потянулось к нему, и ощущение открывающейся тайны стало ещё острее, а лицо уже растаяло. Лодка скользила по чистой прозрачной воде, а потом туман закончился. И приглушённый хор, певший про «губы цвета бронзы», остался где-то позади. Люди молчали, поражённые в самое сердце радостью, которую никто из них не переживал прежде. И красотой открывшейся картины.
Вокруг были зелёные холмы, покрытые сочной травой, и с них ниспадали пенные водопады. Воздух звенел такой дивной прозрачностью, что, казалось, можно было задохнуться и сейчас заложит уши. «Вот почему я подумал про радугу, — решил Фёдор, глядя на весело падающую воду, в брызгах которой и вправду застряли кусочки радуги. — Какая красота!»
Река вела к тихой заводи между холмами, и юноше показалось, что впереди, на далёком берегу он различил облачённую в белое женскую фигурку.
— Хардов, где мы? — тихо и изумлённо произнёс Кальян. — Куда делась ночь? Что это за место?
— Река Сестра, — сказал гид. В его голосе был покой, который нарушал лишь лёгкий оттенок мечтательности. — Это самое светлое место на канале.
Кальян помолчал. Потом всё же спросил:
— Но как? Река Сестра убрана в трубы. Я ведь много раз проходил здесь. И потом… всего в двух шагах от… Второго. Совсем рядом.
— Именно так. И хоть визит сюда нарушает все мои планы, смотри, капитан Кальян, на это диво. Смотри и запоминай.
Кальян, казалось, раздумывает, глядя по сторонам. Наконец, он страстно проговорил:
— Как же может нарушать что-либо такая благодать?
— Благодать, говоришь? — улыбнулся Хардов, и снова непривычным оттенком мечтательности полоснуло из его глаз. — Ты прав. Но время здесь течёт по-другому. И я не знаю, сколько его пройдёт — минуты, дни, недели, — прежде чем мы снова окажемся на канале. Это сбивает все мои расчёты. Но только здесь Муниру окажут помощь. Я думаю, он это заслужил.
— Конечно, конечно, — с готовностью согласился Матвей.
— А вы все сможете отдохнуть сердцем. И телом, раз уж в нашем рейсе вышла заминка.
— А? — негромко произнёс Кальян, скосив взгляд на бородача-рулевого.
— Ему здесь станет лучше. Наверное, он бы излечился полностью, если бы пожил здесь. Но столь долгим отпуском я не располагаю, капитан.
Фёдор слушал их беседу, жадно впитывая каждое слово. Только что голос, внутренний голос, порой так похожий на батин, произнёс: «Хардов не совсем прав. Визит сюда намного важнее». Только звучал он сейчас не насмешливо. Были в нём спокойствие, сила и какая-то восхитительная радость от… чего? Тайны? Понимания? До которых остался один только шаг?
«Самое светлое место на канале, — подумал Фёдор, — и ведь действительно всего в двух шагах от Второго. Но почему батя никогда о нём не рассказывал, об этом месте? Не был здесь? Конечно. О таком невозможно умолчать. Не был. Как и Кальян. И никто из гребцов. Только Хардов. Так кто же ты на самом деле, гид Хардов? Кто?! Если тебе открыта такая благодать? И почему предпочитаешь вести лодку сквозь тьму, если здесь столько света, а ты здесь желанный гость?»
Далёкий берег стал ближе, и Фёдор убедился, что их действительно ждали — женщина в белом приветливо помахала рукой.
— Там женщина, — восхищённо проговорил Кальян. — Прекрасна, как утренняя заря.
Хардов кивнул, и Фёдору показалось, что гид чуть смутился.
— Я никогда не говорил таких вещей, — удивлённо пролепетал здоровяк. — Но это так — как утренняя заря! — и Матвей вдруг расхохотался.
Хардов улыбнулся, глядя на капитана, и тихо сказал:
— Ты ещё не видел и половины.
Весёлые морщинки сошли с лица здоровяка. Он словно что-то вспомнил:
— Но это она? Да?! О ней говорил…
Кальян сбился, на миг тёмный отсвет мелькнул в его глазах, но вот уже всё прошло.
— Говори, — поддержал его гид. — Здесь вещи можно называть своими именами. Слова здесь чисты и не замутнены иными смыслами. Да, паромщик говорил о ней. Но речная дева вовсе не ведьма.
— Конечно же нет! — горячо откликнулся Кальян.
Женщина была одета в простую белую тунику, как на старинных картинах, что показывал дядя Сливень. Фёдор вглядывался в юное лицо прелестной хозяйки, ожидавшей на берегу.
«Вот почему заря, — радостно думал юноша, даже перестав удивляться своему новому, незнакомому прежде строю мысли. — У неё нет возраста. Утренняя заря существует с начала времён, но она всегда юна».
А вглядевшись в лицо хозяйки пристальней, Фёдор понял, что уже видел эти черты. Именно в них недавно складывался туман, блестевший как морозный снег.
А потом лодка коснулась носом берега.
* * *
— Приветствую тебя, хозяйка Сестра! — веско произнёс Хардов.
— И я приветствую тебя, воин, — в тон ему откликнулась речная дева, а потом в весёлом укоре Фёдору почудилось чуть больше мягкости, чем требует официальное приветствие, — хотя ты почти и позабыл пути, ведущие сюда.
— Нет, не позабыл, — серьёзно сказал Хардов. — Это не в моих силах.
Дева на миг замолчала и стала ещё более юной. Но вот уже весело улыбнулась:
— Я приветствую вас всех. — Она обвела взглядом спутников гида, и каждому было подарено мгновение её внимания. — Будьте желанными гостями.
— Прекрасная хозяйка! — вдруг произнёс Кальян. — Это место полно благодати, но ты его подлинное украшение. Я не мастер пышных слов, но говорю от чистого сердца, в котором теперь запечатлелось настоящее сокровище — твой образ. Я так считаю. И как капитан говорю это от всей команды.
Хардов потупил взор и с трудом сдержал улыбку, а Фёдору потребовалось немалое усилие, чтобы его нижняя челюсть на глазах у всех вновь не отвисла. Казалось, все были не то смущены, не то сбиты с толку, а потом хозяйка извлекла белую лилию из своих волос и протянула её капитану.
— Прошу вас, продолжайте так считать, — засмеялась дева.
— Как мне обращаться к тебе? — Кальян, наконец смущённый своим красноречием, посмотрел на хозяйку.
— Сестра, — коротко отозвалась она.
Когда все оказались на берегу, причём Фёдор с неуклюжей галантностью подал руку Еве, что не укрылось от Хардова, так и прижимавшего к себе ворона, взор хозяйки упал на Мунира.
— Я знала, что ты идёшь сюда и несёшь ко мне своего скремлина, но… Хорошо, что ты не передумал, — озабоченно проговорила она, и всем показалось, что даже сюда проник тёмный холод, ветерком повеявший на лицах. — Помощь нужна немедленно. Мёртвый сглаз почти коснулся его сердца.
Хардов посмотрел на своего ворона, плотно сжав губы, тот попытался откликнуться и приподнять голову, но лишь приоткрыл клюв, выдавив звук, очень похожий на стон, и голова его бессильно поникла. Зрачки гида сузились, однако когда он перевёл взгляд на хозяйку, в нём промелькнуло что-то очень похожее на отблеск мольбы.
— Дай мне его, — попросила Сестра.
Гид, не раздумывая, передал ей ворона, и дева тут же прижала его к сердцу. И тогда произошло что-то странное. Фёдор готов был поклясться, что хозяйка даже не раскрывала рта, но он услышал её, словно обладал даром чтения мыслей.
«Вот оно в чём дело, — это было внезапно и быстро, а потом чуть более монотонно, будто она повторяла за кем-то. — Я прошу тебя, прошу, спаси нас. Защити от него и останься жив. Я отдам тебе часть своей любви, я смогу, но останься жив».
Сестра с изумлением посмотрела на Еву, потом на Хардова, снова на Еву, взгляд её сделался задумчивым, а ресницы чуть задрожали.
«Бедная ты моя», — услышал Фёдор.
Но Сестра уже нежно коснулась головы ворона и посмотрела на него с такой чистой любовью и состраданием, что от холодного ветерка не осталось и следа.
— Мне надо идти, — проговорила хозяйка. — Я присоединюсь к вам позже. Там, в дубовой роще, раскинут просторный шатёр. — Она указала в сторону холмов. — Там вас ждут отдых и угощение. Мои дочери сопроводят и развлекут вас. Они уже взрослые, и если кто-то из мужчин захочет взять себе жену…
Она улыбнулась, и никто из команды не видел прежде такой улыбки, никто не смог бы сказать, чего в ней было больше — зрелой мудрости или невинной юности. А Фёдору показалось, что из пенных водопадов вышли семь девушек в таких же белых туниках и с цветами в волосах и остановились у границ леса. Наверное, только показалось, возможно, они прошли рядом с водопадами, так и играющими радугой, но юноша почему-то посмотрел на Еву и впервые пожалел, что его сердце отдано другой.
— Не беспокойся, — тихо сказала Сестра Хардову.
Он единственный не смотрел на границу леса, где ждали семь дочерей. Его взгляд был прикован к ворону и лицу хозяйки.
— Я помогу ему. — Потом она обратилась к остальным: — Мои дочери проводят вас. Ешьте и отдыхайте, и ни о чём не тревожьтесь. Сегодня ваш покой будет охранять Сестра.
Она быстро повернулась, собираясь уйти. Хардов хотел было последовать за ней, но Сестра остановила гида:
— Нет, воин. Ты пойдёшь с остальными.
2
Примерно в то же время в Дубне раздался громкий стук в дверь, и пьяный голос прокричал с улицы:
— Ева! Ева, открой. Знаю, что не спишь. Открывай, Ева!
Так как стучали в парадное Щедриных, а Павел Прокофьевич в этот поздний, или уже ранний, час не спал, старый учёный недоумённо пробормотал:
— Господи, кого это посреди ночи?
Стук повторился, причём с такой силой, будто дверь пытались снести с петель, и тот же голос потребовал:
— Выходи, Ева! Я тебя ждал. Почему не пришла на ярмарку?
Последовала пауза. В течение которой можно было различить невнятные переговоры и икание, а потом снова, но чуть игриво:
— Ева, ку-ку… Это твой муж…
— Будущий, — глубокомысленно поправил кто-то из собутыльников.
— Неважно. Законный. Не заставляй ждать, Ева. Немедленно выходи! Ну!
И в дверь опять стали молотить.
— Юрий, — сконфуженно произнёс Павел Прокофьевич. — Явился… — И старый учёный тяжело вздохнул. — Представляю, что нас ждало.
Щедрин собирался было включить электричество над парадным, затем взглянул на накрытый чайный столик и передумал. Лишь добавил огоньку в масляный светильник.
С Юрием заявилась целая компания, были даже две девицы — все навеселе. Щедрин приоткрыл дверь, оставив щеколду на цепочке, и посветил на улицу.
— Что это за выходки, молодой человек? — с академической сдержанностью поинтересовался он. — Вам известно, который час?
— О! Тестёк! — обрадовался Юрий. — Давай! Давай выпьем, тестёк.
— Послушайте…
— Чё-ё? Если у тебя нет, мы с собой принесли. Не парься, тестёк.
Компания довольно лыбилась, однако в тоне происходящего сквозило что-то странное, словно всем этим людям долгое время приходилось сдерживать себя, а теперь что-то изменилось и такая необходимость стала отпадать.
— Не выставляйте себя дураком, Юрий, — попросил Павел Прокофьевич. — И ступайте лучше проспитесь.
— Не-а, только с твоей дочерью! Папа.
— Перестаньте пороть чушь, за которую вам потом будет стыдно, — возмутился старый учёный. — И никакой я вам не «папа».
— Я присылал сватов.
— И что ж, получили ответ?
— Так жду-у… Ждём-с. Папа, лучше б выпил с зятьком, для своего же блага.
— И вы полагаете, что подобное поведение поможет с положительным ответом?
— Па-па. — Теперь Юрий усмехнулся, возможно, чуть более злобно, чем позволил бы себе на трезвую голову. — А вы с дочурой считаете, что кто-то на свете поможет вам отказать? Мне?! Вы, э-э… Ладно, тестёк, я ведь пока хочу по-хорошему. Мы просто идём на танцы. А осенью по-любому сыграем свадьбу. Я приглашение, между прочим, писал собстве-на-нэ… р-ручно… Давай, давай зови дочь, тестёк.
И невзирая на приоткрытую дверь, Юрий принялся молотить в косяк.
— Ева! Ну-ка немедленно спускайся, Ева! Танцы в самом разгаре. Пора тебе в нормальное общество. Нечего прятаться от людей.
— Не-е. Не выйдет. Чураются нас, — подначила Юрия одна из девиц.
— А жена обязана следовать за мужем, — поддержала её подруга и икнула, подняв к небу указательный палец, словно делясь великим откровением, повторила: — Следовать за мужем.
— Будущим… — внёс свою лепту собутыльник, которого, видимо, всерьёз волновали проблемы времени.
— Ниже их достоинства будем, — произнесла первая девица. — Рожей не вышли!
— Молодые люди, если вы сейчас же не покинете мой дом, — запротестовал Щедрин, — боюсь, у вас завтра будут серьёзные неприятности…
— Не, папа, — протянул Юрий, — боюсь, ты не понимаешь. Мышей больше не ловишь, старичок. Неприятности будут у тебя. Не хочешь по-хорошему — не надо. — Он угрожающе шагнул к Щедрину. — А ну, зови дочь, старый пердун! Не заставляй меня применять силу.
— Боюсь, неприятностей им завтра так и так не избежать, — послышался из-за спины Щедрина весёлый голос. — Их головы, или что там у них вместо, завтра треснут с похмелья.
Кто-то бесшумный появился за плечом Щедрина, словно вырос из-под земли. Юрий всмотрелся в лицо в отблесках света масляного фонаря, и его самодовольная улыбка поблекла.
— Тихон? — смущённо пролепетал Юрий.
— Точно, Тихон, — прошептал кто-то, когда гид отворил щеколду и шагнул на улицу.
Компания тут же испуганно попятилась. Юрий остался в одиночестве, всю спесь с него как рукой стёрло. Однако пьяная гордыня всё еще не позволяла ему поступить благоразумно.
— Послушайте совета, — предложил Тихон, — ступайте своей дорогой.
Юрий стоял, затравленно озираясь. Наконец он решился и выпалил:
— Я сын главы водной полиции. И если отец…
— Нет, — хладнокровно усмехнулся Тихон. — Ты кучка пьяного дерьма. А я глава ордена гидов, и этот дом находится под моей охраной.
— Но…
— И если вы ещё хоть раз заявитесь сюда подобным образом, то самое мягкое, что я вам обещаю, — Тихон говорил спокойным ровным голосом, словно делал приятное сообщение, — это увечья до конца жизни. И то только из уважения к вашему батюшке.
— Батюшке? Но… просто отец знает… Я присылал сватов. Это вообще он, со свадьбой… — Юрий замолчал, словно сболтнул лишнего, хотя происходящее ни для кого не было секретом.
— Хорошо, — кивнул Тихон. — А теперь вон отсюда. И право, не заставляйте меня применять силу. Хорошие новости здесь для вас закончены.
* * *
Когда они ушли, Павел Прокофьевич озадаченно посмотрел на своего гостя:
— Вернёмся к чаю?
— Разумеется, — беззаботно откликнулся тот.
— Ну, и как долго мы продержимся? — негромко спросил учёный, когда Тихон принял у него чашку настоящего чёрного чаю — подарок Хардова Еве.
— Боюсь, что не очень долго, — отозвался гид. — Их нажим становится всё сильнее. Новиков — глава полиции, и вы, возможно, будущий глава учёных. Положение обязывает.
Но Тихон по-прежнему говорил весёлым ровным голосом; казалось, ничто на свете не в силах его смутить.
— Понимаете, Тихон, подковёрная игра в противовесы, политика — это всё не для меня. Я учёный и могу делать только то, что умею.
«Даже на войне?» — не меняясь в лице, подумал Тихон.
— Конечно, — кивнул гид, мешая ложечкой в чашке и словно продолжая свою мысль. — Разумеется, Юрий исполняет волю отца. Великовозрастный бугай, шалопай и повеса не нагулялся ещё, куда ему жениться? — Потом он посмотрел прямо на Щедрина. — Но породниться с учёными — давняя их мечта. И они сумели убедить в этом весь канал. За вами уважение. За ними деньги и власть.
— И ещё страх, — вдруг сказал Щедрин.
Тихон усмехнулся, но вполне добродушно:
— Пустое…
— Но ведь… Тихон, скажите, ведь совместное решение гильдии учёных и гидов в состоянии сместить человека с любой должности и в любом департаменте. В том числе и главу полиции… Чего улыбаетесь, разве я не прав?
— А говорите, политика не для вас, — мягко произнёс Тихон. — Только это была бы крайняя мера. А нам всё же следует избегать открытого конфликта.
— Вы верите в равновесие, — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал Щедрин.
— Верю, что ж скрывать. По-моему, в этом главный смысл моей работы. — Тихон скромно пожал плечами, но взгляд его оставался весёлым. — Мы ещё очень многого не знаем. И как бы действуем по умолчанию, — пояснил он, — по обоюдному согласию, хотя стоит признать, что они становятся всё наглей. Давайте лучше пить чай, мой дорогой, бог с ними со всеми.
— Но даже этот брак, даже если бы речь не шла о моей дочери, — горячо возразил Щедрин, — неужели вы не понимаете, Тихон, что это в противовес вам? Вам, гидам, и всему, что вы пытаетесь сберечь.
— Да, — спокойно согласился гид. — Но вы сами вспомнили о страхе. Это так, люди живут в постоянном стрессе, к которому привыкли. Боюсь, что слишком много всего придётся предъявить, и боюсь, что очень немногие к этому готовы.
— Что вы имеете в виду?
— Многое, Павел Прокофьевич. — Впервые за весь разговор гид вздохнул. — Очень многое. Прессинг полиции понятней и привычней, например, того, что находится в тумане. Многое…
Щедрин помолчал, затем горькая складка скривила уголки его губ.
— Только речь всё же о моей дочери, — сдавленно произнёс учёный. — А если они перекроют весь канал?
— Это их право, — отмахнулся Тихон. — Но на открытый конфликт они тоже не решатся — всё же Ева не беглый преступник. Будут действовать исподтишка. Никто не хочет расставлять все точки над «i». Возможно, самих точек-то и не осталось.
— Речь ведь о моём ребёнке! — горько воскликнул Щедрин. — А не о шахматной партии.
— Да. Но у нас не было выбора. И потом, — гид подбадривающе кивнул, и прежняя улыбка расцвела на его лице, и морщины тяжких странствий и раздумий стали весёлыми морщинками, — вы плохо знаете Хардова. Большей безопасности даже я бы не смог предложить Еве.
— Вы мне говорили. Вы… в общем-то, простите старика, просто беспокойство… Мы ведь ещё ни разу не разлучались с ней.
Тихон посмотрел на учёного и подумал: «Интересно, как он считает, сколько мне лет?» Вслух же он сказал совсем другое:
— Понимаю. Понимаю ваши чувства. Мы делаем единственно возможное. И знаете что, Павел Прокофьевич, — в глазах гида сверкнули озорные искорки, — пока у нас это очень неплохо получается. В каком-то смысле нам это даже на руку.
— Что на руку?
— Юрий своей пьяной выходкой сделал фальшстарт. Думаю, ему прилично за это достанется от собственного папаши. У вас ведь сестра в Яхроме?
— Ну да, Мария. Хотя я давно прошу её перебраться сюда.
— Отлично! — Глаза Тихона заблестели. — Пустим слух, что Ева гостит у своей тётки.
— Тётки? Но ведь… им действительно придётся проследовать через Яхрому. Может, тогда лучше в другую сторону? Вниз по Волге? Пусть там ищут.
— Павел Прокофьевич, — улыбнулся гид. — Если хочешь что-то по-настоящему спрятать, оставь на видном месте. Хардов не подведёт.
Щедрин промолчал. Потом спросил:
— Честертон? — И тоже наконец улыбнулся.
— А? Вы про цитату? Да, он. К счастью, Хардову об этом известно. И к счастью, ему известно многое другое. Сила и время пока на нашей стороне.
Тихон улыбался. Однако что-то белое и холодное прошло через его сердце, когда, не меняясь в лице, он подумал:
«А ещё Хардову известно, что стоит на кону. Что мы поставили всё, что было. И это не шахматная партия, потому что правил больше не существует».
Но ничего такого Тихон не стал говорить Павлу Прокофьевичу Щедрину, потомственному учёному, которому на заре карьеры удалось восстановить нормальную работу реактора, что в свою очередь позволило возродить Иваньковскую ГЭС и дать электричество уже в промышленных масштабах. Этим он заслужил бесконечную людскую благодарность (у которой, как показал визит Юрия, короткая память), а потом ещё и стал отцом самого удивительного и прекрасного создания из всех, что довелось встречать Тихону.
Старый гид улыбался. Но это белое и холодное занозой застряло у него в сердце. Возможно, у них в руках ключи от будущего. Возможно, они жестоко ошибаются. Только Тихон никак не мог отделаться от ощущения, что что-то во тьме за окнами знает о его подлинных сомнениях. И оно тоже замерло в ожидании. Оно прислушивается, раздумывает и пока ждёт.
Пока ещё ждёт.
3
«Я в чём-то провинился перед тобой?» — услышал Фёдор.
«Ты всё знаешь. И знаешь, что я могу всё понять, стерпеть и простить».
Юноша смутился и заставил себя отвести мысленный взор и больше не слышать разговор Хардова с их чудесной хозяйкой. Разговор, который его удивил и привёл в замешательство. Фёдор не собирался подслушивать, но беседа гида с Сестрой началась с Мунира, а его очень волновала судьба ворона, загадочной птицы Хардова, которая спасла их. И он хотел побольше узнать, что они вообще такое — скремлины.
«Твой ворон поправляется. Скоро ты сможешь уйти».
«Спасибо тебе. Хотя уходить отсюда ещё тяжелее, чем возвращаться сюда».
Сестра помолчала, но когда она начала говорить, то её голос прозвучал, как переливный шёпот ручейка, который знает о приближении осени:
«Я знаю, что ты торопишься. И мне ведомо отчего. Но запомни: ты не скоро сможешь воспользоваться помощью Мунира».
«Почему?»
«Это его убьёт. Ворон ещё очень слаб. Пройдёт немало времени, прежде чем он снова сможет стать твоими глазами в тумане».
«Как же мне быть?» — спросил Хардов после паузы.
«Ты знаешь, как тебе быть».
На сей раз гид молчал дольше. Наконец, хрипло, с почти физически ощущаемой болью он произнёс: «Серебряные монеты?»
«Да. Тебе придётся взять скремлинов у него. Купить. Это твоё право».
«Которым я предпочёл бы не воспользоваться», — горько усмехнулся Хардов.
Теперь они замолчали оба. А когда беседа возобновилась, Фёдор понял, что подслушивает уже личный разговор.
Юноша не знал, сколько дней они провели у Сестры. Хардов говорил правду — время здесь текло по-другому. Только для юноши всё оно оказалось прекрасным. Насыщенным, с одной стороны, безмятежным покоем, в котором, однако, не было и следа праздности или лени, а с другой — наиболее полным переживанием каждого момента, что проявлялось даже в ощущении собственного тела. Фёдор настолько свыкся с чувством мышечной и душевной радости, что даже перестал их замечать.
А ещё происходили странные дела.
Фёдор с удивлением обнаружил, что у него обострились зрение и слух. Вот и сейчас до Сестры с Хардовым было не меньше двухсот метров, и говорили они тихо, но если б Фёдор захотел, он расслышал бы каждое их слово. Юноша подозревал, что смог бы запустить свои слуховые и зрительные «удочки» ещё дальше, но что-то подсказывало ему, что пока этим не стоит злоупотреблять.
Обострением слуха и зрения дело не ограничилось. Фёдор стал обретать и не свойственную ему прежде ловкость.
В Дубне многие считали юношу смышленым, возможно, спорым на руку, но вот природная грация явно не входила в число его достоинств. А здесь… Это странно, но от былой неуклюжести почти ничего не осталось и вроде бы даже несколько наросли мышцы. Фёдор гулял по окрестным холмам, лазил по скалам и плавал в заводи, прозрачной, как утреннее небо в мае, и убедился, что задержка дыхания «апноэ», о которой ему рассказывал Хардов, для него не проблема — он спокойно выдерживал под водой больше трёх минут. Иногда Фёдор задавался вопросом, останутся ли при нём приобретённые качества или это всё действует только здесь, в этом благостном месте, но столь же неожиданное благоразумие заставляло его не торопить события.
А однажды он услышал ещё более странный разговор о скремлинах. На вершине одного из холмов, образуя почти правильное полукружье, стояло несколько крупных валунов. Фёдору нравилось бывать здесь. Отсюда были видны далёкие леса и извивающаяся лента реки, и очень странные мысли приходили в голову, и грезились удивительные картины. В основном это был сумбур, никакой стройности не прослеживалось, но единственное, что постоянно мелькало перед мысленным взором юноши, — это полёт странного снаряда, бумеранга, оружия, которое может возвращаться.
Из рассказов болтливого дяди Сливня Фёдор знал о таком. Им вроде бы пользовались туземцы, но не те, что заселили границы пустых земель, а другие, тоже чуть ли не людоеды, которые жили, однако, в ушедшую эпоху на другом конце мира. Полёт бумеранга являлся как бы пиком мысленных картин, казалось, ещё чуть-чуть, и всё это обретёт стройность, но такого не происходило. Хотя с каждым визитом сюда становилось всё интересней.
— Что, Тео, нашёл своё место силы? — как-то спросил его альбинос.
Из всей команды Фёдор сблизился с ним больше всего, если не считать Кальяна. Альбинос, как и Хардов, был не гребцом, а гидом из города Икши, с границы пустых земель. Звали его Иваном Ивановичем, но все почему-то предпочитали обращаться к нему «Подарок». Глядя на могучий торс Вани-Подарка, — он был, пожалуй, самым мощным человеком в лодке, — Фёдор догадывался об истоках столь необычного прозвища.
— Да, — сказал Фёдор и мечтательно посмотрел на вершину холма. — Там здорово.
Альбинос с улыбкой кивнул, но ничего не сказал. Фёдор немножечко подумал и решился:
— Вань, скажи, а почему у вас с Хардовым одинаковые… ну, бусы? — Юноша спрашивал тихо, словно делился секретом. — Как маленький бумеранг? Это что-то значит или просто украшение?
В бесцветных глазах альбиноса на мгновение зажглась какая-то прозрачная искра, но вот он уже ухмыльнулся:
— Просто украшение. — Он дружелюбно подмигнул Фёдору, а потом, словно сжалившись, добавил: — Ладно, пацан… бумеранг — очень удобное оружие. Особенно в тумане. Возвращается. Всегда при тебе.
— А-а, — непонимающе покивал Фёдор.
— А ты проницательный, — похвалил Ваня-Подарок. — Многие думают, что это клык. Спрашивают, что за зверь.
Фёдор подозрительно взглянул на альбиноса. Скорее всего, его продолжают разыгрывать: как какие-то бусы могут сравниться с мощным нарезным оружием, которое всегда при себе у гидов.
— Когда-нибудь научу тебя швырять, — неожиданно пообещал Подарок.
— Что?
— Бумеранг. Если захочешь, конечно. — Альбинос снова ухмыльнулся и хлопнул юношу по плечу. — Ладно, пацан, ступай на своё место силы.
В тот день пригрезившийся среди валунов полёт диковинного оружия был даже чуть дольше, и хотя мысленная картинка сразу же распалась, Фёдор почувствовал, что не всё ещё закончено. Он снова вспомнил слова чудной песни, которую пели гребцы, ощутил на лице дуновение свежего ветерка, которого не было на канале…
А потом его позвали:
— Тео!
Фёдор вздрогнул. И оглянулся. Это был шёпот. Да только юноша находился один среди валунов. Фёдор чуть наморщился, пристально вглядываясь в листву. Но никто там не прятался, никто его не разыгрывал. Просто шёпот, тихий и какой-то радостный, словно его узнали и теперь поприветствовали, как старого друга.
— Тео! — снова шелестом листвы пронеслось над холмами.
Казалось, его звало само это место. Только теперь с оттенком лёгкой, тут же развеявшейся тревоги в зове прозвучало предупреждение. И мелькнула смутная и знакомая картинка: неприятно, неестественно раскормленный белый кролик в трактире дяди Сливня, налившийся темнотой глаз, волнистое покачивание губы зверька и шипение, так похожее на змеиное… А потом все смутные картинки развеялись, потому что юноша услышал:
— Значит, это правда?
Это был голос Матвея Кальяна, капитана их лодки. Фёдор посмотрел вниз на заводь у подножия холма. Вдоль берега прогуливались Хардов с Кальяном и вроде бы мирно беседовали, только отсюда, с вершины, до них было очень далеко. Ещё ни разу то, что Фёдор прозвал его «слуховыми удочками», не протягивались на столь приличное расстояние.
— Это правда, — голос здоровяка звучал негромко, хотя в нём и присутствовала внутренняя страсть, однако Фёдор отчётливо мог разобрать каждое слово, — что… укус скремлина может возвратить сюда? Вернуть молодость?
— Укус скремлина тебя убьет, — жёстко ответил Хардов, и что-то царственное мелькнуло в интонации его голоса. — Причём умрёшь ты мучительной смертью. Стоит ли полагаться на байки, Матвей, — добавил он значительно мягче, — доверять разным бредовым слухам.
— Ты, извини, братишка, — смутился здоровяк, — не хотел показаться назойливым… Я видел, что сделал для нас твой ворон, но люди их боятся и чего только не говорят.
— Не всему стоит верить, капитан.
— Я-то понимаю, что они поумней обычной зверушки будут. А то, что они и не зверушки вовсе, а только так выглядят… Выходит, они вам, гидам, вроде друзей, скремлины-то? А то и верных слуг?
— Большей глупости я в жизни не слышал! — усмехнулся Хардов. Затем вздохнул и добавил ровным голосом: — Матвей, запомни для своего же блага: скремлины — независимые, свободные и очень опасные существа. Не следует испытывать судьбу.
— Но как же…
— Их можно принудить делать какую-то работу, однако они сами выбирают, с кем иметь дело. Но уж если повезёт заслужить дружбу скремлина, то он будет верен тебе до последнего вздоха.
Ещё не закончив этой фразы, Хардов совершил нечто странное. Он обернулся и посмотрел на вершину холма. Именно на то место, где сидел Фёдор. Юноша тут же испуганно отстранился, укрываясь за выступом большого камня.
«Я попался, — подумал Фёдор. — Он меня заметил. Ещё решит, что подслушиваю, и теперь точно ссадит с лодки вместе с рулевым».
— Мне, например, Мунир очень дорог, — все так же продолжая разглядывать вершину холма, признался гид. — Однако по большей части для меня его пути неведомы. Правда, я могу призвать его в трудную минуту, — пояснил Хардов, склонив голову и чуть сощурив глаза, — и ворон откликнется. Но только если он мне по-настоящему нужен.
— А правда ли?.. Не отвечай, если не захочешь, я пойму.
Теперь Хардов повернулся к своему собеседнику и вопросительно посмотрел на него.
— Правда, что у вас со скремлинами, ну… как бы… — голос здоровяка упал, словно он наконец решился спросить нечто сокровенное, но в последнюю минуту забыл, как это сделать, — привязанность на всю жизнь? И если с кем-то из вас что-то произойдёт, ну… плохое, то вы это чувствуете? И что вас связывает что-то большее, чем родных людей?
Хардов какое-то время молча смотрел на собеседника, вот холодный отсвет в его глазах сменился весёлой искоркой, он прыснул и неожиданно расхохотался.
— Матвей Кальян, капитан моей лодки, — сквозь смех проговорил гид, — ходячий кладезь баек и легенд канала. Матвей, дружище, у всех по-разному!
Кальян смутился, а Хардов, казалось, развеселился ещё больше:
— Смотрю, пропитанное негой гостеприимство Сестры одарило нас всех чрезмерной мечтательностью.
Здоровяк потупил взор:
— Прости, братишка, я задал тебе слишком много вопросов.
— Да нет, нормально. Просто пора уходить. Пора готовить лодку. Идём, Сестра ждёт нас. Я не могу отправиться в путь без Мунира, но, может, мне удастся уговорить её оставить здесь рулевого.
Матвей попытался что-то возразить, но Хардов остановил его:
— Боюсь, что на канале для него хорошие новости закончены.
И увлекая за собой Кальяна, гид снова бросил взгляд на вершину холма. Фёдор сидел, боясь пошевелиться. Конечно, расстояние до них было очень приличным. Только Фёдору отчего-то показалось, будто Хардов знает, что он находится в полукружье валунов. И что смотрел гид именно на него.
4
Даже угроза того, что его высадят на берег вместе с рулевым или без оного, не омрачила последних дней пребывания Фёдора у Сестры. Это было бы очень обидно, юноша начал привязываться к команде, ко всем, даже к Хардову, но ведь есть и другие лодки! Возможно, тому виной была разлитая в воздухе благодать, возможно, что-то другое, но Фёдор вдруг понял, что ничего плохого с ним просто не может случиться. И единственным, что порой выбивало юношу из равновесия, оказались его неожиданно меняющиеся взаимоотношения с Евой.
Большую часть времени девушка проводила с дочерьми Сестры. И младшая, Адель, вызвалась обучить её искусству ткачества. Иногда к ним присоединялись остальные, за исключением средней, Алекто, которая была занята врачеванием рулевого. Девушки шушукались, хихикали и посмеивались Фёдору вслед. А иногда их с Евой взгляды случайно встречались. Именно в такие минуты к юноше возвращалась его привычная неуклюжесть, тогда он злился то ли на Еву, то ли на себя, что вызывало у девушек дополнительные приливы веселья.
«Ну и смейтесь себе на здоровье! — думал Фёдор. — Скоро всё это закончится. Мы уйдём по каналу чуть ли не до самой таинственной Москвы, где не бывал никто, кроме разве что Хардова, а потом я вернусь из рейса настоящим гребцом и женюсь на своей Веронике».
Но думая так и поднимаясь на вершину холма к полукружью валунов, Фёдор уже не мог с уверенностью сказать, по-прежнему ли ему этого так сильно хочется.
* * *
А потом он увидел в небе парящего Мунира. Ворон кричал, только это были крики не боли, а, скорее, восторга; порой он терял высоту, крылья его оказались ещё слабы, но птица отыскивала поток и вновь взлетала ввысь.
— Видишь, как он радуется, — произнёс Хардов, указывая на ворона, — он вспоминает. И к нему возвращается птичья природа. Он снова может летать.
Фёдор помедлил какое-то время, потом посмотрел на гида и вдруг признался:
— Я слышал ваш разговор. С капитаном. Про Мунира и про скремлинов. Я не специально.
— Я знаю, — ответил Хардов. — И надеюсь, ты его запомнил.
— Я?.. Да.
— Сегодня мы уходим. Для каждого из нас у Сестры найдётся несколько слов. Напутствие в дорогу. И возможно, какой-нибудь дар. Иди, она ждёт.
— Вы… Значит, вы не сердитесь?
Юноша взглянул гиду прямо в глаза. Но в них больше не было льдинок, лишь снова мелькнул этот непонятный отсвет нежности и какой-то давней боли. Но почему?! Что всё это значит? И если в первый раз могло показаться, то…
— Наверное, это было бы непозволительной роскошью для меня, — непонятно отозвался гид.
* * *
— Входи, Тео, я тебя жду, — снова голос Сестры показался Фёдору похожим на переливы ручейка. Она стояла в глубине шатра под пологом из живых веток. — Сегодня вы уходите, а мы так и не поговорили с тобой. Ты, наверное, хотел бы что-то спросить?
— Я не знаю, хозяйка, — признался Фёдор. — Здесь столько света… Я хотел бы задать тебе столько вопросов, что даже не знаю, с чего начать.
— Попробуй по порядку, — с улыбкой предложила Сестра.
Фёдор задумался. И ощущал он себя несколько неловко, но вот произнёс:
— Я сейчас только что на берегу… слышал, как наш рулевой, ну, бородатый… он в шутку гонялся за твоими дочерьми, они ухаживают за ним… — Фёдор почувствовал, что сбивается, но Сестра кивнула, подбадривая, и юноша продолжил: — А потом он закричал: «Я понял, кто они! Они речные нимфы! Речные нимфы!» Про твоих дочерей. Что это значит?
— Что ему нужна моя помощь, — рассмеялась Сестра. — И я окажу ему всю, что возможна. Хардов просил пока позаботиться о нём. А названия не важны, Тео. Ты сам ещё всё решишь, какие и чему стоит давать определения. Но ведь не это тебя волнует?
Фёдор согласно кивнул, посмотрел на свои ноги, поднял взгляд на Сестру и решился:
— Я хотел бы знать, что это за место, — выпалил Фёдор.
— Ты сам всё видишь, — мягко улыбнулась Сестра. — Таков мой дом.
— Но у меня столько «почему». — Фёдор вдруг вспомнил, как его звали на вершине холма, и о своих приобретённых навыках, и… о Еве… — Это похоже на сон, о котором знаешь, что проснёшься. Только это не сон. Объясни. А ещё этот сон кажется знакомым, как счастливые сны в детстве.
Где же мы, хозяйка? Вся эта благодать…
— По-другому всё равно не поймёшь. — Сестра взглянула юноше прямо в глаза. — Вернее, поймёшь в конце пути.
А может, ещё до окончания рейса. Причём в прямом смысле, никаких метафор! Но ты опять пытаешься давать определения, мой мальчик, а ведь не это для тебя главное? Что тебя беспокоит?
Фёдор подумал, затем нахмурился.
— Да, — признался он, — мне кажется, в этом весь ключ.
Всё сходится, я чувствую, но… не знаю, как это объяснить.
— Вот как? А ты попробуй.
— Хардов. Кто он?
— Гид.
— Но… кто он на самом деле?
— Именно так — гид. Не смущайся, говори. Говори сейчас, другого времени может не быть.
Сестра взглянула на Фёдора с открытым и нежным пониманием, и юноша произнёс:
— Хардов… Он иногда так странно смотрит на меня. Кто он такой на самом деле, хозяйка? У него ворон. И он дружит с тобой. И как я понял, мог бы жить среди этой благодати. А он избрал путь скитальца.
— Хардов — великий воин, — произнесла Сестра, и теперь в её ясном и сильном взоре мелькнул то ли оттенок смущения, то ли печали.
— Конечно! Но я не пойму… Мне показалось что-то странное… То ли он что-то знает про меня, чего я и сам не знаю, то ли… Запутался я, хозяйка. — Фёдор с надеждой взглянул на Сестру. — Рассказала бы ты мне про Хардова.
— Мой рассказ о нём будет рассказом Сестры о воине и вряд ли тебе поможет. Но не жди от Хардова плохого. Что ты знаешь о гидах?
— Ну-у… — Фёдор вдруг замялся. — Они… ходят в туман, водят с собой учёных. У них скремлины. — Фёдор, заметив на лице Сестры весёлую улыбку, сам начал смущаться. — Они прекрасные стрелки. Они что-то ищут. Люди их боятся.
— А ты?
— Я? Не знаю. Мне кажется… Наверное, я смог бы больше доверять Хардову, если бы… По-моему, на самом деле я ничего не знаю о гидах, хозяйка.
— Но ты можешь учиться. И не только. А от Хардова не жди плохого, — повторила Сестра. — Путь его труден, но для всего, что он делает, есть свои основания. Скажу лишь, что ты неспроста в его лодке.
— Но как? — Юноша с сомнением покачал головой. — Может, ты не знаешь… ведь мы случайно столкнулись после… после одного события.
— Драки в трактире? — рассмеялась Сестра, а Фёдор почувствовал, что вот-вот начнёт краснеть.
— Скажи, ты всё ещё веришь в случайности? — поинтересовалась она.
— Я не знаю, — искренне признался Фёдор.
— Вот, например, твоё имя. Как думаешь, откуда оно?
— Фёдор?
— Нет, другое. Подлинное имя.
Фёдор помялся. И удивлённо обронил:
— Тео?!
— Именно.
Теперь юноша окончательно смутился. В общем-то, хвастаться было нечем. История была старая и почти позорная. Ещё в ненавистной гимназии. Учебник по «Критической теологии» достался Фёдору от предшественника в ужасном состоянии. Весь растрёпанный, с вырванными страницами, да ещё вдобавок обложку залили чернилами, так что оставалась возможность прочитать лишь три буквы «ТЕО». И когда Фёдор извлёк этот учебник из своего школьного вещмешка, тут и началось. Пошло-поехало. Над Фёдором даже пробовали издеваться, а о покупке новых учебников, стоивших баснословно дорого, для таких мальчиков, как он («…нет, они тоже живут у реки, только… ну, понимаете, он… не из семьи учёных, они там живут, потому что его отец… ну, словом, из простых гребцов» — и характерно закатываются глаза), не могло быть и речи.
Фёдор не держал зла на сынков и дочек зажиточных горожан, что сплетничали за его спиной. Ему-то нравилось, что батя «из простых гребцов», хоть его старик и бился из последних сил, мечтая дать сыну другое будущее. А тогда на помощь неожиданно пришла Вероника. Дураки, заявила она обидчикам, забирая у Фёдора учебник: Тео — сокращённое от Теодор, смотрите в книгу, а видите фигу: Фёдор, Феодор, Теодор — это всё одно и то же древнегреческое имя, означающее «дар божий». Так что если кому угодно звать Фёдора на античный манер, то милости просим. Вот такая она была, Вероника, — умница и верный друг. Почему-то столь нехитрое заявление возымело действие. В общем-то Фёдора в основном любили за отзывчивость и весёлый нрав, и задиристым обидчикам, наверное, просто требовалось веское основание, чтобы снять свои претензии. Видимо, «дар божий» вполне для этого сгодился. Нападки прошли, а имя «Тео» осталось.
Вот такая она была, Вероника. Фёдор и сам не заметил, как вздохнул: где-то глубоко всё ещё жила надежда отыскать ту девочку, ведь, возможно, время ещё не утрачено безвозвратно. Но что из этого он мог сказать Сестре?
Юноша смущённо поднял глаза. И встретился с прямым, открытым и каким-то обнадёживающе-радостным взглядом хозяйки.
«Она сама и есть благодать этого места», — вдруг подумал Фёдор. И почувствовал, что вот-вот начнёт краснеть. Но Сестра только улыбнулась ему:
— Ты что ж думаешь, всё из-за этого старого учебника?
— Учебника?! Но… как ты узнала, хозяйка?
Сестра пожала плечами:
— Ты мне рассказал. Только что.
Фёдор совсем сконфузился — он что, вдобавок ещё и говорил вслух?
— Не беспокойся о своих секретах, — рассмеялась Сестра. — Скажу тебе, что не только волей слепого случая появились на твоей книжке эти три буквы — «Тео». Можешь считать, что твоё имя отыскало тебя. А каким путём и как это выглядело со стороны — не важно. Так же и с Хардовым.
— Прекрасная хозяйка! — решил возразить Фёдор. — Мне дали имя батя с матушкой.
— Конечно, — согласилась Сестра. — И они тоже не ошиблись с выбором. Как и говорила твоя детская подружка. Но не печалься по тому, что кануло безвозвратно.
Сестра вдруг замолчала, хотя Фёдор почувствовал, что ей есть что ещё сказать ему. Он отчётливо почувствовал лёгкое усилие хозяйки, как будто кто-то стёр ластиком уже произнесённую фразу. И тогда он вздрогнул.
«Вы пойдёте в места, где, возможно, безумие подкрадётся вплотную».
Фёдор в изумлении уставился на Сестру. Это было как в их первую встречу, когда он слышал её, будто умел читать мысли. Сестра улыбалась, но глаза смотрели испытующе, и в них тихой рябью плескалось предупреждение.
«Доверься Хардову. Даже когда всё будет твердить об обратном. Его выбор непрост и ноша тяжела. Он думает, что почти утратил надежду, но это не так».
Фёдор облизал губы. Его зрачки расширились. Дотронулся до виска и глухо проговорил:
— Ты что-то сделала со мной. — Он кивнул. — Я слышал тебя, — и ещё раз коснулся головы, — вот тут.
Сестра не утратила улыбки, когда произнесла вслух:
— Я знаю. Не пугайся. Здесь это не страшно.
Фёдор захлопал глазами, а Сестра пояснила:
— Твой гид об этом не знает, но… Мёртвый свет коснулся не только Мунира. И не только рулевого. — Она чуть склонила голову и добавила: — Он видел и тебя.
Какой-то холодный ветерок прошелестел по шатру, серой тенью омрачив лицо Сестры, и словно бы на мгновение сделалось темнее.
— Мёртвый свет? — Фёдор вдруг обнаружил, что с трудом ворочает языком, произнося эту фразу. — Ты говоришь о… Втором?
Но вот складка на лбу Сестры выровнялась, а от глаз снова разбежались весёлые морщинки.
— Надеюсь, что всё позади, — мягко улыбнулась она. И Фёдор опять услышал её безмолвное: «Я постараюсь, чтобы частичка этого места пребывала с тобой.
Это мой дар тебе. Мой крохотный дар».
Юноша чуть дёрнул головой, но Сестра тут же заговорила успокаивающе:
— Он будет с тобой не всегда. И не везде. Но когда очень понадобится, позови что есть сил. Я постараюсь помочь.
Фёдор, всё ещё справляясь с изумлением, наконец захлопнул рот. Попытался прокашляться:
— Я теперь смогу читать мысли?
— Конечно, нет, — рассмеялась Сестра. — Только если это будет предназначено тебе. Мысли… Скорее, я оставлю маленькую дорожку, открытую дверцу, по которой постараюсь прийти или послать весточку, когда… Я почувствую, когда станет необходимо.
Она замолчала. А потом Фёдор снова услышал то, что принял за чтение мыслей: «Очень многое меняется. Искорка мёртвого света может дать разные всходы. Это пугает, но и оставляет надежду».
— Я не понимаю, — прошептал Федор. Он вдруг почувствовал, как руки стягивает гусиная кожа.
Сестра какое-то время молча смотрела на него и произнесла:
— Обычно я не вмешиваюсь в дела мужчин. Но ты очень необычный. Правда, особенный. Чего-то и я не могу понять. Пусть дверца будет приоткрытой. А пока доверься Хардову. Возможно, тебе предстоит испытать его гнев и даже ненависть, а может, что и похуже, и вот тогда доверься своему сердцу. Большего я не скажу. А многое сокрыто и для меня.
— Слова твои туманны, прекрасная хозяйка, от них становится как-то не по себе, — глухо признался Фёдор.
— Знаю. Но они тебе в помощь. И очень скоро ты это поймёшь.
Сестра вдруг взяла юношу за руку, приблизила к нему лицо и посмотрела прямо в глаза, а может, ещё глубже. Потому что перед мысленным взором Фёдора мелькнули залитые солнцем тростники на Волге, лодка. И в ней они с батей… Это было его самое раннее воспоминание: Фёдору пять лет, скупая улыбка отца, радостный смех ребёнка, шелест тростника, рассекаемого лодкой… И от этой картинки по телу Фёдора разлилось ощущение надёжной защиты и покоя. «Они тебе в помощь. Как и мой маленький дар, — услышал Фёдор. — Постарайся правильно этим воспользоваться».
— Не знаю, что и сказать, — прошептал юноша. — Мне…
Но Сестра уже отстранилась от него, и Фёдор смог закончить более или менее ровным голосом:
— Мне не хватает слов… Спасибо. Спасибо тебе, хозяйка.
В первый раз улыбка, появившаяся на губах Сестры, выглядела чуть печальной.
— Не благодари, — возразила она. — Подобные дары не делают счастливыми. Но, возможно, помогут в несчастье. Как и то, что я собираюсь тебе дать.
Она протянула руку, и Фёдору показалось, что в раскрытой ладони он увидел нежную белую лилию, такую же, как в их первую встречу Сестра подарила капитану Кальяну. Но нет, это оказался совсем небольшой мешочек с вышитым инициалом «С».
— Не вскрывай его до поры. То, что внутри, пока чисто. Не загрязнено действием. Пусть так остаётся как можно дольше.
— До поры? О какой поре ты говоришь, хозяйка?
— Возможно, что тебе и не понадобится вовсе, — произнесла Сестра, задумчиво глядя на Фёдора. И опять он почувствовал, что какую-то часть её мыслефразы словно стёрли ластиком. — Знаешь-ка что, лучше пока забудь о нём, — посоветовала она, протягивая Фёдору мешочек. — Держи. Брось его в карман и забудь. Он не потеряется. Но когда в нём возникнет нужда, твои пальцы сами отыщут его. А теперь идём, Тео, лодка ждёт только тебя.
Фёдор вскинул на неё взгляд, а Сестра кивнула:
— Вся команда уже получила от меня напутствие и небольшие дары. Видишь, как быстро проходит время, которого много. Идём, вы возвращаетесь на канал прямо сейчас.
Когда они покинули шатёр, Фёдор увидел на берегу лодку, действительно уже снаряженную и готовую выйти на волну. Как велела хозяйка, он опустил мешочек в карман. Под тканью его пальцы нащупали что-то твёрдое и круглое. Глядя на лодку, Фёдор почему-то подумал, что этим плоским кругляком вполне могла быть крупная монета.
* * *
Когда лодка отчалила, рулевой, остающийся на берегу, встрепенулся и хотел последовать за ней, сделав шаг в воду. Но Алекто лишь крепче сжала его ладонь в своей, и бедняга начал успокаиваться. Он даже рассмеялся, подняв свободную руку и указывая пальцем вслед уходящему судну.
— Ему опять хуже, — горько обронил Матвей Кальян.
— Это потому, что мы уходим, — сказал Хардов. — Он чувствует. Скоро всё успокоится. Не грусти, на обратном пути мы заберём его.
— Если он будет, этот обратный путь.
— Матвей, на канале он стал бы опасен. И для себя, и для нас. Ты не знаешь, на что способен мёртвый свет. Мне всё равно пришлось бы его ссадить. И лучшее, что его там ждёт, — это помешательство.
— Я всё понимаю…
— Матвей, я даю тебе слово: кто-то из нас обязательно вернётся сюда. И заберёт твоего друга.
Матвей посмотрел на Хардова, и что-то горькое мелькнуло в его взгляде, но здоровяк ничего не сказал. Лодка шла по заводи, залитой закатным светом. И Фёдор, по праву занявший место на руле, решил бросить прощальный взгляд на свой холм. Теперь он видел его со стороны, и это место нравилось ему ещё больше.
«Было бы неплохо когда-нибудь вновь вернуться сюда», — подумал юноша. А потом Фёдор заметил, как в полукружье валунов мелькнули очертания знакомой фигурки.
Он даже не сразу сообразил, как это Сестре удалось так быстро туда подняться.
— Смотри, хозяйка! — восторженно произнёс Кальян. — Она машет нам на прощанье!
— Да, — Хардов кивнул. — Она всегда там провожает… уходящие лодки.
«Ты хотел сказать „провожает меня“, — подумал Фёдор, — вместо „лодки“. И вот мы покидаем самое светлое место на канале, а я так про тебя ничего и не понял, гид Хардов».
— Она, конечно, самое диво дивное из всего, что мне довелось встречать в жизни! — Кальян, приподняв весло и укрепив его в уключине, махал ей в ответ. — Ты, конечно, прав, здесь ему будет лучше.
— По крайней мере, это время пройдёт для него гораздо спокойней, — повторил Хардов и усмехнулся, — он его и не заметит.
— Конечно, в обществе-то Алекто, — подмигнул Фёдору Ваня-Подарок.
Раздались тихие одинокие смешки, никому не хотелось уходить отсюда. Все знали, что пора, но словно тянули, и капитан это почувствовал.
— Ладно, мужики! Давайте, приналегли на вёсла, — скомандовал он. — Чего уж теперь…
Внезапно впереди появились пока ещё редкие клочья тумана. Вот только что вроде бы ничего не было, русло здесь выпрямилось, и до следующего изгиба реки открывалась широкая даль, перспектива, но с каждым взмахом вёсел линия тумана становилась плотнее. Причём пролегла она между лодкой и прежде чистым изгибом реки. Фёдор отклонился назад как можно дальше, только чтоб не выпасть за борт, — тумана перед глазами стало меньше. Сделал резкий наклон вперёд — туман сгустился. И Фёдор вспомнил, что много раз смотрел с вершины своего холма в эту даль, и никакого тумана там отродясь не было.
«Как странно, — удивился юноша. — Издалека и вблизи разные картинки. Но как такое может быть?» А следом пришла ещё более диковинная, если не чудовищная мысль: «Мы что, несём туман с собой?»
И тут Фёдор вздрогнул. Его позвали. С вершины холма, из полукружья валунов.
«Тео, — прозвучал в нём голос Сестры, — будь осторожен. Выбор между „правильно“ и „легко“ очень непрост. Не ошибись с тем, что любишь».
Фёдор обернулся. Сестра всё ещё стояла на вершине. Но рука хозяйки больше не была вскинута в прощальном жесте. Её удаляющаяся фигурка показалась сейчас хрупкой и беззащитной. И вновь его кольнуло это острое чувство, вновь юноша оказался на грани какого-то понимания, то ли тёмного, то ли очень важного,
(он должен о чём-то вспомнить?)
ещё на шаг придвинулся, почти встал на эту грань…
— Фёдор, держи руль крепче! — прозвучал голос Кальяна. — Ты что это, парень? Ну-ка, не раскисай мне тут.
Юноша в растерянности уставился на капитана. И на туман, что придвигался прямо по курсу лодки. Канал ждал их. Свободная рука сама нащупала в кармане мешочек — подарок хозяйки был на месте, он действительно увозил с собой частицу этого места. Всё развеялось, осталась лишь свербящая и тупая заноза сожаления. Но Фёдор крепче сжал мешочек, и ему стало легче. И тогда юноша услышал последние слова Сестры: «Тео! Мой милый мальчик. Верни мне его, как я вернула…»
Фёдор коснулся пальцами виска — опять какой-то непостижимый ластик стёр завершение фразы. Юноша не знал, каким было конечное слово или слова. Но что-то подсказывало ему, что Сестра сама позаботилась об этом. Как и тогда, в шатре, сама не захотела отпускать это последнее слово на волю.
Он почему-то быстро и робко решил помахать ей на прощание. Но когда Фёдор обернулся, Сестру уже невозможно было различить.
Лодка вошла в туман.
Глава 7
Шатун
1
Новиков Юрий, сын главы Дмитровской водной полиции, а заодно несостоявшийся жених Евы, был уверен, что своей первой встречи с Шатуном он никогда не забудет. Это произошло где-то с полгода назад, когда на канал неожиданно пришли заморозки и вся трава по берегам оделась хрупким инеем, что, по мнению многих, означало постепенное восстановление погоды.
Конечно, стоило признать, и первую встречу с Раз-Два-Сникерс ему удастся позабыть с трудом. Такие вещи не забываются. Как первый сексуальный опыт, первый страх смерти и первый публичный позор. Но Юрий не злился, как говорится, на его век хватит и он ещё отыграется. Эта черноволосая женщина с холодными и пронзительными глазами цвета пасмурного неба всё ещё манила его, хотя он и боялся её как огня. Смесь получалась любопытная, гремучая, но тем интересней ожидаемый впереди реванш, даром что он сын самого могущественного человека на канале.
Правда, Юрий не спешил. Пусть все и считают его пустышкой и обалдуем, Юрий не так прост, он дождётся своего часа и тогда очень всех удивит. И прежде всего дорогого батюшку, который на единственном родном сыне Юрии давно поставил крест. Нет, его по-своему любят и даже ценят, сынке можно всё, пусть развлекается, и должность, когда придёт срок, ему какую приличную подберут, но похоже, что в преемники под носом у купеческой республики дорогой и почитаемый батюшка готовит своего воспитанника Трофима. Он бы его и на профессорской дочке политическим браком поженил, если б Трофим был родным. Юрий не подавал виду, и дело не столько в искусстве притворства, по большому счёту, его даже больше устраивала беззаботная жизнь, но обиду затаил. И честно говоря, вряд ли бы он начал действовать, если бы не внезапное бегство Евы. Такого уже спускать было нельзя.
Свидание с Евой здорово его изменило. Её неожиданная строптивость, боязнь превратиться в посмешище — это само собой, но и стоит признать, чем-то она зацепила его. Чем-то она здорово отличалась от всех этих дмитровских кулём, с которыми Новиков-младший привык проводить время. Раз-Два-Сникерс, конечно, тоже от всех отличалась. Это мягко говоря. Та была охотницей, возможно, убийцей (Юрий слышал, что её попёрли из гидов за жестокость, и теперь она не брезгует разными деликатными поручениями полиции), Ева — профессорской дочкой.
Оба мира были для Юрия далеки, как другие планеты. И он даже не знал, какого реванша желал больше. Это возбуждало, наполняло жизнь смыслом. Правда, вроде как выходило, что Раз-Два-Сникерс — женщина Шатуна, если у него вообще могла быть постоянная женщина. Это возбуждало ещё больше.
Юрий хотел на обеих отыграться за причинённые унижения. И Юрий желал их обеих, хотел до боли в паху.
Во как может быть любопытно! Смесь, правда, гремучая. Смертельно опасная. Юрий считал, что его жизнь наконец становится всё более интересной и можно с этим поиграть. Здесь он сильно ошибался. Как и по поводу первой встречи с Шатуном. Вторая оказалась куда как любопытней.
* * *
Полгода назад Юрий высадился у верхних ворот шлюза № 2, что у бывшего посёлка Темпы, и как только его ноги коснулись берега, он почувствовал, что это нехорошее место. Заброшенное Дмитровское шоссе бежало здесь параллельно каналу через ряд древних болот, о которых порой доходили довольно-таки зловещие слухи. По крайней мере, приближаться к пустынной старой дороге, в обоих концах которой сгущалась неприветливая серая дымка, у Юрия не возникло никакого желания. Отсюда и до третьего шлюза в Яхроме начинался самый длинный бьёф канала протяжённостью сорок семь километров. Его так и называли — Длинный бьёф.
Неприветливое начало постепенно сменялось всё более обнадёживающей картинкой, а в конце бьёфа, собственно, и находился господин великий Дмитров. Уже от северных предместий города и на юг по каналу, практически до бывшей железнодорожной станции Турист напротив шлюза № 4 с его загадочной насосной станцией «Комсомольская», располагались самые обширные земли, не тронутые туманом. Во всяком случае, от Дмитрова до Яхромы в хорошие дни можно было добраться посуху, да и до Туриста тоже, если бы не рухнувший железнодорожный мост через канал. Конечно, по кромке обжитых земель, по речушкам и системе обводных каналов мгла стояла плотной стеной, и вот поговаривали, что кое-где опять пришла в движение.
По крайней мере, гиды зачастили в туман, а у дальних границ оборудовались новые заставы — блокпосты, укреплённые, как на тёмных шлюзах, мешками с песком и пулемётными гнёздами. Гиды возвращались хмурыми и потрёпанными, но истории их были скудны.
Новиков-старший ненавидел гидов. Кроме полиции это была единственная на канале вооружённая группа мужчин, которой официально разрешалось носить нарезные стволы. И хоть волей-неволей многие операции приходилось проводить совместно, глава полиции подозревал, что это Тихон запрещает своим людям делиться информацией. Клановое чувство передалось по наследству и Юрию, правда, у него оно, скорее, трансформировалось в высокомерную неприязнь. Тем страннее оказалось поручение дорогого батюшки.
— Передашь лично в руки Шатуну, — сказал Новиков-старший, протягивая ему конверт, запечатанный сургучом.
Юрий присмотрелся: герб Дмитрова; Юрий хмыкнул — это был высший уровень секретности. Дорогой батюшка не нашёл тут поводов для забавы, хотя Шатун считался одним из лучших гидов.
— Не болтайся там лишнее время на суше, — отец строго посмотрел на Юрия. Когда речь заходила о работе, взгляд отца всегда делался строгим и серьёзным, а сейчас ещё и оценивающим.
Юрий почти ненавидел этот взгляд.
— Там что-то странное, даже по своему берегу туман подполз почти к самой воде. Отдашь конверт и сразу назад.
Юрий сглотнул. Собственно говоря, он и не собирался «болтаться». И если б отец заметил, он довольно часто проходил те места, например наведываясь в Дубну. Туман стоял там непроглядной стеной по обоим берегам канала. И ощущение холодного сквознячка в груди никогда не покидало. Казалось, что кто-то в тумане наблюдает за вами, внимательно, выжидающе, но всё менее терпеливо, особенно на болотах, где канал был поднят и шёл по насыпи. А ещё Юрий знал, что не так давно дорога на середине Длинного бьёфа в глубь суши была открыта на много километров, до самых Вербилок. Поговаривали, что вроде бы туман не тронул деревни, славной керамическим промыслом, обойдя её стороной. Никто не знал почему. Про туман вообще никто ничего не знал наверняка. Но сейчас большую часть года дорога в Вербилки отрезана. И в ведомстве дорогого батюшки всё чаще подумывают об эвакуации и самой деревни, и промысла. Пока не поздно. Так что Юрий был осведомлён и вовсе не собирался там болтаться. Только Новикову-старшему заметить это было непросто, ведь перед его глазами маячил серьёзный и послушный Трофим, который всё успешнее справлялся с ответственными государственными делами. И всё успешнее подогревал батюшкину неприязнь к гидам. Кое-кто уже находил её смахивающей на паранойю.
— Хорошо, отец, — с готовностью отозвался Юрий. Он был рад, что для него наконец нашлось первое серьёзное поручение: видимо, батюшка всё же решил постепенно вводить его в курс дел. — Сразу назад.
Новиков-старший подозрительно взглянул на сына:
— Возьмёшь мою лодку.
Юрий по привычке автоматически кивнул:
— Понятное дело…
Отец усмехнулся, и Юрию показалось, что он уловил слегка презрительный огонёк. Новиков-младший частенько пользовался батюшкиной лодкой, каких на канале можно было сосчитать по пальцам. Надувная полицейская лодка с электродвигателем и шикарно обустроенным кокпитом с анатомическими сиденьями любимого батюшкой бежевого цвета развивала скорость свыше двенадцати километров в час, что позволяло значительно сокращать расстояния (никаким гребцам не управиться туда-обратно до наступления темноты), а главное, возносило статус пассажира в разряд небожителей. На эти лодки ставились лучшие полицейские мотористы, персональные водители плавсредства, знавшие канал не хуже самых опытных гребцов, а то и гидов. Так что Новикова-младшего ожидала приятная прогулка — прокатится с ветерком. Только привычка Юрия к шикарной жизни отчего-то раньше не вызывала у дорогого и почитаемого батюшки никаких возражений.
— И без выкрутасов мне, — сказал отец. — Если они готовы дать ответ, пусть пришлют его с Раз-Два-Сникерс.
— С кем?!
— Неважно. Увидишь. И держи себя с ними поскромней.
— С гидами?! — Юрий с несколько бестолковой ухмылкой уставился на батюшку.
— С теми, к кому я тебя отправляю, — пояснил отец. — С достоинством, но вежливо. Это тебе не твоя компания из «Лас-Вегаса».
— Компания моих обалдуев, — обиженно пробубнил Новиков-младший.
— Я этого не говорил. — Отец равнодушно пожал плечами. — И запомни: конверт только лично Шатуну. Даже если Раз-Два-Сникерс захочет взять его — не отдавай.
— Понял.
Юрий вздохнул и перевёл взгляд в окно. Сникерс… Это что ж за имя такое? Дорогой и почитаемый батюшка находит себе всё более занимательных компаньонов. О Шатуне чего он только не слышал, одна история темней другой. Правда, из всех обрывочных сведений вырисовывалось кое-что, находящее у Новикова-младшего горячий отклик, но… Юрий ещё раз вздохнул. Из роскошного батюшкиного кабинета открывался прекрасный вид на канал и на купола Дмитровского кремля. Здесь и до южных окраин Яхромы, до весёлого и поднадоевшего «Лас-Вагаса» оба берега канала были открыты, чисты от тумана. В центре Дмитрова находились места, где даже с крыш высоких домов тумана не было видно. Словно его не существовало вовсе.
«Раз-Два-Сникерс», — покачал головой Юрий и осторожно, про себя, усмехнулся.
— Хорошо, отец, я всё понял, — сказал он вслух.
Так Юрий Новиков оказался у верхних ворот шлюза № 2. Через полгода этот визит полностью изменит всю его жизнь.
2
Шатун сидел в полумраке своего бункера, крутил пальцами автоматный патрон калибра 7.62 и слушал блюз из небольшой музыкальной коробочки. Эту механическую безделицу ему смастерил один блаженный чувак из Деденёво, и в нормальном режиме она была запрограммирована на три мелодии. Заводишь ключом и выбираешь блюз. Только Шатун знал, что существует ещё и ненормальный режим; это главное, что существует в этом мире, для которого хорошие новости почти закончились. Шатун не мигая смотрел на патрон в своих пальцах, его движение ускорялось, тусклый огонёк на латунной поверхности, отблеск светильника, вот-вот превратится в круг. Шатун думал. И его массивное, но с тонкими чертами и красивой, почти аристократической линией рта лицо прорезали глубокие морщины.
Торфяные разработки были меньшей из проблем, хоть Новиков практически помешался на энергетической независимости от Дубны. Здесь, на Длинном бьёфе, на древних болотах ещё со времён строителей канала и вплоть до момента, когда берега накрыл туман, добывали торф. Тот мир был жаден, и хоть в его распоряжении находились самые разнообразные источники энергии, о которых Шатун всё знал (кстати, склонность к необузданному потреблению и стала одной из причин, по которым в конце концов была поставлена жирная точка), он не брезговал и таким малоэффективным неликвидом, как торфяники. Сейчас они ценились бы на вес золота. И вот одной из идей фикс главы полиции стало восстановление старых разработок. Это был стратегический план на энергобезопасность. Прежние ТЭС работали на нефти или газе, их надо адаптировать к торфяному топливу и перезапустить. Новиков был уверен, что со станциями всё в порядке, они находятся в «спящем» режиме и учёные справятся с задачей. «Одно нажатие кнопки решит все наши проблемы», — утверждал он.
Шатун был не против. И даже удалось кое-что сделать. В день, когда была отгружена первая лодка торфа, в Дмитрове организовали торжественные мероприятия, а ночью на разработку пришёл туман. Что там за твари поднялись из болот, а может, из каких других мест, Шатун не знал. Он видел лишь последствия. И воспоминания о них до сих пор подступают к горлу мутным комком тошноты, а ведь Шатуну довелось хлебнуть в своей жизни ой как немало.
Самое забавное, — и Шатун позволил себе усмехнуться, — что Новиков тоже видел последствия, видел, что случилось с партией рабочих и со спасательной экспедицией, но всё равно не смог угомониться. «Восстановление торфяных разработок — наш главный приоритет». В голове Новикова словно разладился какой-то механизм, отвечающий за принятие адекватных решений. Его комичная ненависть к гидам, ревнивая подозрительность к их сближению с учёными, даже в произошедшей катастрофе заставили главу полиции усмотреть лишь попытку покрепче привязать Дмитров к зависимости от Дубны с её энергоузлом. А Шатун не против, вовсе нет, хотя и вынужден периодически торчать на Длинном бьёфе, поддерживая торфяные грёзы, и хоть новиковскому, честно признаться, скучному помешательству ох как далеко до подлинного безумия.
Шатун снова усмехнулся. Патрон в его пальцах вдруг застыл. Интересно, Новиков прислал своего единственного сына-недоросля, потому что затеял какую-то игру? Вряд ли, инстинкты подсказывали Шатуну, что парнишка, скорее всего, решил действовать самостоятельно. На свой страх и риск. И вот ведь как любопытно может всё складываться, забавно, причудливо и верно, если ты, конечно, на правильном пути. Шатун ждал кое-чего. Кое-чего уже близкого.
Патрон в пальцах снова начал описывать круги. Шатун думал сразу о многих вещах. Причём не последовательно, а одномоментно, смысловая полифония в его, чего уж там, можно и признать, больном мозгу представала развёрнутой картиной, и он улавливал взаимозависимости. Повторный визит этого паренька, новиковского отпрыска, многое менял.
«Я смогу дать вам то, что вы ищете».
Забавно, причудливо и очень кстати, если ты на правильном пути.
— Там снова прибыл сын Новикова, — пару часов назад заявила Раз-Два-Сникерс. — Хочет нанять тебя.
Шатун лениво кивнул, заводя свою музыкальную шкатулку с балериной на крышке, которая танцевала блюз. Раз-Два-Сникерс помолчала, а потом прыснула:
— По-моему, от него сбежала невеста.
Шатун вскинул на неё удивлённый взгляд:
— Я разве похож на ловца сбежавших невест?
— Выслушай его, по-моему, там кое-что интересное, — сказала она.
Шатун отложил шкатулку в сторону и внимательно посмотрел на свою подругу, которую всё ещё порой ласково именовал «амазоночкой мглы», — у Раз-Два-Сникерс инстинкты были обострены и помножены на интуицию. Шатун знал, что это, поэтому кивнул:
— Хорошо. Пусть войдёт.
И он выслушал его. И оказалось, что он вполне может поработать ловцом сбежавших невест. По крайней мере, сейчас, пока парнишка ждал ответа, Шатун всё больше склонялся к такому положению вещей.
Причудливо. Забавно.
Патрон опять застыл. Вряд ли Новиков ввёл сынку в курс дел. Даже делая скидку на дурдом в его голове, всё же вряд ли. Старый лев, конечно, сбрендил, но не настолько, и дважды ошибается тот, кто недооценит этот факт — Новиков всё ещё очень опасен. Скорее всего, парень сам допёр. А он не так прост, как о нём думают окружающие, и не настолько умён, как считает сам.
Забавно. Забавно.
Блюз кончился, пружина завода в шкатулке раскрутилась. Шатун отложил патрон и принялся не спеша поворачивать ключ. Этот мастер-ломастер, блаженный чувак из Деденёво, сварганил ему неплохую забаву. Они там все слегка не от мира сего, деденёвские чуваки. Считается, что из-за близости границ обжитых земель. Только Шатун знал, что это не так. Вот Икша стоит прямо на границе, окраины города больше смахивают на редуты обороны, но народ там хоть и со скучной гнильцой, а нормальный.
Нет, деденёвские таковы, потому что станция, Великая и Загадочная Насосная Станция «Комсомольская» совсем рядом. И Шатун порой — и сейчас, например, — подумывает о том, чтобы перенести в те края свой бункер, как он предпочитает именовать нечто вроде собственной штаб-квартиры. Потому что там звучит музыка. А Шатун её любил. Он любил музыку. Больше всего — странную. Больше всего — странный блюз. И сейчас он выбрал одну из трёх мелодий. Green Grass, зелёная травка этого хриплоголосого сутуловатого чувачка вполне подойдёт. Щемяще-трогательный перелив одинокого колокольчика вполне подойдёт для его настроя.
Шатун вернул шкатулку на своё место и ласково улыбнулся танцующей балерине. В принципе, у него была прекрасная музыкальная аппаратура. Когда все компьютеры, по крайней мере большинство, сдохли, этот ламповый Bang&Olufsen, выпущенный ещё в девяностых годах прошлого века, работал как новенький. Это было подлинное сокровище, и Шатун его берёг — здесь, в бункере, ему было не место: резкие скачки электричества могли навредить тяжёлому и старому музыкальному центру, и хоть предохранителей с ниточкой проводов было навалом, за лампы Шатун не смог бы поручиться. Он перевезёт своё сокровище ближе к станции «Комсомольская». Почему-то Шатун был уверен, что там ему ничего не грозит. Да, только дело в том, — и он усмехнулся в третий раз, — что и музыкальная коробочка работала там в ненормальном режиме, звук её был такой же глубокий и сочный, как и у Bang&Olufsen.
Шатун вдруг нахмурился, глядя на кружащуюся балерину. Эта одинокая переливная мелодия была прекрасным ключиком, чтобы приоткрыть его бронированное нутро. Он подумал о Хардове, почти его брате, и о Тихоне, о том, как всё было и стало потом. Они много всего говорят, но когда Шатун увидел мёртвый свет, когда пылающий взгляд Второго проник в его бронированное нутро и поселил там искорку подлинного безумия, он узнал и о кое-чём другом. В том числе о том, что маленькие музыкальные коробочки могут работать в ненормальном режиме. И ещё о том, что можно говорить с теми, кто создал эту восхитительную музыку. Говорить там, у насосной станции «Комсомольская».
Шатун больше не хмурился, хотя снова подумал о Хардове. И о Тихоне. Возвращение учителя — вещь, конечно, интересная. И вот стоит приложить все усилия, чтобы её избежать.
Шатун отклонился на спинку глубокого антикварного кресла, которое нашёл в уцелевшем краеведческом музее. Он принял все решения. Позвонил в серебряный колокольчик. Раньше он пользовался гостиничным звонком для портье, но его не всегда было слышно, и как-то, ударив по нему чуть сильнее обычного, Шатун его сломал.
Когда его «амазоночка мглы» показала своё прелестное умное личико (её длинные ресницы почему-то всегда нежно и обольстительно трепетали, но не дай вам Бог обольститься!), Шатун сказал:
— Ладно, зови его. Кажется, мы можем поговорить.
3
Юрий ждал снаружи бункера. И хотя многих из этих людей он теперь хорошо знал (кое-кого встречал в дмитровских и дубнинских кабаках, не исключая «Лас-Вегаса»; а кое-кого даже в батюшкиной приёмной), отделаться от мысли, что это «дрянное местечко», он так и не смог.
Поначалу он принял всех их за гидов. Когда полгода назад он прибыл сюда впервые, его встретили немногословные малоулыбчивые люди, вооружённые до зубов, и первое, что он услышал вместо приветствия, было:
— Давай конверт.
Юрий помялся. Нельзя сказать, что его огорошило подобное гостеприимство и неуважение к его очевидному статусу, — всё же он прибыл на батюшкиной лодке, — но несколько огорчило. Он постарался придать своему лицу выражение значительности и сухо заявил:
— Шатуну лично в руки.
— Тогда жди, — последовал ответ. И к нему тут же потеряли интерес.
Юрий решил оглядеться. Люди, которых он принял за гидов (позже он поймёт, что это не совсем так, позже Новиков-младший поймёт многое и найдёт это более увлекательным, чем праздное времяпровождение в «Лас-Вегасе»), занимались своими делами. Один из них, показавшийся необычайно стройным и компактным для представителя столь суровой профессии, стоял спиной, да так и не обернулся к нему. Он лишь внимательно вглядывался в кромку леса, подступающего вплотную к обочине заброшенного Дмитровского шоссе, и в неприветливую серую дымку, стелющуюся между деревьями. Юрий зябко передёрнул плечами. На голову дозорного, если это, конечно, дозорный, был водружён камуфлированный шлем, правда, автоматическое оружие висело на ремне. На всякий случай Юрий решил держаться ближе к воде. Хотя скульптурные композиции на башенках шлюзовых ворот ему никогда не нравились. Что-то в них было… противоестественное. Как-то раз он проходил это место ближе к закату (спешил в Дубну и вовсе не хотел заночевать в одной из транспортных станций, больше похожих на фортификационные сооружения) и видел здесь кое-что. Кое-что нехорошее. Тогда он списал всё на действие болотных грибов, их ещё кличут чёрными сатанинскими, которыми, как и слизью червя, Новиков-младший не брезговал.
Возможно, так оно и было. Только Юрий ни за что не хотел повторения этого опыта. Он бросил быстрый, чуть подавленный взгляд на скульптуру красноармейца и особенно на длинный штык его винтовки, но кроме того, что гипсовый боец казался каким-то слишком уж новеньким, невзирая на отбитую часть головы, причём скол прошёл ровно по правой половине лица, всё остальное было вроде бы нормально.
«Дрянное местечко», — выдал он тогда свой вердикт в первый раз.
Чтоб скоротать время, а заодно побороть мутно-тошнотворные волны страха, Юрий решил завязать разговор с человеком, чистящим оружие. Коли оружие разобрано, то непосредственной угрозы, скорее всего, нет. Юрий нашёл эту мысль очень приятной.
— «Калашников»? — спросил он у человека, который масляной тряпкой протирал воронёную сталь. Не дождавшись ответа, Юрий сообщил: — Могу собрать за двенадцать секунд.
В принципе, по всем нормативам, это был вполне достойный результат. Тряпка в руках человека так и не прекратила своих плавных движений, когда тот поднял взгляд и сказал:
— Тогда не разбирай. Иначе ты труп.
Юрий чуть смутился — еле уловимая насмешка в глазах говорившего… Ну что ж, это уже кое-что. Не особо приветливо, но отец велел ему быть вежливым. И Юрий спросил:
— А кто такой Раз-Два-Сникерс? — Нельзя сказать, что он мечтал понравиться всем этим людям, но завязать нормальную беседу всё же не мешало бы.
Масляная тряпка в руках на миг застыла. Затем Юрия вновь удостоили взглядом и ухмылкой, а кто-то из проходящих мимо даже покачал головой. И в этом движении сквозило не осуждение, а ухмылка.
— Я что, сказал что-то смешное? — не понял Юрий.
Ответом ему стали уже вполне ощутимые смешки, лишь дозорный в шлеме по-прежнему никак не реагировал на его реплики, а так и стоял, замерев, словно живая статуя. А потом в лесу полыхнуло огнём, и сухой, нарастающий треск выдал в этих вспышках выстрелы из автоматического оружия. Юрий инстинктивно попятился к пришвартованной лодке.
— Не бойся, — сказали ему, — здесь тебе ничего не грозит.
— А я и не боюсь, — солгал Юрий.
— Всё верно, молодец, — кивнул ему чистильщик оружия, затем в его голосе Новиков-младший услышал оттенок чего-то странного: подобострастия, граничащего с обожанием. — Верно, что не боишься. Потому что там в лесу — Шатун.
Юрий выпрямился, расправил плечи, решив, что ему не мешало бы закурить, и заметил какое-то движение между деревьями. И следом из леса появился человек в таком же камуфлированном шлеме и с оружием наизготовку. Он быстро пересёк Дмитровский тракт, подошёл к дозорному, и Юрий услышал:
— Всё нормально, силовой кабель не раскопан. А вот телефонная линия перебита. Но Шатун уже нашёл разрыв, и его устраняют.
— А почему стреляли? — последовал вопрос, и Юрий вздрогнул.
— Да пришлось отогнать одну мерзкую тварь. Здорова больно, таких не видели. Шатун сказал «вольно», можно расслабиться.
Масляная тряпка прекратила своё движение. Чистильщик оружия посмотрел на Юрия и вдруг улыбнулся ему хорошей открытой улыбкой.
— Всё, бойцы, отбой! — громко произнёс человек, появившийся из леса.
Дозорный кивнул, а затем быстрым и грациозным движением снял шлем, и взгляду Юрия предстала — хотя он, наверное, уже знал, что сейчас увидит, — рассыпавшаяся по плечам копна волос.
— Это женщина? — изумлённо пролепетал Новиков-младший.
— Ну да. — Чистильщик оружия весело ему подмигнул, словно все только и ждали этой команды «вольно». — Обычно она заплетает косичку, но сегодня тебе повезло, парень, ты вытащил джокер и можешь по достоинству оценить её гриву.
— Молчи, Колюня! — Голос женщины оказался низким, с хрипотцой, и от этой хрипотцы, а может, потому, что чувство страха моментально отпустило его, Юрий ощутил какое-то тепло в низу живота. — А то я выщиплю остатки твоих жиденьких волосёнок по одному.
— А он только этого и ждёт, — сказал кто-то.
— Но надеется, что ты начнёшь не с головы, — заметил ещё кто-то. — У них, мазохистов, где больнее, там и слаще.
— Обе операции доставят мне удовольствие, мальчики, — усмехнулась женщина, а потом пристально, оценивающе посмотрела на Юрия.
И он увидел, какие у неё синие, отражающее морозное небо глаза и длинные трепетные ресницы, и приливное тепло в низу живота прошлось новой волной.
— Я Раз-Два-Сникерс, — сказала она. — И если этим твоё любопытство исчерпывается, можешь передать конверт мне.
Юрий сглотнул. И быстро взял себя в руки. Всё же и в Дмитрове, и в «Лас-Вегасе» Новиков-младший считался главным плейбоем. Да и здесь он единственный сын главы полиции, прибыл по личному поручению батюшки.
— Я бы с удовольствием, красавица, — ответил Юрий, — но боюсь, меня попросили лично Шатуну. — Он выдохнул.
И тут же добавил: — Но у меня есть много другого интересного.
— Правда? — Она посмотрела на него с холодным удивлением, но без вызова. — И что же это?
— Мы могли бы обсудить приватно, — попытался с улыбкой посулить Юрий, немножко злясь, что так и не удалось добавить в голос привычной вальяжности — вид женщины-воительницы порядком выбил его из колеи. — Приватно — значит вдвоём.
— Как интересно, — протянула она; смысловая связка «холодное удивление» в её глазах начала резко перевешивать влево. — Мне давно не делали таких щедрых предложений.
Юрий этого не видел.
— Я бы покатал тебя на своей лодке. А она у меня быстрая. — Он наконец-то развеселился. — О-о-о-очень быстрая! Ты даже смогла бы порулить этой штуковиной. — Вальяжность вернулась, и Юрий игриво уточнил: — Я про лодку.
Он даже не обратил внимания на повисшую вокруг тишину. А может, и обратил: привычка исполнять роль главного героя в различных светских зрелищах уже начала играть с ним дурную шутку.
Она молча смотрела на него. Затем сказала:
— Забавно.
— Да, в общем, скучно не будет, — заверил Юрий.
Её глаза сузились.
— Ты, наверное, немножечко того?
— А то! — радостно согласился Юрий.
В мире Новикова-младшего понятия «того», «безбашенный», «отмороженный» и прочие в том же духе котировались за высшую степень похвалы, и дабы закрепить успех, Юрий решил выдать набор своих привычных шуточек:
— Я вскружу тебе голову, женюсь и испорчу тебе жизнь! — Его понесло без тормозов. — Кстати, что это у тебя за имя такое? Почему Раз-Два-Сникерс?
Она посмотрела на носки своих тяжёлых ботинок, подняла голову и наконец улыбнулась:
— Ты правда хочешь знать?
— Очень! Мне кажется, там какой-то сюрприз. Раз-Два… сюрприз.
— Хорошо.
Она сделала к нему шаг, развязно качнув бёдрами. Ещё один. Улыбаясь, подошла вплотную. Юрий почувствовал её запах и нашёл его возбуждающим.
— Ты меня интригуешь, — выдохнул Юрий.
Она вдруг прильнула к его мужественно-небритой щеке, провела по ней языком, и Юрий почувствовал её руку на своей ширинке, нежное поглаживание; она низко шепнула ему на ухо:
— Там правда сюрприз, малыш.
— Уж я чувствую.
Юрий привык, что дмитровские девушки вешались на него гроздьями, и подобный поворот событий его не особо удивил. Вот только и бёдрами она качала так же, как все те кулёмы, да и всё остальное, что, в общем-то, принижало показавшийся таким сексуальным образ женщины-воительницы. Юрий испугался, что вот-вот почувствует подступающую скуку. Хоть опасаться ему следовало совсем другого.
Её пальцы с неожиданной силой сжали его мошонку. У Юрия округлились глаза. Но он всё ещё пытался улыбаться, приняв это за игру. А потом она просто повернула руку, словно заводила часовой механизм. Хриплый всхлип сорвался с губ Юрия — хватка у неё оказалась железной.
— Это «Раз»! — наставительным тоном пояснила она.
— Пусти! — задохнулся Юрий.
Боль раскалённым огненным параличом пронзила всё тело. Он слышал, что подобные штуки могут «выключить»; слышал, что бабы знают про это и пользуются, но сейчас было так больно, что всё когда-то слышанное им просто перестало существовать.
— Пусти, ненормальная! — завизжал Юрий, слёзы выступили у него на глазах.
— А это «Два», — сказала она и повернула руку ещё дальше.
И всё, что Юрий прежде знал о боли, оказалось лишь цветочками, совершенно несущественным, недостоверным. Белое, слепяще-белое и расплавленное, вонзилось иглами в его мозг и сожгло его нутро, мгновенно испарив остатки воли. Осталась только боль, и боль стала им. И откуда-то издалека послышался голос женщины.
— Может, хочешь ещё узнать про «Сникерс»? — с участием поинтересовалась она.
Юрий не мог отвечать; обливаясь слезами, он лишь только слабо прохрипел. Он бы с удовольствием заверил её, что вовсе не интересуется именами, ни странными, ни обычными, и никогда не интересовался, — да не смог. Мозг выключился, отошёл на покой, не оставив прощальной записки. Ничто в нём больше не могло передавать импульсов движения, чувствовать, реагировать. Перед глазами всё плыло, и где-то за пылающим ореолом, что обрамлял белый пульсар в его мозгу, послышался совсем другой голос, которому, ещё не дослушав его до конца, хочется доверять:
— Отпусти его, амазоночка. У него и так нет яиц, оставь ему шанс.
Хватка чуть ослабла. Юрий смог глотнуть воздуха. В белом пульсаре проявились какие-то контуры, словно из него выступила и снова скрылась соляная статуя. Потом Юрий понял, что сквозь преломление собственных слёз смотрит на скульптурную композицию правой башенки шлюзовых ворот. Если б его отпустили, он, наверное, смог бы поведать миру, что сейчас увидел. Потому что его сознание, скорее всего, помутилось; с какой-то наплывшей растянувшейся тоской он подумал: неужели всё это из-за неимоверной боли, сковавшей его пах и кастрировавшей реальное восприятие?
Юрий даже не осознал, что хватка давно ослабла, а картинка так и не изменилась: красноармеец, знакомый дружок с отколотой половиной башки, только что вновь весьма необычно оживил её. Только что, словно мерзкий шелудивый пёс, он совершал фрикции, непристойные движения тазом, и штык его винтовки, улавливающий искорки морозного солнышка, ходил вверх-вниз. А скульптурная колхозница-активистка, склонив голову набок, с интересом за всем этим наблюдала.
— Отпустила б ты его, — мягко попросил тот же величественный голос. — Пожалуйста. Похоже, это сынка моего компаньона.
— Уже, — сказала Раз-Два-Сникерс и весело, почти дружественно взглянула на Новикова-младшего.
— Всё. Всё прошло, — услышал Юрий величественный голос, обращённый теперь только к нему.
И действительно было уже не больно. Всё прошло, куда-то подевалось. Да и скульптурные композиции давно замерли; мысль о том, что они могли двигаться, показалась сейчас просто кощунственной.
Перед Юрием стоял неимоверно большой человек, гигант, каких Новиков-младший прежде никогда не видел. Казалось, что этот человек какого-то другого масштаба и всё окружающее надо просто несколько увеличить. И если б ему вздумалось сложить пальцы руки, на которой красовались массивные перстни, то кулак получился бы не меньше новиковской головы. Вышедшая с ним из леса вооружённая группа была в камуфляже и в шлемах, но его длинные седые волосы свободно падали на плечи, а красиво стареющее лицо оказалось исполнено силы и какой-то зловещей весёлости. В зубах его перекатывалась крошечная спичка.
— Можешь отдать конверт мне, — попросил он.
Смотрел гигант прямо и почти ласково. И в голосе его и в лице присутствовало что-то притягательное, какое-то пугающе-притягательное тепло, которому очень сложно противостоять.
— Давай, — кивнул он просто.
Юрий послушно полез в сумку и, словно загипнотизированный, протянул ему конверт с гербовым сургучом. Высший уровень секретности. Лишь когда гигант небрежно сорвал печать, Юрий опомнился:
— А ты Шатун?
— А ты сомневаешься? — в тон ему ответила женщина.
Юрий предпочёл промолчать. А потом быстро, украдкой, бросил взгляд на скульптурную группу. Красноармеец…
Раз-Два-Сникерс проследила за его взглядом.
— Тебе что-то показалось? — усмехнулась она.
— О чём ты?
Она весело посмотрела на него и подмигнула:
— Да так…
— Ничего не показалось! — отрезал Юрий.
Он был зол — не то слово как зол на неё. А потом, он и вправду до конца не знал, что там увидел, что именно. Новиков-младший перевёл взгляд на Шатуна и чуть смутился. И вдруг его посетила какая-то неуютная, наверное, даже крамольная мысль, что всё это из-за гиганта. Юрий так и не понял, что всё это значит, лишь мутное неприятное ощущение, но почему-то ему показалось, что если бы Шатун сейчас захотел, гипсовый красноармеец на радость девице-колхознице опять бы поиграл со своей винтовкой. Если бы Шатун захотел, многое в этом умирающем мире смогло бы сорваться с точек своего равновесия.
Юрий потряс головой, поспешив взять себя в руки. «Скверное место, — подумал он. — Дурь всякая в голову лезет. — И эта мысль принадлежала уже полностью ему. — Отец прав, следует поскорее валить отсюда».
— Ничего, парень, свыкнешься, — неожиданно мягко произнесла женщина. Она смотрела на башенку шлюзовых ворот, её зрачки сузились и потемнели. Юрий не стал ей возражать, лишь зябко передёрнул плечами.
Так полгода назад Юрий Новиков впервые увидел Шатуна. Так он встретился с Раз-Два-Сникерс. Но сюрпризы для него на этом не закончились.
4
— Ладно, зови его, — послышалось из-за открытой двери бункера. — Кажется, мы можем поговорить.
«Ну, вот, громила вроде бы решился», — удовлетворённо подумал Юрий. Когда Шатуна не было рядом, Новиков-младший мог позволить себе думать о нём в таких категориях. От этого ему становилось легче и поднималась самооценка. Другое дело, когда он сейчас спустится в бункер и окажется с Шатуном лицом к лицу. (Кстати, чего это он торчит в своей полутьме в такой погожий солнечный денёк?!) Тогда кое-что изменится. У всех, кто оказывался с Шатуном лицом к лицу, кое-что менялось. Словно они попадали под морок его зловещего отвратительно-весёлого обаяния. Кому-то это было искренне необходимо.
Отношение людей Шатуна к своему патрону, как не без жутковатого холодка осознал Юрий Новиков, было чем-то большим, чем простое субординированное уважение, и даже большим, чем преданность. Как ни странно, единственной, кто не смотрел на Шатуна с прямым обожанием, оказалась Раз-Два-Сникерс, хоть она вроде бы и считалась его женщиной. И вот эта эмоциональная устойчивость, которую люди неискушённые могли принять за холодность, восхищала и влекла Юрия ещё больше.
Ничего, он знает, как можно побороть смущение. Один малый, преподававший в батюшкином ведомстве курс психологического тренинга, обучил его. Надо просто представить собеседника голым. И всё развеется. Юрий даже хмыкнул, представив, как нелепо будет смотреться голый Шатун в перстнях, весь обвешанный оружием и сидящий за своим столом с важным видом, и ему действительно стало легче.
Он почти не сомневался, что ему удастся нанять Шатуна. Он проделал слишком большую работу, чтоб оставить место для сомнений. Как любит говаривать батюшка, чего нельзя сделать за деньги, можно сделать за большие деньги. Что не выйдет за большие, может сработать за интерес. Главное — отыскать ключик. И нет ничего такого, чего нельзя было бы сделать, смешав бабло и кровную заинтересованность.
Сейчас Юрий Новиков обладал подобным миксом. Выражаясь фигурально, он долго и тщательно готовил этот коктейль, смешав ингредиенты, как он полагал, в очень верных взвешенных дозах. Работая над этим сложным коктейлем, Юрий Новиков и сам начал меняться, найдя это занятие гораздо увлекательнее всего, что он делал прежде.
В каком-то смысле он был даже благодарен Еве за то, что она так с ним поступила, сделала с ним такое. Вот ведь как иногда получается! Он ненавидел Еву, но и был ей благодарен, желал, можно сказать — любил. И засыпая, он представлял, как проделает всё это с её телом. Столь сложные страсти могут ли быть когда-либо удовлетворены?
Сбежавшая невеста, на которую ему, в общем-то, было раньше наплевать, превратилась в изменницу, разбудившую вулкан. Юрий хотел её настичь. Наказать. И любить. Хотел, жаждал до дрожи, до раскалённой боли в низу живота. Он никогда прежде такого не чувствовал: секс, за которым стоят столь непростые и противоречивые чувства, — это уже не просто секс. Это вам не шалам-балам! Примерно так же, как и с Раз-Два-Сникерс, хоть там и всё по-другому. Ещё один коктейль…
Юрий Новиков вдруг вздохнул: вот такой вот теперь стала его жизнь. И может быть, дорогой и почитаемый батюшка наконец-то заметит, что в этом мире есть кто-то ещё тоже немножечко достойный, кто-то ещё, а не только дующий в уши вечный подпевала Трофим.
Из-за внешней металлической двери бункера показалась Раз-Два-Сникерс.
— Давай заходи, — сказала она. — Тебя ждут.
И посторонилась. Когда Новиков-младший проходил мимо, она чуть подняла руку, словно взялась за невидимый бильярдный шар, и, по-свойски подмигнув Юрию, мол, у меня к тебе есть невероятно заманчивое предложение, дружок, два раза повернула шар в воздухе.
— Очень смешно, — буркнул Юрий.
Однако спускаясь по бетонной лестнице к Шатуну, он расхохотался, как будто это было и вправду смешно. Как будто, это смешное произошло полгода назад совсем с другим человеком.
5
Юрий Новиков вот уже с четверть часа сидел на стуле напротив кресла Шатуна и не мигая смотрел на танцующую под переливный колокольчик балерину. По видимости, он спал или находился в гипнотическом трансе, Шатуну было наплевать, как это называется. Он знал, что когда парнишка входил сюда, то пытался представить его голым. Так, по совету какого-то умника, он надеялся побороть смущение. Но не смог.
Его внимание привлёк патрон калибра 7.62, который Шатун крутил в пальцах, а потом Юрий посмотрел ему в глаза. Чуть заметно облегчённо улыбнулся, увидев в его нежном внимательном взоре пляшущие огоньки, и сжал губы, словно собирался глотнуть, когда Шатун медленно поднял патрон, описывающий круги, на линию взгляда.
— Ведь это очень красиво, — сказал он проникновенно.
Юрий Новиков выдохнул, что, по-видимому, означало согласие. По мышцам его лица прошла лёгкая судорога, губы так и застыли в завороженной улыбке. А затем он обмяк и раскрылся, как книга, вытащенная из тени. И Шатун там покопался, полистал хорошо скрываемые страницы. Но надо сказать, бережно, не сплёвывая на пальцы, — ещё один со съехавшими мозгами в этом деле было бы явным перебором. Хотя, как не без интереса узнал Шатун, парнишка и сам здесь поработал. В голове у него оказался запрятан целый букет сюрпризов. Но вся эта любовь-ненависть Шатуна не интересовала. Мило, конечно, но не выходит за рамки частных определений.
Шатун поставил перед Юрием музыкальную шкатулку с балериной, танцующей блюз, и склонился к его лицу. Бережно, не касаясь кожи, провёл пальцами вдоль щеки, с любопытством послушал дыхание. Механический завод шкатулки заканчивался, от этого звуки сделались печальными, словно прощались, невыносимо трогательными. В каком-то смысле вот этот прощальный момент, ускользающее сожаление, совпадал, был созвучен с тем, чего ждал Шатун. С тем, что всё ближе и ближе. И тогда мы скажем «пока-пока» и заведем уже совсем другую музыку.
Шкатулка смолкла, балерина в нерешительности остановилась, не завершив своего па. Крылья носа Юрия Новикова задрожали, а губы сложились в слегка капризный росчерк.
— Тихо-тихо, спи, малыш, — нежно прошептал Шатун. — Совсем скоро папочка тебя разбудит, а пока спи.
Лицо Юрия разгладилось, и этот доверчивый момент Шатун тоже нашёл восхитительным. Однако же как может всё удачно складываться, если ты на правильном пути. Мир, невзирая на заржавелые шестерёнки, поворачивается к тебе лицом, а люди приходят и сами всё дают. Движимые своими забавными страстями, они сами, не догадываясь, делают то, что тебе нужно.
Если ты на правильном пути.
Шатун огромной рукой загрёб со стола свою музыкальную безделицу и принялся не спеша поворачивать ключ.
«Б-ррр-ы-ы-м-з-з!»
Пусть малыш ещё немножко поспит, хотя тайных страничек в его голове вроде бы не осталось. Есть кое-что, с чем следовало бы разобраться, но для этого существует Раз-Два-Сникерс. Кстати, единственная девочка из учеников Тихона.
«Б-ррр-ы-ы-мз!»
Шатун уже давно догадывался, что Тихон начал кое-что скрывать от него. Не доверял, приглядывался и скрывал что-то важное, о чём знал, например, Хардов. И другие… джедаи Тихона. А ведь Шатун вовсе не собирался той ночью оказываться на «линии огня». Вовсе не собирался попасть под взгляд Второго. Он прикрывал всех, когда это случилось, и сам не знал, что его подтолкнуло чуть замешкаться: может, воля Второго, может, чувство вызова — ведь Хардов смог в своё время с этим справиться, а может, быстрый, еле уловимый укол… любопытства. И хоть в какой-то момент ему показалось, будто у него вскипели мозги, Шатун вроде бы убедил всех, что ему удалось противостоять мёртвому свету. Что ничего непоправимого не случилось. Ведь с Хардовым же ничего непоправимого не случилось. Скорее, наоборот. Тихон согласился, и остальные тоже. Да, к нему все и относились по-прежнему, как к своему, но… Так, да не так! Будто Тихон ждал, приглядывался и кое-что самое сокровенное всё-таки скрыл. А зря!
«Б-б-ррр-ы-ы-м-з-з!»
Когда-то Тихон учил их, что «средство для достижения цели и есть твоя подлинная цель». Старый добрый Тихон умел пускать пыль в глаза. Тихон и его джедаи (Шатун усмехнулся). Интересно, вяжется ли это с тем, как поступили с ним?
— Подожди, — говорил ему Хардов, почти его брат. — Не делай спешных, неправильных выводов. Тихон должен только убедиться. Ты ведь и сам не знаешь, насколько глубоко проник мёртвый свет. Но и ты, и я знаем, на что он способен. И знаем главное — что ему можно противостоять. Тихон должен убедиться, и всё вернётся на свои места. Станет по-старому.
И тогда Шатун спросил:
— А ты мне веришь?
— Да, — без промедления ответил Хардов.
— Тогда ты мне скажи. Ведь он был твоим учителем.
На мгновение отсвет какой-то давней потаённой муки полыхнул в серых глазах Хардова. И в этот миг Шатун был готов его обнять, и тогда многое могло бы быть по-другому. Но этот неповторимый момент оказался упущенным.
— Нет, — просто сказал Хардов. — Я дал слово.
«Б-б-ррр-ы-ы-м-м-з-ззз!»
Только и это для Шатуна осталось в прошлом. Когда вас зажимают в угол, на помощь приходят совсем другие решения. Вот глава Дмитровской водной полиции стал тем самым другим решением. Но Шатун не сожалел. Тихон всегда учил их не сожалеть о прошлом, и он хорошо усвоил уроки.
Он теперь сам по себе. И он теперь стал значительно… больше. Шатун вдруг удивлённо хмыкнул, но это так. «Больше» — правильное слово. Только так мы сможем сказать «пока-пока» и завести совсем другую музыку. Новую чистую мелодию.
— Как говаривал один чувачок, — наставительно обратился он к неподвижному Новикову-младшему, — у нас теперь нет союзников, у нас есть только интересы. — По лицу Новикова не представлялось возможным определить, как он относится к подобной сентенции, и Шатун добавил: — Правда, это было давно, пока мир ещё не окончательно съехал с катушек.
По лицу Юрия пробежала тень комичной тревоги, и Шатун подумал, что малыш нравится ему всё больше. Конечно, подлинное безумие его раздавит, но парнишка ещё явно не полностью раскрыл свои возможности.
— Я ценю твою восприимчивость, — заботливо сообщил Шатун бездвижной кукле в человеческий рост. — Но лучше прибереги всё это для более достойных дел.
А потом он закрыл от него свои мысли, чтобы малыш не двинулся мозгами преждевременно. «Ему повезло. И может быть, я позволю ему пройти немножко со мной и увидеть одним глазком, что там, за подлинным безумием. Которое всё ближе, ближе…»
Шатун ждал его. Он ждал подлинного безумия. Как дара Господа, который давно покинул этот мир. Как дара Господа, который давно свихнулся, а скорее всего, был безумен изначально, и именно там, в этой ослепительной подлинности, возможно, Шатуну суждено встретиться с Ним…
«Б-б-ррр-ы-ы-м-з-з»
(когда он пройдёт сквозь туман)
«Б-б-ррр-ы-ы-м-з-з-з»
Он совершил последний оборот завода. И замер. Прислушался. Словно полнозвучная тайная мелодия, которая жила в шкатулке, вот-вот прорвётся наружу. Словно те великие чувачки, что выходили к нему у загадочной насосной станции «Комсомольская», великие фрики (вот кто был по истине безумен!), создавшие всю эту восхитительную музыку, сейчас благословят его.
пройти сквозь туман?
прямо сейчас?
Шатун вдруг почувствовал прилив ликования и одновременно слёзы, которые вот-вот выступят на глазах. Такое случалось. В редкие минуты, когда он думал, что готов. Готов отправиться в путь прямо сейчас, и великие фрики, таящиеся в тенях у станции «Комсомольская», благословят его. Но он умел моментально брать себя в руки. Дел впереди ещё немало. Шатун с какой-то заботливой нежностью улыбнулся Юрию Новикову. Тайных страничек в голове малыша вроде бы не осталось. Википедия, упрятанная в его башке, а точнее, в нашем случае, Малышепедия, сообщила всё, что ей известно.
«Я смогу дать вам то, что вы ищете».
«А парнишка-то вырос, — подумал Шатун весело. — И у него развито воображение. Надо же, какие образы: „коктейль“, „дорогой и почитаемый батюшка“… А то, что он собирается вытворить со своей сбежавшей невестой?!»
Шатун посмотрел на Новикова-младшего не без доли восхищения. Вполне возможно, что такой парнишка не ошибается, что он и вправду сможет.
— Значит, ты пришёл меня нанять, малыш? — ласково сказал Шатун. Веки Юрия еле заметно задрожали, будто их обдуло ветерком. — Считай, что я у тебя в кармане. Всё, ОК, договорились.
Ни один мускул не дрогнул на лице Новикова-младшего, но теперь он выглядел так, словно был очень счастлив, грезил с открытыми глазами о чём-то очень хорошем. Ну что тут скажешь? Вот вам, пожалуйста. Шатун запустил музыку, взялся за шкатулку двумя руками, словно она была ребёнком. Поднёс её то ли ближе к уху, то ли к сердцу. Он теперь знал, что глава полиции не стоит за действиями сына.
«Если б невеста не сбежала, — изумился Шатун, — это надо было бы выдумать». Удивительное дело: тебя приходят нанимать, а на самом деле это ты наниматель. Тебе приносят мешок денег, а выглядят при этом как дитя, усыпанное рождественскими подарками.
Складка беспокойного недоумения отразилась на лбу Юрия Новикова.
— Т-с-с, — прошептал Шатун. — Всё хорошо. Всё просто прекрасно.
Малыш тут же ему поверил, и гигант счёл это очень милым.
— А будет ещё лучше, — пообещал он.
Вырос, вырос малыш… да не особо. Всё ещё прячется за грозную тень батюшки, хотя ему кажется — наоборот. Эй, чувачок, а с таким багажом далеко не продвинешься.
— Ничего, — успокоил Шатун. — У нас впереди полно достойных дел.
Когда парнишка вошёл сюда в первый раз, Шатун обратил внимание на его баснословно дорогие швейцарские часы. Золотой хронометр «Omega» с вечной гарантией. Сейчас он подумал: вот ведь как интересно — и Швейцарии с её шоколадом (навязчивой идеей Раз-Два-Сникерс, у всех у нас свои пунктики), банками и часовым производством, вероятно, давно нет, по крайней мере, достоверно об этом ничего не известно, нет и человека, выдавшего эту вечную гарантию, а часы всё ходят, словно помнят о его обязательствах. Чем не метафора происходящего вокруг?
Ещё очень интересно, что вопреки всяким метафорам (а может, напротив, сообразуясь с ники) вернулось то, за что так бился всю жизнь и продолжает биться сейчас дорогой и почитаемый батюшка нашего визави. Вернулись «ценности». И бессмысленная безделушка, болтающаяся на запястье малыша, стоит почти вровень с великолепным плавсредством, на котором он прибыл и которое, случись что, могло бы спасти жизнь. Хотя в пору, когда Шатун пребывал в возрасте развалившейся тут куклы, самым ценным были патроны, еда и нарезные стволы, сообщавшие всему этому смысл. Что ж, значит, глава полиции не зря так усердно трудится на своём рабочем месте. Он, как и Тихон, считает, что мир постепенно восстанавливается, жизнь налаживается. Что этот вконец одряхлевший и воистину давно уже безумный, как и умыкнувшее самое себя присутствие Господа нашего, мир ещё можно спасти. И что ещё удастся зализать раны. Ну, не комики ли они?
Шатун и сам не заметил, как начал легко пританцовывать под музыку.
Нет, они и вправду комики. Между ними гораздо больше общего, чем они полагают. И уж точно гораздо больше общего, чем у каждого с Шатуном. Им бы следовало объединить усилия, глядишь, чего бы и вышло. Им бы создать священный союз, объявить крестовый поход. Да что там говорить, им бы стать парочкой и ходить за ручку, как шерочка с машерочкой, а Шатуна обложить, как бешеную собаку. А они ну прям дети малые…
Лёгкий смешок слетел с губ Шатуна. Юрий Новиков оказался тут как тут, немедленно радостно разулыбался вслед, что придало ему сходства со счастливым идиотом.
— Прекрати, — наставительно сказал Шатун. — Знаешь, гиды — они не такие уж плохие, вовсе нет. Люди относятся к ним с недоверием, а это несправедливо. Мои претензии к ним совсем не в том. Возможно, кое-кого из них и стоит остерегаться, но в целом они заслуживают гораздо большей признательности. И уважения.
Брови Юрия теперь удивлённо поползли вверх, и после секунды напряжённой умственной работы лицо застыло в протестующей маске.
— Ну, как знаешь, — вздохнул Шатун.
Он мог бы сказать ему, что его претензии к гидам гораздо глубже, не в том, что они плохи, а в том, что они недостаточно хороши. Что гиды тоже хотят пройти сквозь туман. Но они делают это, чтобы всё сохранить или хотя бы попытаться сберечь то, что возможно. Шатун же ради этого готов всё разрушить. Ну, и с кем по пути дорогому и почитаемому батюшке?
Такие дела. Вместо этого Шатун решил не забивать парнишке голову. И хоть проснувшись (Шатун сейчас, уже совсем скоро, начнёт свой счёт, и когда скажет «три», парнишка пробудится), он ничего не вспомнит, но кто там знает, насколько прочны предохранители в его мозгах.
А малыш нам ещё понадобится. У нас впереди уйма достойных дел, и нужно, чтобы малыш был в форме. По крайней мере, не закипел раньше времени. Малыш с его буйными фантазиями — страстями, сокрушительными реваншами и прямо-таки восхитительным, хоть и изумившим Шатуна замесом любви-ненависти, — лучшая… прикрышка (опять правильное слово!) для взаимоотношений с главой полиции. Чёрт, да родись Новиков-младший в другое время (ну и, конечно, в другом месте), он мог бы быть одним из этих сукиных детей, свихнувшихся римских цезарей, что читали стихи, обрядившись в женское платье, и сжигали Вечный город.
Шатун с трудом удержал шальной смешок, с восторгом глядя на малыша. Затем, совсем уж как дитя, прижал к себе музыкальную шкатулку и с неожиданной для своих размеров грацией совершил несколько па, то ли копируя свою балерину, то ли кривляясь и передразнивая её.
Новиков, наш мудрый лев, обожает повторять старую ментовскую присказку, время от времени меняя лишь самоназвание: то «легавые», то «мусора». «Мусор может быть старым. Мусор может быть тупым. Но не может быть старого и тупого мусора».
А вот тут наш дорогой и почитаемый батюшка сильно ошибается.
Шатун танцевал. Его разбирал смех.
Глава 8
Через болота
1
В 7:15 утра большая осадистая одномачтовая лодка «Скремлин II» словно внезапно появилась на канале значительно впереди растянувшегося купеческого каравана.
— Откуда они взялись? — удивился приказчик на головной лодке из принадлежащих крупнейшему дмитровскому негоцианту Климу Ниловичу Бузину. Караван направ лялся из Дубны в Дмитров и спешил побыстрее отшлюзоваться и войти в Длинный бьёф. — Мы вроде шли первыми.
— Выскочили из тумана, — пошутил кормчий. Приказчик ходил с ним уже не одну навигацию, человек он был опытный, рассудительный, но, как это водится у гребцов, весёлого нрава. Кормчий обожал пугать народ всякими небылицами, а его истории за камельком на промежуточных станциях, когда за стенами крался туман, потом долго не давали приказчику уснуть. — Не боись, паря, мы эту посудину враз догоним.
Но «посудина» продемонстрировала на удивление резвый ход. И поравняться с ней удалось спустя без малого полтора часа. Точнее, к нижним воротам шлюза № 2 они подошли одновременно. К тому моменту обе команды уже вовсю перекидывались разными шуточками. Но сегодня был хороший день, из таких, когда приказчик и сам бы с удовольствием посмеялся над любыми байками.
* * *
А значительно ранее в это же утро Колюня по прозвищу Волнорез, тот самый, что советовал Юрию Новикову не разбирать автомат, дабы не заделаться трупом, выдал своё первое умозаключение:
— Утро может быть добрым даже для такого мерзкого местечка, как шлюз номер два.
В 6:13 оставшийся за старшего Колюня вывел бойцов на утреннюю зарядку. Сознательно или неосознанно, он во всём пытался копировать Шатуна, но, конечно, ему было далеко до ёмких, метких и удивительно подходящих ситуации фраз гиганта. Но Колюня старался. Он учился и умнел. Кстати, слегка пренебрежительное оплёвывание после наиболее удачных фраз тоже входило в этот увлекательный процесс обучения.
— Стройся! — отдал команду Колюня.
Едва оказавшись на улице и вдохнув полной грудью, Волнорез понял, что им послан ещё один хороший день. Да что там говорить, по всем признакам сразу становилось ясно, что этот день выдался даже лучше предыдущих. Чувствовали это и бойцы, сводная группа людей Шатуна и командированных в его распоряжение дмитровских полицейских.
— Каждой твари в этом мире выдано время для радостей, — выдал Колюня свою вторую за этот день сентенцию. И, глядя на довольные, улыбающиеся лица подчинённых, сплюнул и добавил: — Как говаривал мой папашка…
— Не ври, Волнорез, — послышалось из шеренги. — Ты не в курсе, кто был твоим папашкой.
Чёрт, это правда! Насчёт папашки Колюня-Волнорез, сирота, прибившийся на канал с беженцами из Твери, несколько преувеличивал.
— Эх, Варлам, — добродушно отозвался Колюня, — зато я точно знаю, как многим ты мне обязан: я единственный, кто не спал с твоей мамашкой.
Вышло немного заковыристо, и народ заржал не сразу, а где-то через пару секунд, но Колюня остался доволен. Едва удержался, чтобы не сплюнуть.
Раз-Два-Сникерс в этих развлечениях для мальчиков не участвовала. Хотя все знали, что она уже минимум как с полчаса практикует свои мудрёно-чудные дыхательные упражнения на специально расчищенной у берега площадке.
* * *
В 6:45, перед самым завтраком, Колюня бросил взгляд на пока ещё чистую гладь канала и понял, что не ошибся. Туман, стоявший по обоим берегам, вроде бы ещё несколько отполз от воды и ещё проредился, совсем не давая тени. Над шлюзом было светло, на канале стояли самые благоприятные дни. В бездонной синеве неба с ночи застрял тоненький серпик месяца, который теперь спешил свалиться за стену тумана, и можно было с лёгкостью предположить, что где-нибудь в Дмитрове или даже в Дубне по своей стороне воздух напоён той самой звонкой утренней прозрачностью, что бывает лишь в самом начале лета.
— Каждой твари… — довольно буркнул Колюня, но решил не повторяться.
Вдали по берегам туман казался ослепительно белым, как облака в погожий день, без тёмных подбрюший и даже без единой болезненно-ядовитой прожилки, и при желании представлялось, что ты находишься на широкой улице со светлыми домами по бокам. Хотя Колюня-Волнорез знал, что всё это есть — болезненно-ядовитые прожилки, есть и уже начало созревать, набухая где-то в неведомой жуткой глубине мглы, готовя перемену. Как-то раз Шатун то ли в шутку, то ли всерьёз сказал ему, что всё это напоминает женщину с её циклами.
— Беда только в том, что циклы постоянно сбиваются, — угрюмо бросил он, — и неизвестно, когда и какого ждать подарочка.
Колюня покивал, но смутился. Он не хотел ничего об этом знать. На свою беду Волнорез обладал богатым воображением, в отличие от Шатуна или того же Хардова, и представление тумана живым существом внушало ему беспокойство.
— А ты бестолковый, Санчо Панса! — рассмеялся Шатун.
— Ага, — согласился Колюня. — А кто это?
* * *
В 7:32, после завтрака и короткого перекура, Волнорез поднялся к Раз-Два-Сникерс в главную диспетчерскую башню. Хоть его и оставили за старшего, но всем ясно, кто тут верховодил в отсутствие Шатуна. Кстати, Раз-Два-Сникерс никогда подобного факта не выпячивала, не хотела, чтобы «мальчики ссорились» или «комплексовали». Колюня её шибко уважал. Почти так же, как Шатуна.
— Скоро появятся первые лодки, — сказала Раз-Два-Сникерс, глядя на пустую пока гладь канала. Отсюда было красиво, вся водичка в солнечных бликах.
— Ага, — кивнул Колюня. — Со стороны Дубны.
— Скорее всего, птички давно улетели. — Она ему подмигнула. — То, что мы ищем… Но всё равно, надо будет проверить каждую лодку.
Колюня опять кивнул. Они уже прочесали весь канал с момента появления новиковского сынка и, по разумению Волнореза, уж второй-то шлюз эти Хардов с девчонкой давно уже проскочили. Но распоряжение есть распоряжение. И вот целый день они будут возиться с лодками, идущими в сторону Дмитрова. Тупая работа. Колюня вспомнил свой разговор с Шатуном:
— Мне надо будет его задержать, Хардова?
— Попробуй, — откликнулся Шатун. — Но я бы тебе очень не советовал… — Потом он ласково рассмеялся. — Эй, Санчо Панса, тебе надо будет просто сообщить об этом мне. Эй, Хардов — наш друг, понимаешь?
— Ага, — сказал Волнорез.
Он ничего не понимал в этих хитросплетениях. С него достаточно, что для таких тонкостей есть Шатун. А свою работу Колюня выполнит. Хоть и не очень ей рад.
— Что ж, значит, снова будем трясти купцов, — сказал он Раз-Два-Сникерс.
— Да, Волнорез, придётся.
Колюня вздохнул и обернулся к южному окну, глядящему на Длинный бьёф. Лодки из Дмитрова подтянутся позже дубнинских. Расстояние здесь значительно больше, и первые лодки встречного потока окажутся у шлюза № 2 лишь к обеду. Потому что, несмотря на все благоприятные дни и промежуточные станции, только самый отчаянный сорвиголова решится выйти на волну до наступления рассвета.
* * *
В 8:01, когда вдали показался караван лодок, идущих со стороны Дубны, Колюня грелся на солнышке, занимаясь своим любимым делом. Он разбирал и чистил оружие. Для него это занятие было сродни медитации. Колюня думал. Подобные «благоприятные дни» всегда вызывали у Волнореза противоречивые чувства. Нет, он, конечно, очень радовался их наступлению, но что-то тонюсенькое свербило, что-то мутное и глухое не позволяло радости раскрыться на всю катушку. Он не мог понять, что его не устраивало в поведении окружающих, — с чем-то он не мог согласиться, да не знал с чем, — и порой его почти раздражали их довольные умильные рожи. Как бы Волнорез хотел это сформулировать и, смачно сплюнув, избавиться от проблемы. Кстати, ближе всех зыбкий сумрак в его душе нащупал Шатун. Конечно, кто же ещё! Но он не указал выхода. И вот уже с неделю, от прихода первого благоприятного дня, Колюня-Волнорез пребывал в этих смущающих его раздумьях.
Неделю назад, после длинной череды очень плохих дней, — а два из них оказались просто чёрными, и тогда канал опустел, — вдруг случилась перемена. Таким же ранним утром выйдя на улицу, люди почувствовали, что всё стало другим. Накопившееся напряжение, словно прорвавшийся гнойник, отпустило. Другим стал сам воздух. Загалдели птицы, хотя, может, они и всегда чирикали, да было не до них, вернулись запахи, и… как будто их стало можно ощущать душой. Впечатлительному Колюне показалось, что всё стало даже как-то больше. Он застенчиво улыбнулся и понял, что такие же улыбки застыли на лицах многих. Все обменивались понимающими благожелательными взглядами и прямо-таки светились.
Да, совершенно очевидно, наконец-таки пришли хорошие, благоприятные дни. Произошла ещё одна перемена, и… Что не так? Что у Колюни свербит, откуда это смутное беспокойство? Вот тогда-то Шатун, глядя на эту атмосферу торжественной приподнятости, с ухмылкой шепнул Колюне, что все они похожи на секту ранних христиан, дождавшихся своего тайного праздника Пасхи. И встретившись с непонимающим взглядом Волнореза, пояснил:
— Их благодушие — всего лишь милосердие тумана.
Что ж, сказано, конечно, затейливо, наверное, позаковыристей варламовской мамашки, да только Колюня-Волнорез готов за Шатуна расшибиться в лепёшку.
* * *
В 8:47, когда к нижним раздвижным воротам подошёл купеческий караван, Раз-Два-Сникерс дала отмашку на начало шлюзования. Колюня-Волнорез лично возглавил группу досмотра. Среди лодок, готовых войти в камеру шлюза и занять своё место у рыма, была и та, что, по разумению Колюни, являлась тяжёлым одномачтовым швертботом. На бортах, корме и на спассредствах красовалась выведенная яркими буквами надпись «Скремлин II». Всё по правилам, согласно Речному кодексу.
— Ну и название, — поморщился Колюня. И выдал своё третье за утро умозаключение: — Как корабль назовёшь, так оно и поплывёт.
Пожалуй, это «оно» даже заслуживало отдельного оплёвывания.
* * *
В 10:53 с досмотром и шлюзованием было покончено. Верхние ворота шлюза ушли под воду, открывая лодкам выход в Длинный бьёф. Раз-Два-Сникерс стояла у смотрового окна диспетчерской башни и задумчиво глядела на отчаливающий караван. Обычно она выходила на улицу, особенно в такой погожий денёк, сейчас же, напротив, отступила на шаг в тень, чтобы её невозможно было увидеть с воды. Обычно в подобные минуты она курила трубку с длинным мундштуком или перебирала чётки. Курила Раз-Два-Сникерс крайне редко и не какой-то дешёвый самосад или махорку, а дорогие дмитровские смеси из настоящего табачного листа, по праздникам или когда требовалось прочистить мозги. Так же и с чётками: они помогали сосредоточиться. Перебирание костяшек порой наталкивало на неожиданные мысли, отстранённое созерцание вызволяло скрытые связи между вещами. Сейчас всего этого, наверное, пока не требовалось, но…
— Что же ты ему сказал? — вдруг произнесла Раз-Два-Сникерс.
С документами у всех лодок оказался порядок. Никакого подозрительного груза и вообще ничего подозрительного. Лодки Бузина, одна лодка дубнинской артели производителей сидра, и ещё тяжёлая лодка, единственная, что несла мачту и пригодная для плавания по широкой воде, — «Скремлин II». Раз-Два-Сникерс знала лично и капитана, и официального нанимателя. Невзирая на свои миниатюрные размеры, она питала слабость к крупным мужчинам, которых на канале можно было сосчитать по пальцам, и до Шатуна была с Ваней-Подарком. Они чуть не наделали глупостей, чуть не поженились, привязав свой замочек у памятника Ленину и бросив ключ на дно канала. Но беременность у Раз-Два-Сникерс оказалась ложной, и она выбрала то, что выбрала.
Возможно, она всё реже вспоминала те деньки, но, скорее, с удивлением, тем более что уже давно поздновато что-либо менять и о чём-либо сожалеть. Однако вовсе не из-за боязни встретиться со своим бывшим Раз-Два-Сникерс предпочла схорониться в тень. Возможно, она даже вышла бы и поболтала с ним, тем более было видно, что команда «Скремлина II» никуда особо не торопится, если бы… Лицо Раз-Два-Сникерс застыло. Если бы не пока ещё слабенький голосок интуиции, который, однако, редко её подводил.
— Так что же ты ему сказал? — повторила она, глядя, как лодки снова выстроились в караван и как дружно гребцы взялись за вёсла. — Ваня-Ванечка, а? Что ты сказал?
Её рука нащупала висевшие на спинке деревянного стула чётки. Раз-Два-Сникерс пыталась понять, что она увидела, и пока не могла. Какой-то нюанс во время досмотра, чуть раньше, чем Ваня-Подарок заговорил с Волнорезом, обмениваясь сальными шуточками, что в ходу у мальчиков. Чуть раньше, чем он сказал что-то Матвею Кальяну, которого Раз-Два-Сникерс уже давно заметила, пару лет как, трудно не заметить, ну нравились ей крупные мужики. Матвей Кальян считался хорошим капитаном, и частенько его нанимали гиды Тихона. Ну… и что?
Пальцы пробежались по чёткам, однако Раз-Два-Сникерс решила оставить их на месте. Эти чётки, как и сложенный вчетверо листок из красочного журнала, — это всё, что осталось у неё от детства. Глянцевый листок, пожалуй, был даже важнее, и Раз-Два-Сникерс хранила его вместе с кое-каким документом, подписанным лично главой полиции, в непромокаемом футляре у сердца. Кстати, у Вани-Подарка был тоже документ, о котором сообщил почтительно затихший тут Волнорез. Раз-Два-Сникерс вспомнила о нём и в очередной раз подивилась — Колюня умел быть очень тихим, практически незамечаемым. Тише был только Шатун.
А у Вани-Подарка путевой лист являлся «зелёной картой», подписанной лично Тихоном. Это значило, что лодка «Скремлин И» нанята государственной службой и не подлежит досмотру. Но команда была настроена доброжелательно, и проблем с этим не возникло. Тем более что лодка шла порожняком. И судя по листку, всем службам вменялось обеспечить ей проход по шлюзам, в том числе по так называемым Тёмным шлюзам («Если там осталось кому обеспечивать», — подумала она), потому что лодка шла за пустые земли чуть ли не до Пироговского речного братства. С этими выродками-монахами, которые на самом деле были самыми обычными пиратами, Раз-Два-Сникерс как-то имела дела, но о них уже давно не было вестей. Никто не смог бы с уверенностью сказать, как там сейчас. Даже Тихон. Однако вовсе не это беспокоило Раз-Два-Сникерс, а некоторый нюанс, за который, как крючком, ухватилась её интуиция. И твердит о чём-то все беспокойней и громче, потому как что-то происходит прямо сейчас, пока лодки уходят, а она не может понять что.
— Так о чём таком смешном ты хотел мне рассказать? — не оборачиваясь, спросила она у Волнореза.
— Да говорю ж, с такого бодуна, что север с югом попутал, — забубнил тот, — мамку с пряничком…
— Волнорез! — нахмурилась Раз-Два-Сникерс. — Какой юг, какой пряник, что ты несёшь?!
— Так этот, о ком ты меня спрашивала, помнишь, давно, пока вы с Шатуном ещё не сошлись?! Матвей-то Кальян?
— Ну?
— Дак вот, с такого бодуна, ваще никакой! Какое, говорит, июня? И, бедолага, глаза вытаращил, я уж и говорю, давай, мол, опохмелю тебя.
— Колюня, избавь меня от подробностей ваших мальчиковых забав… — начала Раз-Два-Сникерс и осеклась. — Волнорез, — произнесла она низким голосом. — Что он у тебя спросил?
— Говорю ж, видать, так вчера шары залил…
— Что именно он у тебя спросил?!
— Кто?
— Волнорез, я сейчас тебя пристрелю…
— Кальян, что ли? Дак, это, какое число, говорит.
— Число?
— Ну да! На часы вылупился и на календарь. — Колюня-Волнорез состроил рожу. — «Какое число?», «Какое июня?!»
— Волнорез, не кривляйся, пожалуйста, — попросила Раз-Два-Сникерс.
— Это ж как нажраться-то надо было…
— И помолчи, — добавила она.
— Ага, как скажешь, — согласился Колюня-Волнорез.
И стало тихо. Раз-Два-Сникерс теперь вплотную приблизилась к смотровому окну, лодки отошли уже далеко, и теперь можно было не волноваться, что её заметят.
Интересно: он не знал, какое сегодня число. Опытный, бывалый капитан, один из самых уважаемых на канале. Матвей Кальян, нанятый её бывшим (дело не в том, что он её бывший, дело в том, что он один из самых верных людей Тихона и один из друзей Хардова), прошёл в это утро от Дубны уже приличный отрезок пути, вовсе не представляя, какой сегодня день. Ну что ж, хоть и с натяжкой, но это может ничего не значить. С дикого бодуна, как сказал Колюня-Волнорез.
Раз-Два-Сникерс увидела кое-что другое. Крючок интуиции впился куда-то в спинной мозг и не давал покоя. Она слишком хорошо знала Ваню-Подарка и ценила его не только за размеры.
— Размер имеет значение. — Она мрачновато усмехнулась. Колюня вытянулся по струнке и хоть вины за собой никакой не замечал, но чуял, что дело принимает какой-то иной оборот.
Раз-Два-Сникерс очень хорошо знала Ваню-Подарка и, в числе прочего, ценила его за прекрасное самообладание. Конечно, ведь он же был гидом… в отличие от Матвея Кальяна.
— Так вот что ты ему сказал, — хрипло произнесла она.
На стене диспетчерской башни висели большие часы с метровыми стрелками и календарь, число на котором каждое утро менял Колюня-Волнорез. Нравилось ему это. И часы, и календарь очень хорошо были видны с зоны досмотра. Собственно, для этого они и существовали. И вот что все это время не давало покоя Раз-Два-Сникерс. Матвей Кальян, глядя на календарь, был не просто удивлён, он был изумлён. И Ваня-Подарок, который умел гораздо быстрее брать себя в руки, был удивлён не меньше. Но мгновенно сориентировался и велел капитану успокоиться и ничем не подавать виду. Раз-Два-Сникерс почти воочию услышала твёрдый голос своего бывшего: «Спокойно, дружище. Потом поговорим». Или как-то так.
Очень интересно. Они оба не знали, какое сегодня число. И что? Это действительно могло ничего не значить, лодка-то идёт порожняком. Только…
— Это могло быть чем угодно, только не тем, чем кажется, — промолвила Раз-Два-Сникерс.
— Ага, — откликнулся Колюня.
Она его не услышала. Очень жаль, что сейчас нет Шатуна. Очень жаль, что он опять отправился на свою насосную станцию «Комсомольская». Возможно, ему удастся там кое-что выяснить; она не хотела знать, что он там делает, что именно, при одной мысли об этом к её горлу подступала мутноватая тошнота. Но…
Они оба не знали, какое сегодня число.
(спокойно, дружище, потом поговорим)
— Колюня, — позвала Раз-Два-Сникерс и сама удивилась тому, как глухо прозвучал её голос, — телефонную линию наладили?
— Да, с час уже, как доложили…
— Волнорез, давай-ка быстро. — Теперь её голос зазвучал привычно, низко и чуть-чуть насмешливо; это всегда восхищало и пугало Колюню. — Мне нужна срочная связь с Шатуном.
2
Со всех сторон тропинку, петляющую через болота, окружал туман. Он висел даже над головой, и путникам приходилось пробираться словно сквозь сереющую ватную арку. Хардов остановился и снова подул в свой манок. Стало светлее, но совсем чуть-чуть, на этот раз клочья тумана почти не проредились. А вот гнетущая тяжесть, которую Фёдор ощущал на сердце уже некоторое время, напротив, усилилась.
— Идёмте. Быстрее, — отрывисто произнёс Хардов. — Позже мы отдохнём, а сейчас стоит поспешить. Видите, как потемнел туман? Перед нами топь. Её ещё зовут «гиблые болота». Это самый короткий путь к каналу, но я не знаю, что там сейчас. Придётся сделать круг.
Хардов бросил быстрый взгляд на тропинку, по которой они пришли, и чуть заметно кивнул, но выражение внимательной настороженности так и не покинуло его лица.
Фёдор тоже оглянулся.
— Такое ощущение, что за нами кто-то идёт, — сказал он глухим голосом.
— Это не так. Не сейчас. И потом, Мунир дал бы знать. Но туман умеет играть нашими страхами.
Гид вдруг поднял руку и быстрым жестом стряхнул с плаща-накидки Евы какого-то прилипшего слизня со множеством полупрозрачных ножек.
— Не бойся, Ева, — сказал он. — И ты, Тео. Это всё из-за близости болот. — А Фёдор подумал: «Он про слизня или про эту давящую тяжесть?» — Но для Мунира здесь привычная стихия, и сейчас он позади нас. Даст мне знать, если что-то не так.
Уже не в первый раз Хардов назвал Фёдора по имени. Не «эй», не «мальчишка» и даже не «юнга», а хоть и по детскому, но имени.
— Хорошо, — кивнул слегка польщённый Фёдор. В принципе, он сам вызвался идти третьим, а мог бы сейчас спокойненько плыть с командой в лодке, они, наверное, уже выбрались на канал. Но скрывать от Хардова, что ему страшно, вещь нелепая и бесполезная.
— Простите меня, если я скажу что-то не то, — попросила Ева, — но я слышала… от Сестры, что для Мунира это плохо, что он ещё слаб.
— Ты права, милая, — отозвался Хардов, и что-то похожее на благодарную улыбку на миг коснулось его губ. — Ночью туман намного опасней, и ночью Мунир не сможет мне помочь. Поэтому мы вынуждены торопиться. Встретиться с лодкой надо до наступления темноты. Идёмте.
Хардов отвернулся и быстро зашагал вперёд по тропинке, которая становилась всё более вязкой и влажной. Ева покорно следовала за гидом. Фёдор замыкал шествие, с трудом заставляя себя не оборачиваться. Они прошли в молчании ещё несколько сотен метров, когда Хардов вновь подал голос, как будто разговор и не прерывался:
— И потом, что-то говорит мне, что нам, похоже, повезло. Чувствуете?
«Забавное у него чувство юмора, — уныло подумал Фёдор, — если он называет такое везением».
— Вы этого не можете знать, поэтому поверьте на слово, — воодушевлённо пояснил гид. — Чувствуете? Напряжение — оно почти не росло, только здесь, у болот, хотя мы уже очень далеко от Сестры. И я уверен: дальше, как минуем топь, станет легче. Похоже, наметилась перемена.
Фёдор на секунду потерял дар речи, изумлённо глядя на Хардова, и вот это вот — «напряжение почти не росло»? Что же здесь творится в плохие дни, если сейчас, по его уверениям, наметилась перемена к хорошим?
— Ага, — неожиданно поддакнула Ева, видимо, подавив нервный смешок, и с какой-то диковатой весёлостью выдала следующую фразу: — Стрелки этого свихнувшегося барометра вдруг склонились к благоприятным дням? Так?!
Теперь Фёдор изумлённо уставился на Еву, а она ему улыбнулась. Хардов покачал головой, но ничего не сказал.
И они пошли вперёд. Фёдор сделал ещё одно открытие относительно девушки. У неё, оказывается, весёлый нрав? Идти стало легче. И Фёдор подумал, что ему ясно, почему Хардов выстроил их в таком порядке. Если Фёдор прикрывал Еву, то Мунир прикрывал их всех. От этой мысли сделалось вроде бы ещё легче. Но через несколько минут это гнетущее ощущение вернулось. Требовалось все больше сил, чтобы заставить себя не обернуться. Он понял, на что это похоже. Такое было в «Белом кролике». Кстати, не так давно. Неприятное холодное ощущение чужого присутствия, чужого и, вполне возможно, заинтересованного взгляда. Что бы ни говорил Хардов, но что-то таилось в тумане. И оно бесшумно кралось за ними.
* * *
Минуло уже несколько часов с тех пор, как Хардов велел Кальяну остановить лодку и высадить их с Евой на берег. Он объяснил свои действия желанием обойти второй шлюз посуху.
— Нехорошее это дело, — пробурчал Ваня-Подарок, встревоженно глядя на гида, — идти через болота. Да ещё с девицей.
— На шлюзе обосновался Шатун, — спокойно пояснил Хардов, — а в нём я давно не уверен. Лучше уж так.
— Но послушай, — возразил альбинос, — лодка нанята гильдией гидов за личной подписью Тихона. Не мне тебе рассказывать, что это значит. — Он усмехнулся чуть печально, словно сожалея о каком-то общем прошлом. — Типа дипломатической почты. Лодка в принципе не подлежит проверке.
— Вот и дай им себя проверить, — кивнул Хардов.
— В этом есть резон, — согласился Кальян. — Меньше будет вопросов.
— Возьми хотя бы кого-то себе в помощь, — нахмурился Ваня-Подарок. — Мы управимся без одного гребца.
— Вряд ли такое понадобится, — быстро сказал Хардов.
Мунир, прежде застывший на носу, словно боевое украшение древнего парусника, вдруг издал какой-то яростно-ликующий звук и, сорвавшись с места, полетел в туман.
— Видишь? — улыбнулся Хардов. — Всё нормально.
— Для твоего ворона — да, — пробурчал альбинос. — Чего я об этих болотах только не слышал.
— Мы не пойдём напрямик. Заберёте нас выше шлюза по Длинному бьёфу. Ты знаешь где.
— У барышни багаж, — не унимался альбинос. — А тебе понадобятся свободные руки. А потом, ты видел её обувь? Собираешься идти босиком?
— Этого делать не придётся, — снова улыбнулся Хардов, указывая в сторону леса. Даже здесь, совсем недалеко от Сестры, лес, укрытый молоком тумана, выглядел очень неприветливо. — Там землянка, добротная. Когда-то мы оборудовали её вместе с Тихоном. Наверное, очень давно. И помимо боеприпаса, который пришло время забрать, там складированы безразмерные сапоги от армейского ОЗК. Сейчас таких не достать. Думаю, несколько комплектов для нас найдётся. В самый раз шлёпать по кочкам.
— Хорошо, — настаивал Ваня-Подарок. — Но если она выбьется из сил… Это опасно для вас обоих. Возьми кого-то из мужиков. Хардов, — произнёс он с нажимом, — возьми ещё кого-нибудь. И хватит тебе уже избегать…
Взгляды двоих гидов встретились. У Фёдора вдруг сложилось твёрдое убеждение, что они оба чего-то недоговаривают. Наконец Хардов сдался.
— Ладно, — вздохнул гид. — Наверное, ты прав.
— Слава Богу, он внял, — облегчённо бросил Ваня-Подарок. — Берёшь «калашников»?
Хардов чуть растерянно кивнул. Фёдор подумал, что Подарок предлагает правильный выбор: прицельный штурмовой ВСК Хардова вряд ли сгодится в тумане лучше мощного и безотказного «калашникова».
— Капитан, пожалуйста, — промолвил Хардов, — выдели мне кого-нибудь. Мой светловолосый брат Подарок, пожалуй, прав, и чтоб он не доконал меня своими приставаниями, дай одного гребца. На своё усмотрение.
— Э-э-м-м, — замялся Кальян.
Теперь Ваня-Подарок заговорщически усмехнулся и подмигнул Фёдору.
— Я готов пойти, — к своему ужасу услышал Фёдор собственный голос и еле заметно покраснел. Вот чёрт, он что, на самом деле вызвался?
— Вот и отлично, — сказал Хардов, закрывая тему.
— Примите у барышни багаж, юнга, — весело распорядился альбинос.
— А моё мнение в счёт не берётся? — вдруг возразила Ева. Почему-то здесь, в этом месте её голос, явно не без ноток рассерженности, показался всем очень красивым, а прежде бледноватые щёки налились пунцовым блеском. — Я привыкла сама себя обслуживать и вовсе не нуждаюсь, чтобы кто-то носил мои вещи.
Фёдор, уже готовый взять саквояж у девушки, наткнувшись на это «кто-то», виновато опустил руки. Хардов посмотрел на них удивлённо и вздохнул.
— У нас нет на всё это времени, — сухо произнёс он. — Сожалею, Ева, что вынужден напомнить тебе об обещании безоговорочно выполнять мои требования.
— Я только хотела… — сконфуженно начала девушка.
— Прости меня, я тоже выполняю кое-какие обещания. В том числе данные не только твоему отцу — доставить тебя в целости и сохранности. Я передам тебя с рук на руки, а потом сможешь высказать мне всё, что накопилось. Договорились?
— Я… Хардов, извините меня, — покорно промолвила Ева. — Ничего такого во мне не копится. Ничего из того, что потом понадобится высказать.
И она впихнула в руки Фёдора свой саквояж. «Отлично, — подумал Фёдор. — Какие они все вежливые и церемонные. А я крайний».
В воздухе захлопали крылья. Из пелены тумана вылетел Мунир и, описав небольшой круг, нырнул обратно.
— Всё, пора, — больше не тратя времени, сказал Хардов, и его серые глаза блеснули из-под панамы, когда он то ли в шутку, то ли всерьёз добавил: — Пожалуйста, не передавайте от меня приветов Шатуну. Фёдор, пойдёшь закрывающим.
— Значит, в конце, — с ухмылкой шепнул Ваня-Подарок, поймав недоумевающий взгляд юноши.
И они пошли. Фёдор повесил на плечо свой баул и, взяв в правую руку саквояж Евы — ему-то оружие не выдали, — зашагал по тропинке. Вскоре он обернулся, но лодку и реку скрыл туман. «Как быстро всё исчезло, — удивился он. — Интересно, обратный путь столь же короток? — Потом подумал: — А ведь я впервые иду в туман. Вместе с гидом. Расскажи кому, так от зависти помрут. Хоть и будут делать вид, что приличным людям стоит гидов избегать. Да что там, — юноша крепче сжал ручку саквояжа, — я сам выполняю работу гида, пусть и лёгкую…»
«Ага, носильщика, — почти услышал он своё собственное ироническое, — гида-носильщика!»
Позже Фёдор поймёт, что именно в этот день Хардов перестал называть его юнгой. А пока он пытался вспомнить, что слышал от альбиноса о Шатуне. Что вроде бы тот с Хардовым были когда-то как братья. И что Шатун был гидом. Одним из лучших. И что?
— Одним из лучших, — прошептал Фёдор. И неожиданно вздрогнул. Словно наткнулся на невидимое препятствие. Какая-то волна похолодила его спину. Он остановился и в растерянности уставился перед собой. Он не понимал, что сейчас произошло. Но что-то было не так. Будто стоило ещё о чём-то спросить у Вани-Подарка. О чём-то очень важном и… Но спутники уже прилично оторвались от него, пора было их догонять.
«При чём тут Шатун?» — подумал Фёдор и передёрнул плечами.
3
Вскоре туман с левой стороны начал сереть. Становилось всё очевидней, что тропинки, бегущей вдоль ручья, больше нет и они вынуждены шагать по обмелевшему руслу этого самого ручейка, вытекающего из болот. Наконец Хардов остановился.
— Как здесь всё изменилось, — раздосадованно пробормотал он. — Наверное, нам придётся свернуть. Эта тропинка ведёт прямо в болота.
— Мы сбились с пути? — спросила Ева. По её тону можно было определить, что она скорее удивлена, чем обеспокоена, и это вызвало у Хардова улыбку.
— Нет, — ответил он. — Но зов болот сделался настолько сильным, что искривил все нахоженные дорожки. Вот и эта чуть не сослужила нам коварную службу. Боюсь, придётся идти прямо через туман.
И больше не говоря ни слова, Хардов свернул. Через несколько шагов его силуэт растворился в дымке.
— Идём, — сказал Фёдор Еве. А сам подумал: «Зов болот. Значит, не всё, о чём судачат в трактирах Дубны, пустые россказни и слухи».
* * *
Фёдор пропустил Еву вперёд, привычным жестом подтянул лямки своего вещмешка и двинулся вслед за девушкой. Через несколько шагов пришлось низко нагибаться, чтобы пройти под густыми ветками дерева, склонившегося к земле, и Фёдор со всей долей галантности, отмеренной ему от природы, постарался помочь Еве. Он нашёл, что гидовский камуфлированный плащ, выданный девушке Хардовым, оказался ей весьма к лицу.
«Зов болот, — мелькнуло в голове у юноши, пока он проходил под ветками, а потом мысли стали словно роиться. — Тайные тропинки… Гидовская одежда обладает крайней функциональностью, проста и очень притягательна… Шатун был гидом… Одним из лучших!»
Фёдор вдруг остановился. Наверное, о таком обычно говорят: как вкопанный. Он снова почувствовал прилив этой непонятной волны. Только теперь гораздо острее. Спину покрыла гусиная кожа. Чувство было тревожным, назойливым, но ускользающим от понимания. Похожим на внезапный приступ дежавю. И так же, как и при дежавю, ты уверен, что ничего такого прежде не происходило. Не шёл он никогда прежде по болотам в окружении тумана, не нёс саквояж девушки, которой, стоит признать, он только что тайно любовался, не думал о гидах, давно уже определив для себя стезю гребца. Не было ничего такого, пустое, секретная игра подсознания. Тем более что девушка, как уяснил Фёдор из скупых рассказов Вани-Подарка, бежит от одного своего жениха к другому, вроде как к капитану Пироговского речного братства, с которым помолвлена чуть ли не с детства. Под их защиту. А большего ему знать не положено, и его это не касается. Как говорится, нам не светит. Ну и пусть себе бежит! Его-то какое дело?! Лучше уж Фёдор будет думать о своей Веронике, чем лезть в чужие опасные и ненужные тайны.
Но… в этом ли всё дело? Не обманывает ли он сам себя? Вроде бы нет. Так зачем же он останавливался?
были когда-то как братья
(…гидом. Одним из лучших)
Почему что-то смутное и тревожное колыхнулось в нём, заставив на миг вдруг поражённо и непонимающе оцепенеть?
Фёдор растерянно посмотрел по сторонам, сделал глубокий вдох, и вроде бы ему полегчало. Это нечто беспокойное тупой занозой слабо кольнуло его на прощание и окончательно развеялось. Всё уже прошло. Вот только… Фёдор сглотнул суховатый ком, застрявший в горле. Лучше действительно не думать о таком. Не копаться во всём этом. Он потряс головой и кинулся догонять своих спутников.
Наверное, гусиная кожа давно разгладилась. Как и ушла эта хрипловатая сухость в горле. Осталось лишь слабое тревожное воспоминание. Где-то очень далеко, на самом краешке сознания. Еле уловимый неприятный зуд. Словно только что он заглянул куда-то, чтобы увидеть свою судьбу. Только это «куда-то» оказалось тёмным зеркалом, спрятанным в его душе.
4
Спустя ещё полчаса движения сквозь сплошное молоко начал ощущаться подъем, и туман вокруг них наконец несколько проредился. Хардов шёл вперёд ровным уверенным шагом, даже не пристегнув рожок магазина к оружию, и это несколько успокаивало. Фёдор поправлял ремни своего вещмешка, прошитые несколькими слоями плотной ткани с подкладкой, чтобы не натереть плечи, и заставлял себя не оглядываться. А Ева же, напротив, ступала с такой беззаботной лёгкостью, словно была приглашена на увеселительную прогулку по лесу.
«Неплохо она держится, — мелькнуло в голове у Фёдора. — А казалось, учитывая её… происхождение, будут сплошные капризы». Он слышал, что есть менее восприимчивые люди ко всему этому, есть более, но никто в Дубне толком не ведал, о чём речь. Только одни россказни были хуже других.
«Господи, — подумал Фёдор, — я словно попал в центр зловещей истории, страшилки из тех, что рассказывали в детстве на ночь». Но честно говоря, он толком не знал, как ко всему этому относиться. Единственное, что ему было известно наверняка, — он хотел, чтобы эта история продолжалась. Невзирая на то, что ему порой становилось страшно до тошноты. А совсем недавно, пока они шли по низине, обходя гиблые болота, он был уверен, что в тумане кто-то есть, совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, и сейчас что-то холодное и скользкое коснётся его кожи, и…
— Вот это возвышение — единственное на много километров. — Хардов указывал на темнеющий в тумане с правой стороны пологий склон. — На топографических картах оно обозначено как высота 408. Мы же зовём его Лысый дозор. Там даже есть смотровая мачта. Обычно макушку раздувает. Можно выяснить время и ещё много чего.
— Хардов, — позвала Ева, — это курган?
— Смотря что понимать под курганом. — Гид задумчиво почесал покрытый щетиной подбородок. — Это часть естественного рельефа, и она нам поможет. Надеюсь, на канале всё ещё утро. Идёмте, наверху немного отдохнём и перекусим. Очень надеюсь, это можно будет считать завтраком.
— А у меня осталось полдюжины яблок. — Ева вглядывалась в пологий подъём, который становился всё более различимым. — От Сестры. Удивительно, как она их сохраняет, будто только с дерева. Витамины. Я думала, что нигде не умеют сохранять яблоки лучше, чем наши хозяйки в дубнинских подвалах.
«Нашла чему удивляться, — мелькнуло в голове у Фёдора. — Могла бы быть и повнимательней. Хардов говорил, что время там течёт по-другому. И вообще. А в Дубне яблоки сохраняют трудом и без всяких фокусов».
— Как вы думаете, отчего у неё яблоки такие свежие? — не унималась Ева.
— Не могу сказать, — ответил гид.
«Занятный ответ, — решил Фёдор. — Ведь „не могу“ — это может быть даже больше „не хочу“, чем „не знаю“».
Только сейчас до юноши дошло, что Хардов, так же как и он, вовсе не разделяет беззаботного настроя Евы. И на самом деле гид очень осторожен. Во всём, даже в ответах. И хоть гнетущая глухая тяжесть, что давила в заболоченных местах и на подступах к подъёму, вроде бы уменьшилась, Фёдор мечтал побыстрее выбраться из этих мест и оказаться на канале. Единственное, что приятно удивило, — это лёгкий ветерок, что стал ощущаться по мере подъёма. Воздух пришёл в движение, и возможно, верх кургана действительно раздует.
«Как интересно, — подумал Фёдор. — А на канале ветра нет совсем».
5
Хардов спрыгнул с нижней ступеньки дозорной мачты, и на лице его читалось рассеянное удивление. Прежде Фёдору ни разу не приходилось видеть у гида такого выражения, которое даже можно было бы принять за озадаченность.
— Это многое меняет, — задумчиво произнёс Хардов.
На высоте 408 их ждал первый крупный сюрприз. Прямо в макушку Лысого дозора оказалась вбита толстая деревянная мачта с перекладинами лестницы. Верх оборудовали похожей на корзинку площадкой, которую Хардов назвал марсом, и сейчас гид с неё слезал.
— Что, уже больше не утро? — улыбнулась Ева.
— Утро, — Хардов кивнул. — Вопрос в том, какого дня.
— В смысле?
Гид вздохнул и как-то странно повёл плечом:
— Когда мы вышли из Дубны несколько дней назад, луна стояла в третьей четверти.
— Ну да, я помню.
Хардов указал на дозорную мачту.
— Сейчас на небе лишь тоненький серпик.
— Я думала, вы определяете время по солнцу, — выказала лёгкое удивление Ева. Потом её взгляд застыл, а голос зазвучал глухо: — Как такое возможно?
— Вы сейчас видели месяц? — начал было Фёдор тоном всезнайки. — Такое бывает. Я тоже иногда утром…
И осёкся. Захлопал глазами, уставившись на гида:
— …утром…
Перевёл взгляд на Еву. Снова на гида.
— Что вы хотите сказать? — изумлённо выдавил Фёдор. И опять посмотрел на девушку, словно в поисках поддержки.
— Понял наконец? — усмехнулась Ева. — М-мда… Прошёл почти месяц. Или больше?
— Около того, — подтвердил Хардов. — Сейчас на канале утро. Где-то конца первой декады июня.
Повисло молчание. На жужжание шмеля никто не обратил внимания. Кроме Фёдора. Юноша вдруг попытался отогнать его взмахом руки и почему-то сказал:
— А у меня в июне день рождения. — Шмель не собирался ретироваться, и юноша махнул на него ещё раз. — Теперь я, наверно, пролетел. — Фёдор посмотрел на своих спутников и смущённо кашлянул. — Извините.
Хардов, что-то прикидывающий в уме, вскинул брови, но ничего не сказал.
— Близнецы, — хмыкнула Ева. — Так и знала, что ты Близнец. В общем-то, неудивительно.
— И это всё, что тебе неудивительно? — съязвил юноша.
— Вовсе нет! — Ева вспыхнула. — Хардов предупреждал насчёт времени у Сестры. Мог бы быть и повнимательней, — парировала она. — Правда, я думала, прошло не больше недели.
— А я и того меньше, — признался Фёдор.
— Даже пробовала считать…
— Ага… — А потом Фёдор покраснел и спросил: — Ты что, читаешь мысли?
— Да нет, по губам. — Ева опять хмыкнула. — Следи, особенно когда бубнишь что-то себе под нос.
— Прости. Не хотел тебя обидеть.
— Ничего. У тебя это получается непроизвольно, и я уже начинаю привыкать.
Хардов наблюдал за этой перепалкой с улыбкой. Но когда он отвернулся, на его лице отразилась какая-то новая эмоция.
«Этого ещё не хватало, — подумал он. — Что-то они много цепляются. Мне тут ещё молодой влюблённой парочки недоставало».
И в одно короткое мгновение, так быстро, что даже пожелай кто, не успел бы ничего заметить, в глазах гида мелькнула тёмная искра: «Молодой, влюблённой… Господи, они ведь даже ничего не знают друг про друга».
6
Хардову пришлось поторопить своих спутников, и скоро с завтраком было покончено.
— Нам придётся учитывать новые реалии, — объяснил Хардов. — На канале очень многое могло измениться.
Гид ждал, пока Фёдор и Ева надевали свои вещмешки, и смотрел куда-то вдаль, поверх пушистых клубов густого тумана. К этому времени верхушку Лысого дозора совсем раздуло, и они словно находились над слоем облаков. Картина была чарующая, восхитительная и пугающая.
«А ведь я надеялся управиться в месяц-полтора, — думал Хардов. — Наверное, это был слишком оптимистичный прогноз, но всё же… И вот мы не прошли и двадцати километров, а всё придётся менять».
На самом деле это сбивало все расчёты. На первоначальных планах проскочить у всех под носом, воспользовавшись дурными днями, и к тому моменту, как их начнут искать, оказаться вне пределов досягаемости, можно было смело ставить крест.
— Но одна перемена, несомненно, к лучшему. — Хардов всё же улыбнулся и указал на восток, где за гиблыми болотами, в колыбели из пелены просыпался сейчас канал. — Видите, всё белое. Я не ошибся, наступили самые благоприятные дни.
— Так красиво, — восхитилась Ева. — Даже и не подумаешь, что там гиблые болота.
— Да. Но они есть, — сказал гид. Осмотрел Еву и Фёдора, желая убедиться, собраны ли они, и снова ненадолго погрузился в собственные мысли: «Первоначального плана больше нет. Двигаться придётся скрытно, и главное, большей частью ночью. Можно ли извлечь из случившегося какую-то пользу? Остались хоть какие-то плюсы?»
Хардова всегда учили думать позитивно. Его бак горючего, его последний стакан воды в пустыне были всегда наполовину полными, а не полупустыми, однако как Хардов ни пытался крутить эту ситуацию, никаких плюсов пока не видел.
Однако гид усмехнулся. Он подумал, что порой при изменении угла зрения менялась вся картина в целом. А непонятные, привычные или мешающие прежде элементы наполнялись новыми смыслами, и оказывалось, что всё происходило не зря. Также порой ничего подобного не случалось. А все Великие Закономерности просто додумывались позже.
— Посмотрите. — Фёдор указывал на запад. — А с той стороны не всё белое. Там какое-то марево в тумане. Только что было. Вон, вон. Смотрите, опять вспыхнуло!
Хардов уже видел какое-то время эти бледные багряные огни. Ползущее и исчезающей глубоко в тумане свечение.
Пока слабое и пока не представляющее угрозы. Такое, конечно, бывает. Но… всё это движение начинало ему не нравиться.
— Идёмте, — позвал гид. — Придётся быть осторожней. Вполне возможно, нас уже ищут.
И он снова посмотрел поверх тумана. Но не в сторону двигающихся в нём бледных огней. Он смотрел на восток, в сторону канала, на пути к которому лежали гиблые болота. И на мгновение его взгляд застыл, а зрачки сузились, и гид как-то странно повёл головой, чуть выставляя вперёд ухо, словно он прислушивался к чему-то очень далёкому.
— Хардов, — негромко произнесла Ева, — вы считаете, что за это время Юрий успел…
Гид не стал её торопить, решив дать договорить, но девушка замолчала. Тогда Хардов просто позвал её:
— Идём, милая. Твой несостоявшийся жених не самая большая наша проблема.
Хардов специально так сказал, назвав Юрия «несостоявшимся женихом». И он не ошибся. Фёдор еле заметно покраснел. И хоть Хардов взглянул на юношу мельком, ему хватило времени, чтобы это увидеть. «Ещё одна проблема», — подумал гид.
Вслух он сказал Еве:
— Хоть и догадываюсь, Юрий не сидел без дела, можешь пока о нём забыть.
— Да, но кто же тогда нас ищет?
— Боюсь, что многие, — заверил её гид. И одновременно ему в голову пришла мысль: «Наверное, стоит взять крюк побольше. Не нравится мне, как вели себя болотные тропинки. Боюсь, нас и вправду уже многие ищут. — А потом он вспомнил, как далёкие бледные огни ползли в тумане, и про себя добавил: — Многие. И многое».
— Да, дорогая моя, — заявил Хардов, с трудом подавив шальную искру неожиданного и пугающего веселья, — боюсь, у нас на руках акции активно действующего предприятия.
Ева помолчала, видимо, размышляя. Потом она насупилась:
— Это вы так шутите?
— Ну конечно, — признался Хардов. — Я осколок другой эпохи, и мои шутки… Знаешь, как говорится, старого пса не выучить новым фокусам.
— Да нет, всё понятно. — Ева пожала плечами. — Вы очень даже так ничего себе сохранившийся осколок.
— Ну… спасибо на добром слове. Идёмте.
И они начали спуск с Лысого дозора, чтобы побыстрее обойти слева гиблые болота и оказаться на канале в условленном месте до наступления темноты.
Пройдя несколько шагов, гид остановился, пропуская свою группу вперёд.
— Идите. Вниз по тропинке. Я вас догоню.
Фёдор, не задавая вопросов, обогнал Еву, и гид подумал: «Ну что ж, очень хорошо». Но задержался он не только для того, чтобы справить малую нужду. Хардов снова посмотрел на восток, пытаясь прислушаться к тихому ускользающему звуку, который для его спутников, к счастью, был пока недоступен. Он вслушивался, весь превратившись во внимание, и с каждым мгновением мрачнел всё больше. Наконец гид хрустнул пальцами и дотронулся до века, точно собирался извлечь соринку из глаза.
— Интересно, что их разбудило? — еле слышно промолвил Хардов, и по его лицу пробежала тень.
Глава 9
Кое-что о скремлинах и слизи червя
1
Когда впереди показались первые лодки встречного потока, Матвей Кальян задумчиво посмотрел на воду, затем снова обернулся к альбиносу:
— Ну, и кто выжил?
— Немногие, — уклончиво ответил тот.
— Вань, — начал Матвей осторожно, — мы говорили об этом с Хардовым. Я знаю, что вы не любите посвящать посторонних в свои дела. Не принято. И знаю, что не принято расспрашивать. На канале у всех своя правда, в чужие дела люди с пониманием не суются. Но… вот только что месяц пролетел, Вань… Вжик! — Он развёл руками, словно призывая альбиноса в свидетели. — Как капитан я обязан знать, чего мне ещё ждать. Не больше. Что захочешь, сам потом расскажешь.
Кальян говорил без напора, будто забрасывая удочки, прикидывая степень допустимого. Он знал таких, как Ваня-Подарок. Вроде бы на первый взгляд шумный весельчак, душа компании, но на самом деле — могила, никогда не сболтнёт лишнего. «Говорун-молчун» — с уважением говорили про таких гребцы. Вообще, выходило интересно: о чём бы ни судачили пустобрёхи, все гиды, с которыми Кальяну довелось вести дела, оказывались людьми приличными, с пониманием. Кальян иногда думал, что, не стань он капитаном, подался бы в гиды.
— И уж если ты говоришь, что нам теперь… понадобятся глаза в тумане, что Хардов будет вынужден взять на борт скремлинов… — негромко промолвил он.
— Я лишь высказал предположение, — ровно произнёс Ваня-Подарок.
— Понимаю. Но всё же попросил бы тебя, дружище… — Кальян кивнул. Вежливо, выказывая уважение к чужим тайнам, и что любопытство его вовсе не праздное (хотя, стоит признаться, очень давно интересовали Матвея Кальяна скремлины, что они за создания. Божьи ли твари или порождения мглы, и если о них ходит столько всего… тёмного, то как же они могут… любить?), а лишь для пользы дела, поэтому он и вынужден настаивать.
— Скажу так, — наконец, сдаваясь, вздохнул Ваня-Подарок. — Те, кто выживает после укуса, они… ну, как после очень страшной болезни, понимаешь, словно чистый лист. Для них всё начинается заново.
— Я слышал, — веско прошептал Кальян.
Правда, ходил по каналу и более зловещий слух. Что только выживший после укуса скремлина может считаться настоящим гидом. Как вроде что-то это им даёт… В подобном суеверии был выражен интуитивный, конечно, страх перед людьми, уходящими в туман, но одновременно и уважение. С другой стороны, на канале чесали языками обо всём — слухи были одним из главных развлечений и, наверное, единственным постоянным источником информации о том, что действительно волновало людей. Но Матвей подумал, что выказывать себя сейчас пустобрёхом-сплетником было бы не столько даже невежливым, сколько просто глупым.
— Слышал, — повторил Кальян, глядя прямо в белёсые глаза Вани-Подарка.
— Но пусть тебя это не успокаивает. Я знаю лишь несколько гидов, которые выжили после укуса скремлина. Один из них — Хардов. Другой — известный тебе Тихон.
— Тихона я сильно уважаю, — заметил Кальян.
— В курсе. — Теперь Ваня улыбнулся. — Он тоже о тебе высоко отзывался.
Кальян, явно польщённый, отвёл взгляд. Затем будто спохватился:
— Вань, но выходит, у кого-то вроде как иммунитет? Кто может выжить?
— О, даже не пытайся, — запротестовал альбинос и, словно в шутку, добавил: — Если тебя только не покусал скремлин в детстве. Редко это случается; малыши, бывает, выживают. И потом что-то вроде прививки.
— Ну откуда мне знать, чего было в детстве? Мамка, увы, не сказала. Честно говоря, я и родичей-то своих не помню.
— Матвей, поверь мне, ты бы знал, — заметил Ваня-Подарок. — Укусы скремлина… следы, так их не видно, но в плохие дни они как бы чуть-чуть отсвечивают в тумане, а иногда и зуд… чешутся. В плохие дни. Так что укусы хоть и затягиваются, но следы на всю жизнь. Болят, как старые раны.
— Шутишь?
— Просто рассказываю, как обстоят дела.
— Не, ничего у меня не чешется и не светится, — успокоился Кальян. — Правда, я ещё разное слышал, но…
— Вот поэтому и проверять не стоит, — резюмировал альбинос.
Матвей на какое-то время опять задумчиво уставился на воду. Гребцы работали вёслами вполсилы — до места, где собирались забрать группу Хардова, оставалось рукой подать, и иногда в веере брызг появлялась радуга. Бузинский караван давно ушёл вперёд, дмитровские лодки приближались, а солнце переваливало за полдень. Гребцы поприветствуют друг друга, осведомятся, как у кого дела и нужна ли помощь, но лишних вопросов не будет. Кое-что, регламентирующее взаимоотношения людей на канале, не записано в Речной кодекс. Просто так принято. И это хорошо.
— Вань. — Матвей сделал паузу и, как бы по-детски смущаясь, посмотрел на собеседника. — А этот дед… ну, которому Хардов самогону поднёс…
— Паромщик, — спокойным, но несколько бесцветным голосом подсказал альбинос. — Ещё его зовут Перевозчиком.
— Ну… да, — согласился Кальян. Даже если ему и показалось, что какое-то холодное дыхание коснулось лица, то всё прошло. В такой погожий солнечный денёк все страхи попрятались по тёмным углам. — Он сказал тогда, что в нашей лодке… два скремлина.
— Сказал, — вздохнул Ваня-Подарок.
— И мальчишка меня об этом спрашивал, наш Фёдор-то, славный парень…
— Да. Верно, пацан что надо. — Альбинос испытующе посмотрел на Кальяна.
— Вот, и говорит: «Матвей, мол, дед трындел: два скремлина, два воина». Ну, про воинов-то мы, допустим, разобрались. Это он, верно, вас с Хардовым имел в виду — больше оружия-то на лодке ни у кого нет. А вот два скремлина… Ты уж извини мою дотошность, но я в ответе за тех, кто в лодке.
— Говори прямо, что хочешь знать.
— Твой скремлин… он как-то за нами следует? А то кроме хардовского ворона… Я твоего что-то так и не видел, Вань.
— У меня нет скремлина, — тяжело ответил Ваня-Подарок, и что-то заставило вздох оборваться.
— Как же так? — не понял Кальян. — Я слышал, у каждого гида есть свой скремлин. Или ты не из таких?
— Из таких, — с той же тяжестью отозвался альбинос. — Слушай сюда: каждый гид пользуется помощью скремлинов, когда идёт в туман. Они нам как глаза, без них не увидеть того, что скрыто мглой. Но иногда приходится пользоваться чужими скремлинами.
— Чужими?
— Ну, ничейными, чтоб тебе было яснее. Таких покупают, когда между гидом и скремлином не сложились отношения. Нет своего — ходят в туман с чужим.
— Нет своего? Но почему?
— Хм, — чуть мечтательно усмехнулся Ваня-Подарок, но от капитана Кальяна не укрылось присутствие горькой нотки в этой усмешке. — Любовь и дружбу скремлина надо ещё заслужить. А это очень непросто. Поверь мне, друг мой, очень не просто.
Подарок отвернулся и зачерпнул за бортом ладонь воды, задумчиво вернул воду каналу, потом зачерпнул ещё и плеснул себе в лицо:
— Жарко.
— Да. — Кальян одарил альбиноса едва заметным кивком.
— Если взять чуть левее, там хорошее место для купания.
— Знаю, — сказал Кальян.
— Лишь единицы заканчивают школу гидов со своим скремлином. Поэтому часто, особенно молодым выпускникам, приходится скремлинов покупать.
— А-а, вот в чём дело, — непонимающе покивал Матвей. Вроде бы Ваня-Подарок явно не проходил по категории «молодого выпускника».
— Рано или поздно гиду будет необходимо найти своего скремлина, — продолжал Подарок, — иначе ему не вырасти. Не продвинуться как гиду. Знаешь, это как… ваши «сорок походов».
— Хм-м-м-м, — кашлянул Матвей.
— И хоть, как правило, своего скремлина обретает уже зрелый гид, но… тут только всё и начинается. Да, Матвей. Как я понимаю, «сорок походов» у вас — это тоже не сорок рейсов между Дубной и Дмитровом? Необходимо пройти Тёмные шлюзы и всё такое?
— Ты неплохо осведомлён в делах гребцов, — похвалил Кальян. Только не ясно, сколько действительного одобрения сквозило в этой похвале.
— Ну да, — пожал плечами альбинос. — Это моя работа. Не беспокойся, капитан. Я тоже в чужие дела не лезу.
— Ясно. — Матвей Кальян кивнул. — Сорок походов… Из них минимум три за Тёмные шлюзы. Вместе с главой нашей гильдии людей, у кого это в активе, можно сосчитать по пальцам одной руки. А у вас?
— Думаю, так в любом мастерстве, — согласился альбинос, а Матвей подумал: «Довольно уклончиво. Гиды умеют беречь свои тайны. Не зря говорун-молчун».
— И как у вас? — повторил он негромко, но настойчиво. — Что ваши «сорок походов»? Заслужить любовь скремлина?
Ваня-Подарок чуть заметно кивнул, и его щека также чуть заметно дёрнулась.
— В том числе, — подтвердил он. — И, наверное, это один из самых волшебных моментов нашей профессии.
— Иван… ну, вот ты говоришь, что скремлины очень опасны. И в то же время что они миролюбивые существа.
— По-разному, — неопределённо ответил альбинос. — Миролюбивые? Да, можно и так сказать. Никогда, например, один не причинит вреда другому. Они абсолютно доверяют друг другу. И своему гиду. Наверное, они находятся в своеобразной гармонии с тем, что в тумане, не знаю, хотя там полно всякой мерзости, знаю только… Понимаешь, иногда с ними что-то случается, и они…
— Заболевают? — хмуро спросил Кальян.
— Становятся опасны, — кивнул Подарок. — Если их не трогать, всё в порядке. Живут себе. Только иногда… Хардов считает, что они будто заражаются от людей.
— Как так? Чем?
— Не знаю, сам у него спроси.
— Спрошу, — пообещал Кальян.
И подумал: «Скверное дело. А ведь им действительно нравится туман. И скремлины. Кто-то сказал, что гиды очарованы всем этим. Что ж, действительно интересно. Вопрос только в том, насколько далеко они готовы зайти».
Матвей, как и многие на канале, слышал про «бешенство» скремлинов. Этим они заболевают. Слышал, что зрелище не из приятных. Люди говорят, что поначалу это почти незаметно, а потом перемена наступает очень быстро.
— Но запомни, капитан Кальян, свой скремлин никогда не укусит гида. И, конечно, не опасен для окружающих. Кусают только чужие.
— Успокоил, дружище, — иронично откликнулся Кальян.
— Я к тому, что молодым гидам всегда приходится проходить через это. Опыт у нас есть. И немалый. Надо просто быть осторожным.
— Я осторожен, Иван. Очень осторожен. Поэтому и хожу столько лет по каналу. Поэтому и вынужден задавать тебе вопросы. Но за твоими словами многое скрыто.
— Что ж, тогда сразу стоит уточнить, — вдруг усмехнулся Ваня-Подарок, — коли уж речь зашла о чужих скремлинах, то их покупают, — альбинос пристально посмотрел на Матвея, и в его глазах мелькнули льдинки, — у Паромщика. Перевозчика.
— Вот как? — чуть хрипло отозвался Кальян, опять его лица коснулось то самое мимолетное холодное дыхание. — Но ведь ты не молодой гид?
— Ты хочешь спросить, почему у меня нет скремлина? — На мгновение льдинки вернулись в глаза альбиноса. — Его убили.
Матвей опустил руки.
— Прости, — смущённо, но с искренним сочувствием сказал он. — Я не знал.
— Ничего. — Ваня-Подарок отвернулся и повторно зачерпнул воды ладонью. — Это случилось давно. Он… был мне очень дорог.
— Дружище, я сильно раскаиваюсь. Что моё любопытство заставило тебя…
— Это было правильное любопытство, — возразил альбинос. Его лицо выглядело спокойным. Только еле уловимые горькие складки прятались в уголках губ. — Дед болтал странные для тебя вещи. Два скремлина, и от обоих пользы с гулькин нос.
— Ну да, я про это, — с благодарностью закивал Кальян.
— Капитан обязан знать, что творится на его борту, здесь вопросов нет. И беднягу Мунира потрепало так, что он ещё не скоро сможет нам помочь. Всё верно. Но взгляни, капитан Кальян, как называется твоя лодка?
— Моя лодка?
— Ну да. Порой всё намного проще.
— Лодка… — Кальян уставился на Ваню-Подарка. — Господи, скремл… Ну конечно, «Скремлин»! Так вот что он имел в виду?
— Я не знаю, что он имел в виду. Не хозяин его голове.
Но посуди сам: деревянная лодка и раненый ворон не лучшее подспорье, чтобы видеть в тумане. Так? Два скремлина, и от обоих пользы с гулькин нос.
— Ну конечно же! Конечно.
— Наверное, мне повезёт, и я найду себе скремлина, — вдруг сказал альбинос. — Может, ещё до конца этого рейса!
— Обязательно найдёшь, — заверил Матвей. И наконец облегчённо разулыбался, будто многие недоговорённости были теперь сняты. Затем, то ли желая подбодрить Ваню-Подарка, то ли выказать ему доверие, он проникновенно промолвил:
— Вань, а как это — заслужить любовь скремлина?
На этот раз альбинос не улыбнулся.
— Я тебе уже многое ответил, капитан, — сказал он. И в его приветливом голосе промелькнула надтреснутая нотка, точно у высохшего дерева переломили ветку.
2
Это случилось на спуске с Лысого дозора. Едва покинув возвышенность, группа снова оказалась в полосе рваного тумана, который стелился меж чахлых деревьев, однако с каждым их шагом вниз туман густел, а с левой стороны, там, где лежат болота, он опять начал проступать тёмным. Фёдор, как ему и велели, шёл замыкающим, а Мунир в вышине над их головами описывал большие круги. Трудно было не проникнуться симпатией к ворону Хардова, и от того, что где-то там, в чуждом молоке тумана, летит бдительный ворон, юноша чувствовал себя спокойней и защищённей. Похоже, так же обстояли дела и с Евой, хотя теперь Фёдор видел, что оказался прав по поводу своих опасений: что-то всё больше настораживало Хардова. Что-то в этой сероватой мгле над болотами действительно знало о них. И как только Мунир выпорхнул из тумана, Хардов оставил своих подопечных ждать, а сам отправился вперёд проверить дорогу. Когда гид вернулся, автомат висел у него на груди, а рожок магазина оказался пристёгнутым.
— Идёмте. Всё нормально, — сказал он. И если б Фёдор уже достаточно не изучил их проводника, по тону его голоса можно было бы решить, что так оно и есть.
«Ну что ж, нормально так нормально», — подумал он, направляясь вслед за остальными. Что-то коснулось его шеи: то ли веточка упала с дерева, небольно кольнув, то ли какое насекомое. Юноша машинально стряхнул незваного гостя и прибавил шагу. Видимость уже составляла не больше десятка метров, а дальше, чувствовалось, будет и того меньше.
Ева шла быстро, не сбивая дыхания, и Фёдор подивился ей в очередной раз. Он решил, что Хардов собирается прилично отвернуть от гиблых болот, заложив немалый крюк, но это хорошо — уж больно неприятной и даже зловещей выглядела повисшая в той стороне мгла.
Вдруг кто-то ухватил юношу за рукав куртки. Не сильно, настойчиво, а скорее дружески. Фёдор остановился. Он даже не успел удивиться и почему-то совсем не испугался. Если поначалу и показалось, что держащая его рука вынырнула из тумана, то теперь становилось очевидным, что это не так.
— Привет, Тео, — послышался приветливый голос. — Ты не узнаёшь меня?
Перед ним стояла девушка. Здесь, на нехоженой лесной тропинке, между Лысым дозором, болотами и каналом. Фёдор посмотрел на рукав своей куртки, но незнакомка не убрала руки:
— Я Лия.
Девушка была очень хороша собой. Фёдор подумал, что ему не часто выпадало встречать зеленоглазых. Всё-таки он сглотнул и тут же улыбнулся. На ней было простое белое платьице, наверное, летний сарафан, с единственным цветным пятном на груди — небольшой искусной вышивкой. Юноша разулыбался ещё шире и захлопал глазами.
— Лия, — повторила девушка. Мимолётная печальная морщинка коснулась её прелестного личика, но тут же всё прошло. — Я стала русалкой. Но я не сержусь на тебя.
О её коже нельзя было сказать «кровь с молоком», но и бледной она не казалась. Может, лишь отчасти.
— Шутишь? — наконец выговорил Фёдор. Больше всего её кожа подходила под определение «благородной белизны», которой с таким трудом добивались дмитровские красавицы. — Русалка… — Фёдор окинул взглядом её ноги. Тоже очень хороши. Она ходила босиком. Надо же, босоножка: на маленьких аккуратных пальчиках, таких же чистых, как и её платье, искусный педикюр. — У русалок хвост. Ты не знала?
Она нежно и переливисто рассмеялась:
— Не всегда.
Фёдор тоже прыснул. Было очень приятно вот так вот стоять и болтать с ней на тропинке. Орнамент вышивки на её платье почему-то показался Фёдору знакомым.
— Я правда не сержусь на тебя, — сказала девушка.
* * *
Ева обернулась. Фёдор стоял на тропинке и как-то непонятно осматривался. Казалось, ему вздумалось о чём-то порассуждать. Вроде бы он улыбался. А потом взял и двинулся куда-то в сторону, за деревья, хотя Хардов просил их идти след в след и никуда не сворачивать.
— Эй, Фёдор, — позвала Ева. — Извини… но ты куда? Всё в порядке?!
Юноша ей что-то ответил. Говорил он нормальным голосом. Еве показалось, он сказал «шутишь». Странный парень. Хотя, можно сказать, необычный. И уж точно забавный. Ева и сама не заметила, как слегка улыбнулась. Видимо, просто… понадобилось в туалет. Стеснительный какой, мог бы не сходить с тропинки, а подождать, пока мы чуть отойдём. И почему «шутишь»?
Потом она совершенно отчётливо услышала голос Фёдора: «Очень быстро».
«Как трогательно, — прыснула про себя Ева. — Спасибо за откровенность. Ну, давай, коль быстро».
— Догоняй, — сказала она ему вслух.
— Видишь, как быстро всё снова опутал туман? — промолвила незнакомка.
Фёдор согласился с ней:
— Очень быстро.
— Ты правда меня не помнишь?
Юноша мягко пожал плечами, ему всё труднее давалось сдерживать своё восхищение.
— Я была девушкой одного… очень близкого тебе человека.
Фёдор отрицательно помотал головой и ласково ей улыбнулся.
— Знаешь, у меня очень хорошая память, — заверил он. — И если бы мы раньше встречались, я б этого не забыл.
Она задорно рассмеялась:
— Правда?
— Думаешь, таких девушек забывают? — серьёзно сказал Фёдор.
Они по-прежнему стояли на тропинке и болтали, а она так и не убрала руки. Фёдор подумал, что он и не против. Скорее, этот жест доверия даже приятен.
— Тебе нравится здесь? — спросила она. — Туман белый и ослепительный, как зимний снег.
— Красиво, — сказал Фёдор.
— Ты не представляешь, насколько. — В улыбке прелестной незнакомки застенчиво таилось обещание. — А что тебе рассказывал Хардов, что скрывает туман?
— Ну да, мы говорили об этом, — сразу же согласился Фёдор, — когда гостили у… — на мгновение его взгляд сделался рассеянным, — у… Сестры.
Рука девушки еле заметно дрогнула, но Фёдор не обратил внимания.
— И, кстати, Евин папашка тоже говорил ей…
— Это та, в которую ты сейчас влюблён?
— Да нет, что ты, — запротестовал Фёдор. — Мы просто в одном рейсе. Что ты… Я женюсь на Веронике по возвращении. — И словно для большей ясности юноша уточнил: — Ну, на моей Веронике.
— Вот как?
— Да. Я тебя познакомлю с ней, — пообещал Фёдор. И покраснел. — Только ты, наверное, не захочешь.
— Так что Хардов? — напомнила она. — Какие чудовища и мерзости скрывает туман?
— И это тоже, — кивнул юноша. — Хотя, знаешь, Евин папашка, он учёный, считает, что все феномены тумана скорее психологического свойства.
— Очень интересно.
Её зелёные глаза что-то напоминали Фёдору, только он не мог понять, покойное ли и ласковое или, наоборот, тревожное.
— Хардов здесь не вполне согласен, — пояснил Фёдор. — Хотя он и говорил, что туман может показать нам наши собственные страхи.
— Что ж, верно. Хардов тут понимает как никто. Особенно страх признаться из-за чувства вины. А у тебя есть такой?
— Шутишь? — хотел было возмутиться Фёдор, но тут же вновь разулыбался. — Какой вины?! Я в своей жизни собаки-то не обидел.
— Ты в этом уверен?! — сказала она.
* * *
Ева снова обернулась. В нескольких метрах от неё всю тропинку укрывал туман, но шагов Фёдора она не слышала.
«Уже пора было б ему», — подумала девушка. И позвала негромко:
— Фёдор?
Ответа не последовало. Шаги Хардова впереди стихли, а потом звук стал нарастать, видимо, гид возвращался.
— Фёдор! — крикнула Ева.
Молчание.
— Ау, Фёдор, это не смешно! Отзовись хоть.
Но ответом стали лишь приближающиеся шаги гида. Вот он вынырнул из тумана:
— Что там?
Ева растерянно пожала плечами. На одно мгновение над ними повисла тишина. И Ева подумала, что в этой тишине вокруг есть что-то очень нехорошее. Собственный голос ей также очень не понравился, когда она сказала:
— Хардов, мне кажется, Фёдор… Он не идёт за нами.
* * *
— А ты весёлый, — похвалила она.
— Мне говорили, — важно согласился Фёдор и тут же прыснул. Туман вокруг становился всё ослепительней, они так и стояли на тропинке, не сходя с места, и болтали, и ещё никогда Фёдору не было так хорошо.
— Скажи, а ты и вправду считаешь, что собаки не обидел? — напомнила она.
— Ну-у, — задумался Фёдор. — Так мне тоже говорили, — сообщил он и снова засмеялся.
— Хорошо, когда совесть чиста, — сказала она. Потом будто спохватилась: — Но ведь существуют сны?
Это было правдой. Фёдор кивнул. Сны были. И порой не самые приятные. Ну и что? Ведь так обстояли дела со всеми.
— Ты знаешь, — сказал он, — там, откуда я родом, сразу после зимы приходит сезон сновидений. Вещие сны порой бывают плохими и тогда почти обязательно сбываются. Люди боятся этого времени. А мне ещё ни разу не привиделся вещий сон.
— Ты счастливый.
— Наверное. — Фёдор пожал плечами. — А ты очень красивая.
— Спасибо.
— А ты что, живёшь здесь?
— Конечно.
— В тумане?!
— Конечно, я ведь стала русалкой! Я же говорила тебе, глупенький, — рассмеялась она. — Но это совсем не плохо.
— Не плохо, — откликнулся Фёдор.
— Я бы могла открыть тебе такую тайную красоту, от которой кружится голова, — пообещала она. — Ты хотел бы?
Фёдор восторженно кивнул.
— Правда, многие не выдерживают, потому что не приходят чистыми. О таких говорят, они не умеют летать.
— Я тоже не умею, — засмеялся Фёдор.
— Нет, ты другой, — промолвила она. — Тебя это не беспокоит. Ты ведь давно преодолел всё это.
— Что?
Где-то сбоку и над их головами воздух пришёл в движение. Что-то захлопало, попытавшись выпорхнуть из тумана, какие-то тёмные пятна. И Фёдор встрепенулся, но она отмахнулась от этого незваного движения, и туман вокруг них засиял ещё ярче.
— Что? — повторил Фёдор.
Мгновенное беспокойство уже улеглось. Казалось, ещё чуть-чуть, и юношу переполнит такая сияющая роскошь, что он оторвётся от земли и взаправду сможет летать.
«Как прекрасно, — подумалось Фёдору. — А ведь я знал… Знал…»
Фёдор повёл рукой, где она держала его. Что он знал? Вновь что-то захлопало в молоке тумана, словно чёрные крылья крупной птицы, и… Откуда она знает про Хардова? Что-то во всём этом не так. Ну, допустим, гид часто ходит в туман. Но ведь она знает не только Хардова. Она знает его. И даже детское прозвище. Кто она? Ведь Хардов предупреждал, что туман может показывать наши собственные страхи. Предупреждал. А какой здесь страх его?
— Нет здесь никаких чудовищ, — успокоила она.
Фёдор вздрогнул и благодарно улыбнулся. Она ещё нежнее взяла его за руку. Но… Что-то уже изменилось в тумане. Мелькнуло тёмным пятнышком, проскользнув в восторженный строй Фёдоровой души. Что-то тягучее и вязкое ухватило его за ноги, мешая попыткам воспарить. Он сказал ей, что за свою жизнь и собаки-то не обидел. Но так ли в действительности чиста его совесть? А может, он и не другой вовсе? С чего она взяла, что он сможет летать? Нет, не сможет. Потому что… кто-то очень далеко звал его. Вероятно, только показалось,
Фёдор!
и уже растаяло. Она попыталась крепче ухватить его и одновременно мягче, дружелюбней. Но…
— Как бы я хотел, чтобы ты оказалась права, — вдруг, словно извиняясь, сказал Фёдор. Что-то было не так. Он не умеет летать. И она знает это.
— Ну зачем ты? — Мгновенная капризная нотка в голосе Лии тут же сменилась прежней нежностью. — Пожалуйста. Нет никаких чудовищ.
Её руки держали Фёдора за рукав куртки. Она слегка перебирала пальцами. Но если бы кто-то со стороны посмотрел на них, то смог бы увидеть, что её рука продолжается дальше куртки. Она вытянулась, изогнулась за его спиной, уже даже больше не походя на руку, хоть и не изменив своего телесного цвета; длинная тонкая вытянувшаяся плоть заканчивалась, пульсируя, у юноши на шее, в том месте, куда упала, небольно кольнув, какая-то веточка или насекомое.
— Зачем ты? — успокаивающе повторяла она. — Я Лия, и я не сержусь на тебя. Так зачем же?
Но некому было увидеть этого в тумане. Как и того, что юноша давно уже не стоит на тропинке, ведущей с Лысого дозора в обход болот.
— Зачем?
— Не знаю, — сказал Фёдор и снова попытался улыбнуться. Но теперь это далось с трудом. Он смотрел на её прелестное личико, белое платье, восхитительные босые ноги. И пытался понять, что было не в порядке. Что он увидел? Какое несоответствие?
— Наверное, дело во мне, — произнёс Фёдор.
И тут же голос, звавший его, прозвучал намного ближе.
«Фёдор!»
Юноша рассеянно повернул голову и тихо спросил:
— Хардов?
— Ну зачем?! — горячо зашептала она, и зелёные глаза вновь попытались наполнить его сияющей радостью. — Тебя всё это давно не беспокоит.
— Нет, Лия! — вздрогнул Фёдор. — Ведь ты, ведь тебя… Ты же…
— Т-с-с, — промолвила она, лучезарно улыбаясь. — Я знаю. И я не сержусь.
«Ну, Фёдор, давай же!»
Юноша плотно сжал губы. И снова посмотрел на её босые ступни. Сглотнул. Этого он не увидел. Вернее, увидел, но не понял. Ещё с самого начала. Вот что не давало юноше покоя. Фёдор поднял на неё изумлённый взгляд.
— Отпусти, — попросил он. И добавил: — Твои ноги…
— Что, милый? Что с моими ногами? — улыбнулась она. — Там нет никакого хвоста.
Нет. Конечно. Только с самого начала мог бы догадаться. С самого начала был обман. Её босые ноги, которыми она ступала по топкой грязи болотных тропинок.
— Ты не учла кое-чего, — грустно сказал Фёдор.
«Давай же, борись!»
Сознание Фёдора, как крючок, ухватилось за найденное несоответствие. Её ноги, так же, как и белое платьице с такой знакомой вышивкой, были идеально чисты. Даже ни один малюсенький листочек не прилип. Соломинка или хотя бы соринка. Чисты. И ещё этот великолепный идеальный педикюр.
— Заметил? — Быстрая сердитая складка выступила у неё на переносице. — Догадался?
— Отпусти, Лия. Мне очень жаль.
— Жаль? — Она приблизила лицо, и из глубины её зелёных глаз плеснуло багряной искрой. — А чего тебе жаль?!
Фёдор не знал, как ответить на этот вопрос, и потому сказал:
— Я не смогу летать, Лия.
«Ну, Фёдор, старайся! Отдай мне её. Отторгни!»
— Я вспомнил тебя, — промолвил Фёдор. — Прости.
— Значит «прости»? — Она вдруг оскалила рот, и последняя гласная вырвалась из неё с шипением. — Вот так всё просто?
— Всё. Хватит, — сказал Фёдор. — Я ухожу.
«Давай! Отдай её!»
— Так же и с Шатуном! — завизжала Лия. — Смотри же! Смотри, что ты наделал!
В следующее мгновение что-то с хлюпающим звуком оторвалось от шеи юноши. И мир перед его взором начал разваливаться. Он успел увидеть испуг в глазах Лии, сменившийся паникой, потому что её обезображенное гримасой ненависти лицо словно проступило трещинами изнутри. Он всё ещё видел её зелёные глаза, а вся картинка сияющего тумана вслед за лицом девушки пошла трещинами, будто стала осыпаться прахом давно мёртвых воспоминаний. И сразу потемнело. Внезапный сумрак навалился на Фёдора, придавив юношу к земле. Перемена вызвала прилив дурноты, и все силы моментально кончились. Расплывчатый овал над ним чуть отпрянул.
— Где я? — застонал Фёдор.
Овал отодвинулся ещё и сфокусировался в лицо Хардова.
— Ну вот. — Голос гида встревожен. — Молодец. Теперь всё будет нормально.
Фёдор рассеянно посмотрел по сторонам. Увидел Еву. Что-то внутри него пожелало улыбнуться. Только и на это не было сил. И не было вокруг ничего ослепительно-белого, не было вовсе. Оказалось, что он лежит на чём-то влажном и липком. Сумрачный полог над ним проступал дымчатой чернотой. Фёдор вновь посмотрел на Хардова — в руке гида извивалось нечто мерзкое, похожее на обрубок окровавленного щупальца. Только Фёдор отчего-то подумал об огромном черве или пиявке.
— Лежи, — заботливо произнёс гид, а затем посмотрел на то, что держал в руке. — Не стоит вставать, пока она не сдохнет.
Юноша почувствовал, как медленный тёмный холод попытался подступить к его сердцу, и опять спросил:
— Что случилось? — Говорить оказалось нелегко. — Где мы?
Хардов всё ещё встревоженно смотрел на юношу. Потом вздохнул.
— Напугал ты нас, дружок, — промолвил он угрюмо. — Мы в самом сердце гиблых болот.
Глава 10
Древние строители
1
— Но… почему? — чуть слышно произнёс Фёдор, когда Хардов помог ему подняться. Он пошатнулся на обессиленных ногах, голова кружилась, а тело будто вымерзло изнутри и наполнилось ватой. — Как мы здесь оказались?
— Мы? — Хардов невесело усмехнулся. — За тобой пришли. Хорошо хоть успели.
Фёдор отвёл непонимающий взгляд от гида, и его нижняя челюсть еле заметно дрогнула. Густые непроглядные клубы темно-серого тумана подползали со всех сторон к небольшому клочку суши посреди болот.
Мунир, сидевший на приподнятой руке Хардова, захлопал крыльями, и серая дымка несколько развеялась. Небольшие лужицы с возвышающимися кочками были затянуты ковром ричии, и там что-то хлюпало, но привычного жужжания болотного гнуса и иных летающих тварей здесь не было. Напротив, во всём, даже в этой странной тишине ощущалось давящее присутствие чьей-то непостижимой и злой воли. Да и была ли эта тишина? Вот только что… У Фёдора снова дёрнулась челюсть. Возможно, показалось, дурнота всё ещё не развеялась, но от этого еле уловимого шёпота словно что-то леденящее проникало в кровь, заставляя её стыть.
— Я… не помню ничего, — виновато промолвил Фёдор. — Вроде бы шёл за вами по тропинке… и что-то кольнуло меня в шею.
— Всё, сдохла. — Хардов показал ему то, что держал в руке: мерзкая плоть конвульсивно дёрнулась напоследок и наконец затихла. — Сейчас тебе станет легче. Это болотная пиявка. Водится только здесь. На канале также известна как червь. Её слизь довольно ценная штука, вызывает видения.
— Ну да, я слышал. — Фёдор рассеянно кивнул. — Слизь червя.
— Именно. При неправильном применении очень опасна. — Гид повернул коченеющий трупик в пальцах, будто заинтересованно разглядывая его, и пояснил: — Ты сам сюда пришёл. Точнее, она тебя привела.
Хардов отбросил мёртвого червя в сторону, и юноша подумал, что тот сейчас растопчет трупик, но этого не случилось. Лишь тёмный, вызывающий непомерную тоску шёпот повторился, только теперь гораздо отчётливей. В этом тумане вокруг явно что-то таилось, да и Хардов вовсе не собирался теперь подобное отрицать, — нечто отвратительное, возможно, всё ещё нерешительное, но наполненное ядом и жадным нетерпением.
— Ну что, чуть легче? — спросил Хардов, а Мунир, словно принимая участие в беседе, вновь захлопал крыльями.
Фёдор посмотрел на ворона и понял, что ему действительно легче.
— Да, — с благодарностью сказал он и попытался объясниться: — Я почувствовал лёгкий укол, когда мы спускались с Дозора, как будто веточка упала или…
— Просто так болотные черви ни на кого не нападают. — Хардов покачал головой. — Редки они, оттого и так ценны. Тебя нашёл Мунир. Ещё чуть-чуть, и могли бы не успеть. Ты не хотел отдавать её.
— Я… — Фёдор облизал губы, сухость во рту приобрела какой-то горьковатый привкус, — вроде бы разговаривал с кем-то.
— Что ты видел? — быстро спросил Хардов. Лицо гида, казалось, оставалось бесстрастным, только вот взгляд стал каким-то очень испытующим.
— Я… не помню, — честно признался Фёдор. — Вроде бы… Не помню.
Хардов помолчал, затем кивнул:
— Хорошо. Но постарайся, это может быть очень важным.
— Постараюсь, — пообещал Фёдор. И посмотрел на щупальцеобразный трупик червя. — А… почему она привела меня сюда? Здесь её логово, да?
— Возможно, а возможно другое, — неопределённо ответил Хардов и подумал: «Нас уже действительно вовсю ищут. Успеть бы только до заката выйти к ступеням. Давай-ка, парень. Вспоминай, что видел, я должен знать, сколько у нас времени».
Вслух он пояснил:
— Эта дрянь впрыснула в тебя немало слизи, пока сосала кровь. Поэтому ты не заметил перехода. — Взгляд гида оставался таким же цепким, испытующим. — Обычно слизь вызывает эйфорию. Иногда показывает нам самые заветные желания, а иногда — небо в алмазах. Поэтому так и ценится на канале. Дороже патронов и оружия. Намного дороже.
Хардов поморщился и подумал, что так и осталось неясным, каким это образом Шатуну удалось организовать добычу этой дряни. Нахождение здесь, в гиблых болотах, чревато само по себе, и Хардову не раз доводилось видеть «старателей», которым зато, чтобы выбраться отсюда, пришлось заплатить собственным рассудком.
Но факт остаётся фактом: Шатун сбил цены и заделался основным поставщиком слизи на канал. Шатун всегда не до конца разделял моральные нормы их Учителя, и ещё в школе гидов его интересовали запретные знания. Как и их всех. Но безболезненно ходить сюда, в место, за визит в которое может быть выставлена самая роковая плата… Хардов догадывался, что это, вероятно, связано с тем давним происшествием, когда Шатун невольно оказался на линии взгляда Второго (или вольно — вот ещё один вопрос, который так и не даёт покоя), но насколько далеко зашла перемена и что сейчас в действительности происходит с человеком, которого он когда-то почитал за брата и делился последней краюшкой хлеба, Хардов не знал. Он не знал, как рассудок Шатуна справляется со всем этим, насколько он уже на самом деле по другую сторону. Оставались лишь догадки. Одна мрачней другой.
А Фёдор молодец. Сам отдал пиявку. Любая попытка сорвать червя насильно могла бы оставить парня в той эйфории, куда ушёл его разум, и мы получили бы на руки просто овощ. Молодец Тео. Хотя как посмотреть. В его сознании было много зацепок, чтобы отличить одно от другого, как и в сознании самого Хардова. Человек с более простой организацией психики, да чего там, — гид усмехнулся, — с более чистой совестью мог и не вернуться. Только вряд ли подобные вещи делают кого-либо счастливей. Но всё равно, молодец Тео. И он ещё может оставаться счастливым, хоть короткая передышка и подходит к концу.
Хардов подумал, что, возможно, стоит ввести парня в транс, чтобы узнать, что он видел, да уж больно тот пока слаб. И гид решил, что, наверное, немного времени у них всё же есть. Совсем немного, но есть.
И тогда Фёдор задал вопрос, перечеркнувший все рассуждения гида и заставивший всё внутри него на мгновение оцепенеть.
— Кто такая Лия? — шероховатым, словно больным голосом спросил он.
2
Ева видела то, что укрылось от всё ещё не до конца пришедшего в себя Фёдора. Она видела, как вдруг побледнел Хардов и какой отсвет непереносимой и затаённой боли отразился в его глазах. Как почти незаметно гид сжал челюсти — да только зубы его скрипнули — и отвернулся, а потом в его то ли серых, то ли голубых глазах мелькнуло что-то светлое, преобразив усталое лицо Хардова. И тут же всё прошло.
— Почему ты спрашиваешь? — глухим голосом, не оборачиваясь, поинтересовался гид.
— По-моему… с ней я говорил, — силясь что-то вспомнить, ответил юноша. — С ней.
Ева всё это видела и слышала. Но гораздо больше её внимание привлекло другое. Там, в тумане. И сопровождали это совсем другие звуки. Шёпот, от которого холод подступал к сердцу. От которого словно заканчивалась вся отпущенная девушке радость, вся звонкость её голоса, умеющего смеяться. Словно этот голос призывал её навсегда попрощаться с солнышком, с закатами над гладью реки, с гаданиями в ожидании суженого, с её нерождённым ребёнком — со всем, что заставляло её сердце биться, откликаясь на голос крови, попрощаться навсегда и следовать за этим призывающим шёпотом в мглистую зыбкость, бродить печальной тенью среди безысходного сумрака.
— С ней говорил, — только что подтвердил Фёдор.
Ева вздрогнула и расширившимися глазами посмотрела на своих спутников.
— О чём? — спросил Хардов.
— Не могу. Вообще не помню. — Фёдор помотал головой. — Она была босиком.
И снова Еве показалось, что зубы Хардова скрипнули.
— Сможешь идти? — всё так же не оборачиваясь, спросил он. — Нам надо поскорее убираться отсюда.
Это было правдой. И только Ева знала, насколько. Потому что шёпотом всё вовсе не ограничивалось в этом гиблом месте посреди болот. Ева не смогла бы с уверенностью сказать, помутился ли на мгновение её разум, вызвав кошмарное видение, или это происходит на самом деле.
Вместе с шёпотом из тумана показалась рука, бледная, со скрюченными пальцами и длинными тёмными ногтями; как хищная лапа, она пошарила в пространстве и снова убралась в туман.
Ева почувствовала, как какой-то сладковатый ком сковал её горло. А потом сердце девушки на мгновение остановилось. В висках бешено застучало, потому что видение…
В ближайшей лужице, только что затянутой зелёным ковром, словно ветерок заиграл на поверхности, тина разошлась в стороны, и там, в тёмной глубине девушка увидела… Она не сразу поняла, что. И хоть какая-то часть её естества уже догадалась, она не сразу поняла, что это бледное всплывающее пятно было женским лицом. Точнее, мёртвым женским лицом. Вздох Евы оборвался на всхлипе. К спине и к узлам под локтями словно приложили ледяной металл.
Происходящее полностью приковало её к себе, парализовав волю и любые попытки сопротивляться. Утопленница оказалась совсем молодой, юной, наверное, ровесницей Евы, и её белое платье колыхалось, точно саван. А потом это обескровленное лицо поднялось к поверхности, и Ева увидела трупные пятна, и как зеленовато-белёсые губы чуть разошлись, выпуская пузырёк воздуха. Мёртвые глаза вдруг открылись. Разомкнулись и уже совсем скоро перестали быть слепыми, похожими на фарфоровые шарики. И Ева почувствовала, что у неё подкашиваются ноги. Потому что глаза мёртвой отыскали её из-под воды. И как только это случилось, утопленница начала вставать. Мёртвая девушка садилась, и тёмная жижа стекала по её платью, ставшему ей саваном. Ева закричала.
— Не смотри туда! — быстро проговорил Хардов.
А Мунир, перебравшийся на ветку чахлой берёзки, чуть раскрыл клюв и захлопал крыльями. Хардов двигался очень быстро, и Ева не сразу догадалась, что это тяжёлое на её плече было рукой гида.
— Иди сюда, Ева, не смотри!
Хардов нежно, но настойчиво отворачивал девушку от кошмарного видения, и как только морок рассеялся, она бросилась к нему, угодив в распростёртое объятие. Прижалась к плечу. Почувствовала, что дрожит:
— Я… я… там…
— Тс-с, всё, там ничего нет, — успокаивающе произнёс Хардов и сгрёб её в охапку, как ребёнка. — Нет ничего. Всё.
Впервые со времени своего детства Ева так сильно прижималась к Хардову. Она ещё чуть-чуть ослабла, и тогда к ней снова, хоть и на мгновение, вернулись те почти забытые ощущения неоспоримой надёжности и спокойной силы, ощущение счастливой поры, когда мир был ещё огромен и совершенно безопасен.
— Всё, — повторил гид. — Смотри, не бойся. Просто лужа.
Ева быстро, точно украдкой, обернулась, и там действительно ничего не было. Поверхность лужицы оказалась спокойной и затянутой зелёным ковром ричии и тины. Только почудилось Еве в этом зелёном, похожем на глаз омуте что-то издевательское, какой-то хитрый прищур. Как будто насмешка. Как будто кошке вздумалось ещё чуть-чуть поиграть с мышкой.
— Что это было, Хардов? — Ева ощутила новую волну дрожи. Она вовсе не торопилась высвободиться из объятий гида.
— Старые кости, — глухо отозвался Хардов.
Ева провела рукой по губе, сердцебиение постепенно приходило в норму. Взгляд автоматически прошёлся по тому месту, где из тумана появлялась рука, но и там вроде бы ничего не было.
— Старые кости? — Еве всё же пришлось отстраниться.
— Те, кто сгинули при возведении канала, — хмуро кивнул гид. — Древние строители были не во всём милосердны.
— Но… мы… это из-за нас?
— Они лежат здесь с незапамятных времён. Обычно спят. Но сегодня их что-то разбудило. Не мы. Я услышал их перешёптывания ещё на Лысом дозоре. И уже тогда мне это не понравилось. Я думаю, нас завели сюда.
— Да, — откликнулся Фёдор. Его голос прозвучал слабо и всё ещё казался больным. — Я тоже слышал шёпот. Наверное, нас действительно заманили сюда. Это всё из-за меня. Но кто такая Лия? Вам известно?
Гид какое-то время смотрел на юношу, затем сказал бесцветным голосом:
— Я не знаю, что ты видел.
— Вы ведь сказали, что это важно, — возразил Федор, — чтоб я вспомнил. А теперь… По-моему, вы что-то скрываете от меня. Зачем?
— Мне нечего скрывать.
— Тогда скажите мне. Мы оказались здесь по моей вине. Из-за меня! И я должен знать.
— Никто тебя не винит.
— Да, наверное. Но я хотя бы должен знать, за что.
— Мы уже достаточно поговорили.
— Нет, — с неожиданной твёрдостью произнёс Фёдор.
Хардов смотрел на него, плотно сжав зубы. Затем сказал:
— Я знал одну Лию. Очень давно. Она была ученицей в школе гидов. А потом умерла. И я правда не знаю, что именно ты видел.
— Но почему она приходила ко мне?!
Этот шёпот вокруг затих, казалось, что-то в тумане напряжённо вслушивается в их разговор.
— Достаточно, — ровно произнёс гид. Его лицо оставалось бесстрастным, но только Ева неожиданно остро почувствовала, сколько за этим кажущимся равнодушием скрывается потаённой боли.
«Что за тайну ты прячешь, гид Хардов?» — подумала Ева. И при чём тут этот бестолковый мальчишка, который ей неожиданно стал нравиться.
— Потому что… — Ресницы Фёдора вдруг задрожали, а взгляд сделался пустым. — Потому что существуют сны, — обескураженно произнёс он. — Вспомнил. Так она мне сказала. Но… почему?
Ева увидела, как щека Хардова еле заметно дёрнулась.
— Почему?! — горячо повторил Фёдор. — Что со мной происходит? Чьи сны я вижу?! И ещё… голоса.
Хардов всё ещё молчал. Наконец он тяжело произнёс:
— Успокойся. Всё с тобой в порядке.
— В порядке?! — с искренним изумлением воскликнул Фёдор.
— Тихо, — сказал ему Хардов. — Они очень рассержены. — Он махнул куда-то неопределённо в туман. — Да, в порядке. Нормально.
— Она говорила со мной, как со знакомым. За кого она меня приняла? Почему? Как же, нормально…
— Они рассержены, — тихо, но настойчиво повторил Хардов. — Это для нас сейчас важнее всего.
— Но…
— Обещаю, что ещё до конца этого рейса ты получишь ответы на свои вопросы. Но такого не случится, если мы не выберемся отсюда. И сейчас для нас существует только это. Это главное.
И словно в подтверждение чуть слышный мучительный вздох волной прокатился по болотам.
— Хардов, туман, — позвала Ева. Голос девушки упал, нотки испуга в нём вот-вот могли сорваться в панику. — Он… Он движется!
Гид отвёл взгляд от Фёдора. И тогда этот шёпот вокруг зазвучал отчётливо и всё громче, и в нём даже можно было различить стонущие звуки. Туман действительно пришёл в движение. Дымчатые языки поползли вперёд. Хардов раздвинул полы своего плаща. Со всех сторон на них надвигался туман.
3
Солнце садилось за правый берег. Конечно, до полного заката, какой можно увидеть на «чистых» территориях, было ещё далеко, солнце падало за стену тумана, но с востока, со стороны левого берега на канал наваливался сумрак.
— Где это место? — спросил капитан Кальян. Возвращение на канал вселило в него привычную уверенность, и воспоминание о доме Сестры всё меньше бередило душу. — Где мы примем их на борт? Почему ты всё не говоришь мне?
— Совсем рядом, — отозвался Ваня-Подарок. — Вон, видишь, впереди по обоим берегам ступенчатые выходы к воде, как широкие лестницы? Только нам надо будет пристать к чужому берегу.
— Ты уверен? — с сомнением поинтересовался Кальян. — Это Ступени. Мы там не останавливаемся.
— Я знаю, капитан. Но Хардов выйдет именно оттуда.
— Поверь мне. — Матвей с недовольством разглядывал приближающиеся каменные лестницы, украшенные эмпирическим парапетом, того же стиля беседками и скульптурными группами, ближайшими из которых оказались небольшие дельфинчики и полуобнажённый мальчик, играющий с тритоном. — Это не просто суеверия. Нехорошее место.
— Я слышал, Матвей. Но у Хардова есть для этого основания.
Кальян покачал головой. Гребцы никогда не задерживались у Ступеней. Проходили их на полных ходах, прижимаясь к своему берегу. Поговаривали, что под Ступенями находится единственное место, где в канал впадает ручеёк из гиблых болот. И этой тоненькой струйки отравленной воды хватало не только для того, чтобы притягивать к себе уйму крыс, многие из которых, чего ж скрывать-то, являлись самыми настоящими скремлинами. Поговаривали о вещах намного похуже. Что на закате, — хотя сам Кальян не видел, держался от этого местечка подальше, — что-то нехорошее, неправильное начинало твориться со скульптурами, и самыми неправильными были не вездесущие красноармейцы и колхозница, а именно самый безобидный играющий мальчик. Может, это правда, может, нет, но несколько лодок пропали здесь, сгинули в неизвестность, и проверять слухи на собственной шкуре Матвею вовсе не улыбалось.
— Что ж вы за люди-то такие? — пробурчал капитан. — На всём Длинном бьёфе это единственное плохое место. И до него, и особенно после, ближе к Дмитрову, вода на канале так хороша, живая, как из родника, пить можно, не говоря уж о том, чтобы купаться. А он мне — останавливайся здесь. Что за люди?
— Гиды. — Ваня-Подарок пожал плечами и ухмыльнулся.
— Ничего смешного. Что ж это — гиды и всё можно? Так не бывает. Нельзя так, как-то не по-людски.
— Не кипятись, капитан.
— Нет, ну ты мне объясни: почему из всех прекрасных мест он выбрал именно это? Нет, просто объясни! Может, я пойму. Что он тут позабыл, Хардов-то, именно тут?
— Ты совершенно прав, — произнёс Ваня-Подарок и умиротворённо откинулся к борту лодки. — «Позабыл» — правильное слово. Хотя я говорил ему, что не избежать этого. Не хотел он брать чужих. Думал обойтись Муниром. Не хочет он их мучить, жалеет. Честно говоря, я тоже не хочу.
— Вань, — Кальян озадаченно посмотрел на альбиноса, — ты вот сейчас что мне сказал?
— Да про скремлинов я. И Тёмные шлюзы, которые без них не пройти.
— А-а. — Кальян хоть и покивал, но взгляд его сделался ещё более озадаченным. — И что?
— Матвей, до Тёмных шлюзов, над которыми туман висит всегда, на канале есть ещё только одно место, где можно совершить сделку. И это место — Ступени.
— Какую сделку?
— Не беспокойся, капитан, вам завяжут глаза. Меня и самого от этого трясёт… По желанию, конечно, ну-у… глаза-то.
— Какую сделку? — повторил здоровяк, чувствуя, что у него запершило в горле.
Ваня-Подарок смотрел на уже близкую каменную лестницу, спускающуюся к воде.
— Вот они, Ступени, — произнёс он. — До Темных шлюзов у нас осталось только одно место, где он появляется. Это здесь.
— Появляется… этот дед? — начал догадываться Кальян и сам удивился, что не смог сдержать какого-то очень нехорошего смешка. — Ты про него?
— Дед, — согласился Ваня-Подарок. — Только боюсь, что сегодня ты увидишь Перевозчика несколько другим.
4
«Они слышат нас, — подумал Хардов. — Не знаю, понимают ли, но слышат очень хорошо». Он, чуть сощурив глаза, смотрел на наползающий туман, а Мунир перелетел к нему на плечо и вцепился когтями в прочную ткань плаща. Дымчатые языки то густели, наливаясь чернотой, то, вновь светлея, плыли внутри надвигающейся стены, наперерез общему направлению, и гиду это очень не понравилось.
Редко когда туман был так активен, будто внутри него невидимое призрачное воинство совершало свои перестроения. Если у них и было время для того, чтобы относительно спокойно уйти отсюда, то сейчас оно закончилось. Их действительно заманили, и Хардов всё больше склонялся к мысли, что ему известно, кто. Он быстро посмотрел на своих подопечных и поднёс указательный палец к губам, закрывая их: т-с-с, ни звука. Затем отвернулся, широко расставив ноги и подняв голову.
В тысяче поединков на тысяче дорог Хардову не раз приходилось принимать эту позу, гордую, угрожающую, превращающую его в сильно скрученную пружину, готовую мгновенно распрямиться, в кобру, готовую к броску. И каким бы ни был его противник, он всё же предпочитал обратиться к нему со словами предупреждения.
— Мой скремлин слаб, — спокойно сказал Хардов. — Но у него ещё достаточно сил, чтобы помочь мне.
Фёдор смотрел на гида, и липкий, до тошноты страх несколько отступил. А Хардов бережно погладил ворона и негромко промолвил:
— Мунир, мне понадобится твоя помощь.
Ворон встрепенулся, захлопав крыльями, несколько вытянул шею и стал тревожно переминаться с лапы на лапу. Гид снова погладил его — птица начала успокаиваться, впрочем, крылья остались раскрытыми.
— Мне не нужно видеть, а только слышать. Понимаешь меня? — прошептал Хардов. А затем он заговорил громче и чётче, оставляя короткие паузы между словами, а ворон склонил голову и смотрел ему в глаза. — Не нужно видеть, нет, это тебя убьёт, старый друг. Мне-не-нужны-глаза-в-тумане. Я должен лишь слышать их. Совсем чуть-чуть.
«Чуть-чуть, — мрачная усмешка промелькнула по краешку сознания Хардова. — Насколько чуть-чуть? Насколько ты готов и дальше жертвовать своим вороном?»
Мунир всё ещё смотрел своими глазами-бисеринками на Хардова, а тот деликатно отыскал у него в подкрылье совсем небольшое перо и быстрым точным движением выдернул его. Ворон чуть приоткрыл клюв, как будто от боли, да так и застыл. И тогда Хардов сказал нечто странное:
— Мунир, я слышу твоё сердце.
В интонации его голоса присутствовало что-то настолько нежное и личное, почти интимное, что Фёдор почувствовал необходимость отвернуться. А Ева, сама не ведая того, придвинулась к нему вплотную, коснувшись юноши плечом. Внимание Евы было приковано к Хардову, её застывшие, чуть влажные глаза на побледневшем лице казались сейчас огромными.
— Твоё сердце, — прошептал Хардов одними губами.
Клюв Мунира ещё приоткрылся, и Фёдор увидел…
Юноша снова подавил острую необходимость отвернуться. Зрелище оказалось невозможным и одновременно завораживающим. Всё, что Фёдор когда-либо знал о скремлинах, сейчас могло быть либо подтверждено, либо опровергнуто. Из клюва Мунира поднималась вверх тоненькая и беззащитная светящаяся струйка, с которой словно осыпались серебряные искорки. Она была тонка, как ниточка, и возможно, только показалась, но такое же свечение возникло вокруг странного украшения Хардова — весёлые серебряные искорки играли на игрушечном костяном бумеранге.
— Всё, — быстро сказал Хардов, ладонью закрывая ворону глаза.
Но мир вокруг них уже изменился. Всё слуховое пространство словно ожило, вычленяя из монотонного шёпота совсем другие звуки. Шаги в тумане. Беглые, настороженные… Шершавый шелест, сменяющийся чавкающим хлюпаньем, будто что-то ползло между кочками, хищное, но ещё до конца не родившееся из болот. Протяжный стон склонённого под гнётом мрачной тяжести дерева и то, чего не перепутать и от чего мороз иголочками пробежал по коже, — ворчливое присутствие незримой огромной толпы.
Только звуками всё не ограничилось. Туман надвигался медленно, но теперь он словно подобрался, уплотнился, граница его сделалась более чёткой, а в скольжении теней по внутренней стороне густеющей дымчатой стены смутно угадывались человеческие фигуры. Всё это продолжалось лишь несколько коротких секунд, пока плясали весёлые искорки.
Фёдор посмотрел на Мунира. Ворон казался ослабленным, но клюв его был закрыт, сияние исчезло. И Фёдор вдруг понял, что увидел сейчас нечто тайное и восхитительное, чего он никогда не забудет. На миг его переполнило незнакомое радостное чувство, ему захотелось кричать, словно всё хорошее, что он знал о жизни, сосредоточилось в этом голубовато-серебристом свечении. Словно оно и есть сама жизнь, существующая вопреки всему даже в самых плохих местах. Словно мир намного больше наших страхов, скрытых туманом, и его сияющая сердцевина всегда в нас; мы несём в себе великую тайну и великий дар, и ничто не в состоянии у нас этого отнять.
Сердце юноши восторженно застучало.
«Так сияет… любовь, — сам того не зная, чуть было не прошептал он, — из которой состоит всё вокруг. Из которой всё сделано, как… все, что можно увидеть. Только больше. Потому что это чистое сияние скрыто везде. Везде и во всём. И… и… В нём все наши праздники и все наши песни. Всё наше радостное „да“, выплеснутое навстречу лицевой стороне мира, и как бы ни прогнила изнанка, это сияние ещё в состоянии всё исправить. И… и… или…»
Фёдор рассеянно захлопал глазами. Он вдруг ощутил что-то ещё, что накинуло тень на угнездившуюся в его сердце радость. Он почти понял что-то, но… Всё уже прошло. Они стояли в самом центре гиблых болот, и они здесь по его вине. Хардов пристально смотрел на юношу и снова поднёс указательный палец к губам — молчи…
Мир вокруг них оказался полон совершенно другими звуками.
* * *
«Молчи, молчи, дружок, — думал Хардов. — Не время сейчас для иных слов».
Шёпот и стонущие вздохи не отошли на второй план, но в них стали появляться обрывки фраз, которые всё больше обретали осмысленность. Можно было различить, как из отдельных непонятных тёмных звуков рождаются слова, такие же тёмные, но всё же привычные уху.
«Это продлится недолго, — успел подумать Хардов. — Я смогу понимать их язык, а они слышать и понимать меня. Недолго».
А потом все звучавшие в нём мысли утихли.
— Сыновья и дочери Второго, — громко и внятно произнёс Хардов, — я знаю о вас. И не собирался нарушать ваш покой. Мне нужно лишь пройти к Ступеням.
Ева моргнула. В её высохшем горле наконец родилась капелька влаги. Она вовсе не заметила, как вложила свою ладонь в руку Фёдора. Движение было машинальным, вызванным скорее страхом, но и чем-то сокровенным, чему невольными свидетелями они стали. Да и Фёдор не сообразил, что несильно сжал руку девушки.
Гид немного склонил голову и добавил:
— Прошу вас пропустить меня.
Его слова не возымели действия. Тогда Хардов отвёл в сторону полу плаща, и из-под неё выглянул ствол укороченного «калашникова».
— У меня есть серебряные пули, — не понижая голоса, сообщил гид. — А есть и серебряные монеты. И я иду к Ступеням по делам старой коммерции.
В тумане родился короткий, то ли настороженный, то ли недоверчивый всхлип. Возможно, его движение несколько замедлилось, но чистый островок составлял уже не более двух десятков метров в диаметре.
— Вы знаете, о какой коммерции я говорю. И вам лучше пропустить меня.
«НЕЛЬЗЯ!» — могильным холодом дохнуло из неведомых глубин тумана.
У Хардова дёрнулось лицо. Это непреклонное повеление оказалось хлёстким, как удар. Гид бросил быстрый взгляд на своих спутников. Оба застыли, боясь шелохнуться, их щёки обескровились. Возможно, они тоже что-то слышали, но не ушами, а теми крохотными тёмными точками внутри каждого, где способен рождаться ужас.
Гид взялся левой рукой за цевьё автомата, почувствовал, что его губы сделались сухими. Разлепил их, выдохнул струйку воздуха, похолодившую крылья носа.
— Не надо со мной играть, — процедил Хардов.
Сейчас он был полностью внутренне готов, сосредоточен и спокоен. Даже импульс азартного жара, предвкушающего схватку, уже прошёл. Настала холодная и размеренная пора действия. Сейчас, после мига тишины… Веко Хардова чуть дрогнуло. Оставалась проблема: он был не один.
И это было гораздо сложнее. Гораздо. И это приходилось учитывать.
Хардов поморщился.
— Скремлин слаб, — повторил он, но теперь в его голосе звенел металл. — Но ещё сможет стать моими глазами.
Хардов вспомнил бледные круги мёртвого света, ползущие в тумане, и понял, что дела обстоят даже хуже, чем он предполагал. Он стоял на грани. Перешагнуть за которую ничего не стоит, только на сей раз обратного хода, может статься, уже не будет. Каждое его слово теперь потянет на вес золота. Оно станет дороже золота. Станет тем единственным, что действительно важно для человека. Хрупким мостиком, отделяющим жизнь от смерти. Мостиком, который, как когда-то сказал Учитель, — и Хардов отыскал в своём сердце мгновение, и мимолётная светлая улыбка блеснула в его выцветших глазах, — может стать цветущим садом и полностью принадлежать тебе, садом, так похожим на Рай древних, а может — Адом, который милосердно скрыл туман. Вопрос выбора всегда и только внутри тебя. Но Хардов не верил больше в Ад и не верил в Рай. И он уже принял все решения.
— Серебряные пули, — произнёс Хардов, а затем, повышая голос, словно купец на рынке, добавил: — Или серебряные монеты?
Гид не мигая смотрел на приближающуюся завесу мглы. Ждал. Вслушивался. Как обрывки фраз проворачивались с трудом и скрежетом плохо подогнанных шестерёнок, как она цеплялись друг за дружку, всё больше вычленяясь из шёпота и бормотания, и как наконец в хоре шершавых грязных клокочущих звуков тягостным выдохом пронеслось:
«Серебряные пули»
И тут же многоголосое эхо откликнулось, повторяя эту фразу с самыми странными интонациями — от вопросительных до отрицательных, от боязливых и пропитанных ненавистью до панически-негодующих и капризных, словно повторял всё это некто совершенно безумный, пребывающий в давно уже утраченном времени. Только они не были безумны. Вернее, сокрушительное безумие злой воли, что держала их здесь, и было тем единственным и неведомым жутким способом их существования.
Правая рука Хардова легла на затвор. Мгла теперь действительно ползла медленно, словно нехотя, и стало возможным различить какую-то атавистическую попытку диалога или самодиалога:
«Нельзя пропускать. Сказали, нельзя».
И контраргумент, полный истеричной ненависти:
«Серебряные пули».
«Плохо. Не сказали про пули».
Шипящее и всё более наливающееся злобой возражение:
Нельзя…
Пропускать…
Сказали. Нельзя. Пропускать.
И резонное, на грани несколько комичного, жадно-задумчивого сожаления:
«Серебряные пули плохо. Сказали, будет легко. Просто. Просто забрать их. Плохо не сказали».
Хардов передёрнул затвор. С сухим клацающим звуком патрон оказался в патроннике. И все звуки смолкли.
Фёдор посмотрел на Еву. И она ответила ему прямым взглядом. Испуганным, трепетным, но и… было в нём что-то ещё. Что-то, чего Фёдор так и не успел понять. Потому что в следующее мгновение прозвучал голос их гида.
— А теперь послушайте меня, — произнёс он повелительным тоном. — Я Хардов, вернувшийся воин, и со мной те, кто не достанется вам. Решайте: серебряные пули или серебряные монеты?
Это было сказано с таким непреклонным достоинством, что Ева невольно улыбнулась. И в липком киселе страха, пропитавшего каждую клеточку её существования, стало рождаться что-то робкое и новое, похожее на гордость. Фёдор же смотрел сейчас на гида просто с прямым и открытым юношеским восхищением.
— Решайте, — властно повторил Хардов, метнув в туман ледяной взгляд. — Я иду к Ступеням.
А затем он сделал короткий шаг вперёд. И движение мглы прекратилось.
Повисла тягостная пауза. Словно нечто в тумане натолкнулось на это короткое движение, а может, на имя «Хардов»; натолкнулось, как на невидимое препятствие, остановилось и сейчас раздумывало.
Гид не мог позволить себе тратить время. Совсем скоро они перестанут понимать его. И их прерванная сладкая грёза, нарушенный сладкий сон оставит им лишь один выход: завистливую, ненасытно-бессмысленную, хищную агрессию.
— Оставьте вашу жажду и вашу жадность. — Хардов говорил, чеканя каждое слово. — Они не в помощь. Я ещё исполню, что должно, но не сегодня! Если потребуется, я могу дать слово. Вам известно, что это значит, — зарок ненарушаем. Но со мной те, кто не достанется вам.
И гид сделал ещё один шаг вперёд.
Вероятно, Фёдору только показалось, что мгла несколько отпрянула. Но всё дымчатое пространство перед Хардовым стало набухать чернотой.
— Я. Иду. К Ступеням, — сказал Хардов.
Скорее всего, по той причине, что Фёдор смотрел на гида, возможно, по какой иной, он не увидел того, что открылось Еве. Из набухшей черноты появилась рука, та самая хищная лапа, которую девушка уже видела, только теперь на кончиках скрюченных когтей висели темные дымчатые языки. Еве показалось, что стало ещё холодней, невозможно холодно, что стынет сердце; лапа, скрюченная рука не дотронулась до Хардова, лишь дымные клочки-языки облизали его лицо, и лапа убралась обратно во мглу. Но перед тем как сумрачная длань исчезла, где-то на грани слуха, а может, между ударами её стынущего сердца, девушка услышала невыносимо тоскливое, невозвратное и непреклонное: «Берём слово».
— Значит, решено, — просто сказал Хардов, убирая оружие. А затем он всё же застегнул свой длинный плащ, кутаясь, словно его пробил озноб.
Фёдор не видел руки, окутанной клочьями тумана, и не слышал того, что слышала Ева. Если только что-то мелькнуло на краешке сознания, холодком пробежав по затылку.
И только тогда Фёдор и Ева обнаружили, что держатся за руки. Фёдор, которого не только детские друзья, а даже гид Хардов звал Тео, и Ева, у которой было лишь одно имя. Молодые люди смутились, потупив взоры, и их руки разомкнулись.
— Идёмте, — позвал Хардов, не глядя на своих спутников. — Они не опасны для нас больше.
И гид вступил в открывшийся тоннель.
Ева, не оборачиваясь, пошла за Хардовым. Вскоре к ним присоединился и Фёдор. Он уже сделал несколько шагов, но что-то заставило его обернуться и бросить на болота последний взгляд.
Обрубок щупальца телесного цвета, мёртвый червь, что завёл их сюда, лежал между двумя кочками на том месте, где его бросили. А длинная искривленная лунка под ним, залитая тёмной водой, показалась сейчас ухмыляющимся ртом. Фёдор нахмурился, и на какое-то мгновение его взгляд сделался пустым, как у лунатика.
«Это и не болота вовсе, — подумал юноша. — Это маска, маскировка, скрывающая что-то гораздо более гиблое».
И следом волною чёрной колючей пустоты в нём поднялся вопрос, который чуть слышно слетел с его губ:
— И все же кто такая Лия?
Глава 11
Серебряные монеты
1
Раз-Два-Сникерс была сильно не в духе. А когда такое случалось, все, кто оказывался рядом, предпочитали вести себя потише. На взгляд Колюни-Волнореза, не то что поджали хвосты, а вроде как чувствовали себя виноватыми. Хотя за собой Волнорез никакой вины не видел. Ну, не отвечает Шатун на телефоны, заперся там на своей насосной станции («Великой-И-Загадочной-Насосной-Станции-Комсомольская», — поправил сам себя Колюня) и видеть никого не желает. Шаманит чего-то. Такое уже не раз бывало. Но потревожить, зайти к нему, конечно, никто из бойцов не рискнёт, своя жизнь дороже. Может, он в трансе, думает чего за своими засовами, где музыка играет, но все помнят, чем подобное может кончиться. Сказал нет — значит нет.
Народ, конечно, уважал Раз-Два-Сникерс и побаивался тоже, но чего бы она там ни кричала в трубку, пули от Шатуна в лоб народ побаивался больше. Хотя звонок важный, кто б спорил. Похоже, как смекнул Колюня-Волнорез, это была та самая лодка. Вот такие дела: та самая, что они ищут. Но вроде как без Хардова и девчонки, и ваще, месяц уже пролетел, но пойди их пойми. Тут политика. Тут нужен Шатун и Раз-Два-Сникерс, недаром что догадалась. За этим туманным (Колюня ухмыльнулся) и опасным словом «политика» скрывалось столько мудрёных тайн, что лучше не вникать. Да и ваще, держаться подальше. Почти как… как…
— Великая и загадочная станция «Комсомольская»! — нашёлся Колюня и смачно сплюнул. И тут же услышал:
— Волнорез!
Колюня обернулся, совершенно и вовсе не вжав голову в плечи. Раз-Два-Сникерс стояла в полном боевом снаряжении с туго набитым вещмешком.
— Останешься за старшего, — сказала она. Её гневные синие глаза показались Колюне очень впечатляющими, хотя вроде он и так в отсутствие Шатуна формально оставался за старшего.
— Понял, — кивнул Волнорез.
— Я к Шатуну. Эти ссыкуны не могут вызволить его со станции.
— Понял, — ещё раз кивнул Колюня.
— Строй всех. Мне нужна команда из пяти добровольцев.
— А-а-а…
— И не таких ссыкунов. Идти придётся ночью.
* * *
«Время, — думала Раз-Два-Сникерс. — Оно ускользает. Время. Чёртовы трусы, сучьи выродки, маменькины щенки. Всё приходится делать самой. А время уходит, уходит, тает прямо на глазах».
Она пыталась объяснить, как это важно, она кричала, угрожала, пробовала воззвать к разуму и, в конце концов, к их собственному чувству самосохранения — всё как об стенку горох.
— Он не откроет никому, кроме тебя, — услышала она осторожный голос. — Я уже пытался. А вскрыть засовы… ну, сама понимаешь.
— Послушай, Фома, я знаю, что он там занят делом, но, мать твою, это самое дело только что проскользнуло у меня под носом!
— Приезжай…
— Фома! Ты у меня будешь на дмитровских причалах сортиры чистить!
— Знаю. — Голос Фомы больше не показался ей осторожным, он показался ей хрипловатым и больным. Словно простуженным. — Но я не могу. Прости.
— Ладно, — смягчаясь, сказала она. Уж кто-кто, а Фома точно не был трусом, просто очень хорошо знал Шатуна. Выходит, такие у нас издержки управления. — Но если его светлость появится до того, как я прибуду, скажи, что, похоже, я нашла лодку. Тяжёлый одномачтовый, скорее всего, недавно перестроенный шлюп. «Скремлин II». Не задерживать до принятия решения, а только наблюдать — у них «зелёная карта» от Тихона. Понял?
— Хреново дело.
— Не то слово. Да ещё, тех, кто нужен, на борту нет.
— Как так? А чего же ты?..
— Не знаю. Но что-то в ней…
— Интуиция?
— Не знаю. Потом поговорим.
Раз-Два-Сникерс подумала, стоит ли признаться, что они были не в курсе, какое сегодня число? Дошли до второго шлюза, но… Они не просто этого не знали. Они были шокированы, словно потеряли где-то изрядно времени. Однако Фома уже сказал:
— Ты редко ошибаешься. Я всё понял. «Скремлин II». Только наблюдаем.
Раз-Два-Сникерс почувствовала что-то вроде тени благодарности. Фома был смекалистым, понимал всё с полуслова. И надёжным. По части принятия верных решений. Колюня-Волнорез сильно уступал ему в смекалке. Но Колюня был верен, предан как собака. С Фомой обстояло сложнее. Раз-Два-Сникерс не смогла бы с уверенностью сказать, в чьих качествах она сейчас нуждалась больше.
— Я всё контролирую, — как будто в ответ её мыслям сказал Фома. — И в Дмитрове, и на шлюзах. Комар не проскользнёт.
— Фома, это не комар.
— Знаю. До своего приезда можешь ни о чём не беспокоиться.
— Хорошо. И прости, что на тебя наорала.
— Ничего. — Фома помолчал. И, чуть смущаясь, добавил: — У тебя были основания. Да. Пожалуй, ещё какие.
— Ладно. Ждите меня на четвёртом шлюзе.
— Послушай. — Голос Фомы уже приобрёл деловитость. Никаких обид. — Постарайся вызвать полицейскую лодку. Я знаю, что с этими дмитровскими козлами приходится утрясать кучу бумажек, но… может, они тебя послушают.
— Хорошо, — согласилась Раз-Два-Сникерс.
Это было правдой, Фома в очередной раз доказал, что зрит в самый корень: на вёсельном ходу капитана Кальяна уже не догнать. И насчёт полицейских бюрократов тоже было правдой: их лодки с электромоторами и на автономном питании были чем-то вроде знака высшей государственной власти. Даже богатейшие люди города, влиятельнейшие из купцов пользовались услугами гребцов, хотя и кичились своими караванами. Шатун получил бы полицейскую лодку без разговоров. Раз-Два-Сникерс тоже надеялась, что ей хоть и не сразу, но всё же удастся объяснить этим олухам, чьи задницы она сейчас прикрывает.
— Постараюсь получить лодку, — пообещала Раз-Два-Сникерс, и хоть ей сделалось намного спокойней, она решила всё же не сдерживать колючую шпильку: — И буду надеяться, что они окажутся более сговорчивыми, чем вы.
И она повесила красную трубку на рычаг телефонного аппарата. Стрелки больших шлюзовых часов показывали 14:47.
* * *
Примерно через час, когда уже была собрана команда «добровольцев», Раз-Два-Сникерс, ни на что особо не рассчитывая, снова связалась с «Комсомольской». Шатун не выходил уже больше суток.
— Общается с духами, — ухмыльнулись на другом конце телефонной линии. Однако чувствовалось, что эта ухмылка — лишь ширма, скрывающая подлинную эмоцию, густой и тёмный суеверный страх.
* * *
В 17:45 наконец раздался звонок из департамента водной полиции и сообщили, что все формальности улажены, лодка вышла.
— Значит, будет здесь не раньше восьми, — сказала Раз-Два-Сникерс. — Я не ошиблась — придётся идти ночью.
Она задумчиво посмотрела на следующего за ней тенью Колюню-Волнореза и вдруг заявила:
— Лапоток.
— Что — Лапоток? — спросил Колюня, пытаясь отмахнуться от очень неприятной догадки.
— Старшим останется Лапоток, — пояснила Раз-Два-Сникерс. — Ты едешь со мной.
Колюня сглотнул: Лапоток никогда ещё не оставался за старшего. А Волнорез никогда не ходил по каналу после заката.
— Это обязательно? — спросил он.
— Чего скис? — Раз-Два-Сникерс хлопнула его по плечу. — Стоят самые благоприятные дни. А на лодке станковый пулемёт и мощный прожектор. Беги собирать вещи.
— Как скажешь, — совсем расстроился Колюня.
— Эй, Волнорез, подожди. — Она снова коснулась его плеча, но это был уже совсем другой жест — доверия и даже какого-то странного обещания. — Ты мне нужен. Понимаешь? Я должна знать, случись что, за спиной будет тот, кто прикроет мой зад.
— Насчёт задницы это ты хорошо сказала, — попытался пошутить Волнорез, но сплёвывать сейчас ему вовсе не хотелось.
2
Как выразился когда-то Колюня-Волнорез, даже на таких мерзких местечках, как шлюз № 2, могут быть приятные сюрпризы. Полицейская лодка прибыла к 20:00, Раз-Два-Сникерс не ошиблась в расчётах. И вот тут-то выяснилось — сюрприз! — что пороть горячку не следует. Оказалось, что одномачтовая лодка капитана Кальяна — полицейские встретили её на дороге — находится меньше чем в двух часах ходу отсюда. Дрейфует в местечке, известном как Ступени. И никуда особо не торопится. Правда, Хардова в ней по-прежнему нет.
— Может, ты ошиблась? — с надеждой спросил Волнорез. — Может, это не та лодка?
— Может, и так, — задумчиво ответила Раз-Два-Сникерс.
Могла она ошибиться? Конечно, как любой человек. Да только она знала, что не ошибается. Караван ушёл утром, следовательно, Кальян как минимум уже с полдня торчит у одного из самых дрянных мест на канале и никуда не торопится. Ну, и в чём тут ошибка?
«Что вы делаете? — думала Раз-Два-Сникерс. — Что? Что происходит? Сейчас, в течение этого очень непонятного дня? Ваня-Ванечка и Хардов, что-то во всём этом не связывается, чего-то я всё не могу понять».
Время, время… Какое-то время теперь потеряно безвозвратно, и об этом больше не стоит жалеть. Теперь нужно воспользоваться открывающимися преимуществами. Пулемёт и мощный прожектор — безусловно, такие преимущества в темноте. Да ещё плюс скоростной ход. Торопиться не стоит, никуда они теперь не денутся. Вся ночь в распоряжении. А ночью на канале нет посторонних глаз. Никуда не денутся. Только бы постараться понять, что они задумали. Мог ли Хардов просчитать наперёд её мысли и устроить отвлекающий манёвр? Конечно, мог, ведь их этому учили. Да только и она может сесть теперь их лодке на хвост и вести до Шатуна, пока не будет принято окончательное решение.
Но всё же что-то во всём этом не вязалось. Какое-то смутное чувство не давало покоя. Интуиция говорила Раз-Два-Сникерс, что она почти во всём права. Но вот это самое «почти»…
— Все собраны? — спросила Раз-Два-Сникерс перед шеренгой «добровольцев». — А теперь разойтись. Выходим через два часа. В двадцать два тридцать.
И усмехнулась, увидев, какими хмурыми сделались лица бойцов — на полицейской лодке вполне можно было успеть в Дмитров хотя бы до полуночи, а у Колюни в глазах так вообще мелькнул огонёк отчаяния.
— Послушайте, сейчас хорошие дни, — сказала она. — И вы у меня лучшие мальчики на свете! Ведь так?!
— Так точно, — последовал вялый ответ.
Она ласково улыбнулась:
— Послушайте, говорят, на канале нас все боятся. Говорят, что мы сорвиголовы, безжалостные ублюдки. Ещё я слышала вещи похуже — говорят, что мы давно мертвы. Так они говорят о Шатуне. Может, они правы?
Повисло молчание, никто не понимал, к чему она клонит.
— Может, они правы, когда так говорят о Шатуне? Для которого ни туман, ни гиблые болота не преграда. И вы там были с ним. Вы! Каждый из вас. И может, они правы в своих тёплых норках? А?! Только я знаю, что каждый из вас живее их всех! Их всех, прогнивших насквозь!
— Правильно…
— Так что нам канал? Они прогнили насквозь из-за страха. А мы давно мертвы и ничего больше не боимся. Вот каковы мы!
— Верно!
— Прогуляемся с ветерком туда и обратно и покажем, каковы мы. Каковы мы — парни Шатуна. Ведь так?! Ведь мы парни Шатуна?!
— Так точно! — теперь ответ был намного более дружным, и на лицах появились благодарные улыбки.
— Парни Шатуна! Да, я вижу — парни Шатуна! И одна ваша маленькая девочка.
Колюня-Волнорез снова сглотнул. Но теперь не от страха. Он смотрел на женщину своего обожаемого босса и думал, что готов пойти за ней куда угодно. Хоть в ночь, хоть в туман.
* * *
Никому из «добровольцев» и даже верному Колюне-Волнорезу Раз-Два-Сникерс не предложила собрать все свои вещи. Лишь полное походное снаряжение. Шлюз № 2 для многих из них давно уже стал домом. Но всю свою спальню Раз-Два-Сникерс вычистила до мелочей. Посидела немного на скрипучей кровати и, больше не оборачиваясь, вышла на улицу. На канале начинались сумерки. Длинный бьёф засыпал.
Главное её сокровище, сложенный листок из глянцевого журнала, лежал у сердца в нагрудном кармане. Это всё, что осталось у неё от детства. Вместе с воспоминанием о вкусе удивительного продукта, давно уже исчезнувшего на канале. Этот восхитительный, дурманящий голову вкус возникал всякий раз, когда Раз-Два-Сникерс разворачивала свой глянцевый листок и любовалась им.
Вкус шоколада. Нарисованный батончик был как настоящий, можно сказать, как живой, и любовалась им она всегда в одиночестве, потому что иногда на её глазах выступали слёзы. Шоколадный батончик назывался волшебным словом «Сникерс», только это была её маленькая тайна. Она сворачивала листок, клала его обратно в карман и потом долго молчала. И тогда приходили удивительные мысли, грёзы наяву, что в этом умирающем мире есть такое место, где вкус шоколада ещё жив. И она поклялась себе, что обязательно его найдёт, это место.
Шоколадный батончик «Сникерс» стал её волшебным ключиком, пропуском в… она не знала куда. Возможно, в мечту. Возможно, в пустую выдумку. Но она никому ничего не говорила. Тихо-тихо, у сердца жило то, что порой казалось гораздо более реальным, чем её жизнь, полная грязи под ногтями, грубого юмора, крови и пота. Ею восхищались и её боялись, она знала это и с удовольствием всё бы променяла на один вечер, где будет вкус шоколада. И нежность. Которая соединит ту точку в детстве, что она помнила, и ту несуществующую, возможно, грёзу, которую она создала всей силой своего сердца.
* * *
Ровно в 22:30 Раз-Два-Сникерс последней поднялась на борт полицейской лодки.
— Ну что, парни, прокатимся? — бодро сказала она.
Парни улыбались, парни были в порядке. Электродвигатель заработал почти бесшумно, и лодка отчалила. Раз-Два-Сникерс не стала оборачиваться.
Она сказала им, что они прокатятся с ветерком туда и обратно. Ну что ж, вполне возможно, что так и будет. Но она не оставила здесь ничего из своих воспоминаний. Что-то ей подсказывало, что она не увидит больше шлюза № 2. Что-то ей подсказывало, что она вообще больше никогда не вернётся на Длинный бьёф.
3
К Ступеням группа Хардова вышла, когда короткие летние сумерки вот-вот готовы были свалиться в ночь.
— Ну, вот и они, — с явными нотками облегчения в голосе сказал Ваня-Подарок. — А я думаю, куда запропастились? Давай, капитан. Правь к берегу.
К сумеркам канал опустел. И, наверное, некому было увидеть, как большая одномачтовай лодка «Скремлин II» подошла на вёслах к каменной лестнице и как швартовый был брошен на старый кнехт, явно предназначенный для гораздо более грузоподъёмных судов, что плавали здесь на паровом и дизельном ходу. А потом исчезли, стали призраками тумана, и свет их окон стал светом мёртвых болотных огней. Но как только швартовый канат был наброшен, где-то на другом берегу, никто толком не сказал бы, как далеко, морщинистая рука потянулась к шесту, который служил веслом, и надтреснутый старческий голос удовлетворённо произнёс:
— Серебряные монеты.
4
Примерно в это же время, только гораздо выше по каналу, у шлюза № 4, что напротив бывшей железнодорожной станции Турист, Фома бесшумно подошёл к запертым дверям насосной станции «Комсомольская». Это было техническое сооружение, мощные насосы гнали воду по каналу вверх, в сторону Москвы, и поднимали лодки в шлюзах, но Шатун давно уже нашёл здесь для себя что-то другое. Фома не хотел знать, что именно. Насосная станция его пугала, но нельзя было не признать, что все самые верные решения, можно сказать, стратегические решения, как, например, сближение с главой дмитровской водной полиции, Шатун принимал после того, как запирался там в одиночестве. Но ещё никогда он не застревал на станции так надолго.
Фома посмотрел на запертые двери, узкие окна, за которыми стояла какая-то глянцевая тьма, и опять различил этот глухой звук. Стон? Рука Фомы потянулась к двери да так и повисла в воздухе. На станции явно что-то творилось, и вполне возможно, что-то неладное. Все уже давно привыкли, что «Комсомольская» выглядела даже новей, что ли, и без того не особо ветхих, хоть местами и сильно порушенных сооружений канала. Но сейчас её контуры были какими-то… неправдоподобными, неправдоподобно отчётливыми. Фома кое-что понимал в свете и тени, понимал, что в сумерках такого не может быть, неподсвеченное здание не может так выглядеть. Но оно так выглядело, и ещё эта глянцевая чернота в окнах. Фома не мог сказать, что ему это напоминает, эта неправдоподобная тёмная яркость, очерченность линий, но…
Фома передёрнул плечами и убрал руку от двери. Прислушался.
«Древние строители создали это совершенное сооружение и ушли, — сказал как-то Шатун. — Но не до конца».
Фома тогда не понял, что он имел в виду, и не стал его расспрашивать. Его не интересовали все эти сентенции. Честно говоря, в практичном уме Фомы некоторые высказывания Шатуна не находили отклика. Честно говоря, они его раздражали. Не сильно, а так, чтобы молча иронизировать. Он не стал его тогда расспрашивать, но вполне возможно, что стоило.
Фома внимательно слушал, раздумывая, было ли что или только показалось.
Шатун явно ушёл на станцию один и запер за собой двери. Он не выходил уже вторые сутки, а «Комсомольская» исправно функционировала, делая свою работу, и со всех сторон, кроме этой двери, можно было услышать низкий гул работающих машин. А здесь звучала какая-то странная, где-то на очень далёкой границе тишины, музыка. Праздничная, бодрящая, но… Фома не знал, слышит ли он её на самом деле или поддался какому-то тёмному гипнозу этого места. Музыка была маршевая, но… вроде как и не было ничего. Только тишина.
А потом Фома совершенно отчётливо услышал мучительный стон и голос Шатуна:
— Прошу вас, не надо!
Больной умоляющий голос Шатуна — это было, пожалуй, ещё более невероятным, чем праздничные марши или отчётливые контуры. Фома заколошматил в дверь:
— Шатун! Шатун! Всё в порядке? Открой, Шатун!
Босс не отозвался. Но было что-то другое, отчего у вовсе не впечатлительного Фомы по спине пробежал колючий холодок. Глухие голоса. Настойчивые и то ли смеющиеся, издевающиеся, то ли подбадривающие. Шатун словно беседовал с кем-то, и ему отвечали в помещении, где уже вторые сутки он находился в одиночестве. С кем-то, пришедшим с этой невозможной праздничной музыкой.
— Шатун, открой! Помощь нужна?!
Тишина. Нет ответа.
— Шатун, скажи хоть что-нибудь.
Нет ответа. Ни стонов, ни маршей. Или… Фома вдруг понял, что за этой дверью действительно творится что-то очень неладное. И надо немедленно связаться с Раз-Два-Сникерс. Потому что только она сейчас способна решить, как надо действовать. Взламывать дверь, подставляясь под гнев Шатуна, а возможно, и кое-чего похуже, ждать ли, отключать станцию, и вообще что делать? Любое неверное движение может означать катастрофу. Фома полагал, что они все вместе смогут — для его же блага! — справиться с боссом, тем более что Шатун всегда выходил с «Комсомольской» сильно ослабленный, хоть и какой-то прояснённый. Но для этого нужна санкция Раз-Два-Сникерс.
Фома вернулся в караульное помещение. Ему немедленно обеспечили телефонную связь с Длинным бьёфом. Однако лодка Раз-Два-Сникерс уже покинула шлюз № 2.
— Что будем делать? — спросили у Фомы.
Теперь ближайший телефонный аппарат может быть на промежуточной станции, но туда Раз-Два-Сникерс, скорее всего, не зайдёт. Значит, в лучшем случае Дмитров. И Фома принял осторожное, но единственно верное решение.
— Ждать, — коротко ответил он.
5
Хардов сидел в одиночестве на нижней ступеньке лестницы у самой воды и казался полностью погружённым в свои мысли. Фёдор подошёл к нему и тихонечко сел рядом. Невзирая на то что они покинули Дубну уже с месяц назад, это была только вторая его ночь на канале. И так же, как и предыдущая, она оказалась полна звёзд. Фёдору нужно было столько всего сказать Хардову, но он боялся и не знал с чего начать. Гид первым нарушил молчание.
— Что происходит между тобой и Евой? — не поворачивая головы, спросил он.
— Ничего, — растерялся Фёдор. И смутился: он ожидал чего угодно, но только не разговора о Еве.
— Я должен доставить её к жениху в Пироговское речное братство, — сказал Хардов.
— Я слышал.
— И я сделаю это. Чтоб не было никаких сомнений.
— Понимаю.
Хардов взял небольшой плоский камушек и бросил его в воду. Прежде чем утонуть, камушек бойко запрыгал по поверхности.
— Я к тому, что, возможно, ты её больше никогда не увидишь, — сказал гид.
— Ладно, — кивнул Фёдор, но это слово оставило во рту прелый, горький привкус.
— Иногда кое-чем приходится жертвовать, друг мой. — Хардов отыскал на ступеньке ещё один подходящий камушек.
— Для чего? — сказал Фёдор. Его короткой, низкой и какой-то очень нехорошей усмешки Хардов, скорее всего, не заметил.
— Для чего? — задумчиво повторил гид. — Честно говоря, что-то в таком духе я и ожидал от тебя услышать.
И он снова швырнул камешек в воду. Раздалось несколько плесков, и всё затихло. А потом где-то очень далеко послышался ещё один всплеск.
Фёдор посмотрел на тёмную воду: круги от камушка ещё не разошлись, и свет от месяца покачивался на поверхности.
— Нет, я понимаю, долг и всё такое, — сказал Фёдор.
И, пожав плечами, прикусил губу.
— Именно из-за этого, «всё такое». — Хардов наконец посмотрел на юношу. — Ты можешь поступить, как легко. Тебе действительно так и будет. Первое время. Но только, друг мой, совсем скоро эта невыносимая лёгкость раздавит тебя. Опустошит и выкинет, раздавленного и больше ни к чему не годного.
Фёдор помолчал. Потом спросил:
— Я вас сильно подвёл? Ну… на болотах?
— Не сильно. — Рука Хардова стала нащупывать следующий камушек, затем застыла; гид пожал плечами. — Мы успели выйти к Ступеням вовремя, так что всё в порядке.
— А мне кажется, не всё в порядке. Мне кажется…
— Кажется — крестись! — рассмеялся Хардов. — Это дурацкая пословица, но, прости, здесь она подходит.
Фёдор отвёл взгляд, наблюдая, как гид запустил третий камушек, а затем пристально посмотрел на Хардова.
— У меня есть невеста в Дубне. Вероника. Так её зовут.
Так что с этим проблем не будет.
— А вот это неверно, — негромко, но жёстко произнёс Хардов. — У тебя нет невесты. Я видел, как она с тобой поступила. В трактире. Был там.
— И что?
— Не прячься за фальшивые обязательства. И не путай их с долгом. Не стоит подменять одно другим.
Фёдор отвернулся и, словно огрызаясь, пробубнил:
— Ничего я не подменяю.
Хардов ему мягко улыбнулся:
— Одно продиктовано трусостью, для другого требуется мужество. Прости за пафос, но я тебя видел, знаю. Внутри тебя этого достаточно. Но чтоб это принять, тоже требуется мужество.
— А вы ведь всё равно не знаете ответа на вопрос, — вдруг сказал Фёдор.
Брови Хардова еле заметно поползли вверх. «Он всегда был таким, — подумал гид. — Внутри него кремень. И… упрямство».
— На какой же? — поинтересовался Хардов.
— Для чего всё это.
Гид кивнул; когда он заговорил, голос его показался не то чтобы усталым, а, может, чуть печальным:
— Очень скоро каждому из нас предстоит ответить на этот вопрос. Я знаю, какой дам ответ. Надеюсь, что знаю, и надеюсь, что не ошибусь. Скоро и ты узнаешь. — Хардов легко коснулся груди юноши. — Ответ внутри тебя.
Снова раздался этот плеск в ночи, только теперь значительно ближе. Было в нём что-то тревожное и угнетающее одновременно.
— Идём, — поднимаясь, сказал Хардов. — Он уже рядом.
* * *
— Капитан, — позвал Хардов, — я думаю, мой друг Ваня-Подарок уже сообщил вам, для чего мы здесь.
— Команда всё знает, — согласился Матвей-Кальян.
— Хорошо. Тому, кто пожелает, завяжут глаза. Если такие есть, об этом надо сказать сейчас.
Кальян обдумал услышанное и снова кивнул:
— Э-э, мы тут поговорили… В общем, конечно, парни напуганы, но никто не хочет пропустить представление.
— Это не представление, Матвей.
— Нет таких.
— Хорошо. Это продлится недолго. Все, кроме меня, находятся в лодке. Ева в каюте. Никто, кроме меня, ничего не говорит. Ничего, Фёдор. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми. И пока длится сделка, никто не смотрит Перевозчику в глаза. Я вас не пугаю, но спрашиваю ещё раз: есть те, кто передумал, кому понадобится повязка?
Повисшее молчание оказалось коротким.
— Я думаю, что скажу за всех, — произнёс Кальян. — Мы с тобой, Хардов. Может, сейчас и не время, а по мне, так самое время: хочу сказать, что я не ошибся с выбором, не ошибся в нанимателе ещё там, в нашу первую встречу. Мы с тобой, Хардов. Наши глаза принадлежат нам, и мы хотим видеть то, что, возможно, больше никогда не увидим. Каким бы оно ни было. С тобой, Хардов, до самого конца. И по контракту, и, — здоровяк постучал себя кулаком по грудной клетке, — по тому, что внутри. До конца.
Хардов кивнул. Короткий отблеск благодарности в его взгляде уже прошёл, когда он подумал: «Не зарекайся, капитан. Никто не знает, что нас ждёт в конце».
* * *
И стало вдруг очень тихо. Лёгкая рябь на поверхности воды разгладилась. Поверхность сделалась ровной и бездвижной, словно тёмное зеркало. Фёдор посмотрел на другой берег и не увидел его. И не увидел тумана. С той стороны нависла тьма, вбирая в себя, поглощая привычные очертания. И на какое-то мгновение юноше показалось, что они и не на канале уже вовсе, а у каких-то совсем других вод, и что привычная география больше не действует.
«Дурацкие мысли». — Фёдор нахмурился.
Но эта тоскливая темнота притягивала его. Словно она скрывала что-то гораздо худшее, чем чудовища, таящиеся в тумане гиблых болот, словно она скрывала то, что в ней ничего нет. Вообще ничего.
— Дурацкие мысли, — прошептал юноша, крепко сжимая кулаки.
А потом тьма развеялась. Противоположного берега по-прежнему не было. Лишь канал снова пришёл в движение. Он будто превратился в широкую реку и медленно катил мимо свои мерцающие воды.
К ним двигалась лодка. Фёдор снова сжал до боли кулаки. Он уже видел эту плоскодонку. И видел кормчего. Только даже самое склонное к веселью воображение не нашло бы здесь ничего комичного. Лодка была древней всего, что когда-либо доводилось встречать Фёдору, ветхой, словно деревья, из которых её построили, давно уже стали пылью, навсегда исчезнув из памяти людей. И о её размерах нельзя было сказать — огромная она или маленькая. Но ещё древней своей лодки был кормчий. Его мрачное, всё в глубоких морщинах лицо излучало торжествующий ужас, за которым совсем рядом прятался безнадёжный неподвижный покой.
Никогда ещё Фёдору не делалось так тоскливо, ему захотелось плакать, потому что, пожелай сейчас кормчий позвать его, он откликнется, и ничто не найдёт в нём сил, хотя бы капельки сил для сопротивления. И он исчезнет навсегда. Станет ничем. И даже пыль растворится в этой пустой черноте.
«Не надо со мной играть, Харон!»
Фёдор вздрогнул. Он не смог бы сказать, Хардов ли произнёс сейчас эти слова или этот голос прозвучал в нём, жёсткий и насмешливый голос, порой так похожий на голос его отца.
Но что-то укрепило его сердце. Он посмотрел на гида. Хардов стоял на нижней ступеньке у самой воды, в лице его тоже присутствовала мрачная торжественность, но и было в нём что-то ещё. Что-то светлое и печальное, тихая деликатная нежность, с которой — Фёдор понял — гид обращался недавно на болотах к своему ворону. Сердце юноши гулко отозвалось в груди. Потому что он услышал фразу, которую отказывался принимать его разум и о которой, без всякого преувеличения, ведало это самое сердце.
— Те, кого я убил, — шёпотом позвал Хардов.
Лицо Фёдора застыло. Тишина сделалась оглушительной. Лишь мерная работа весла, плеск приближающейся лодки нарушали её.
— Тени тех, кого я убил. — Голос гида окреп, зовущие нотки в нём прозвучали настойчивей, почти что властно.
У борта лодки, где находился Фёдор и притихшая команда, вода пошла рябью, испуская из себя белёсый дымчатый водоворот. И какие-то размытые светлые пятна читались в нём. Там что-то было, в глубине, приближалось, поднимаясь к поверхности. Дохнуло холодом, и Фёдор несколько отпрянул от борта. И бросил беглый взгляд на тёмную воду.
Это были лица. Множество бледных мёртвых лиц. И сейчас они всплывали.
— Я принёс серебряные монеты, — сказал Хардов.
Фёдор в оцепенении посмотрел на гида. И увидел ещё кое-что. Мальчик. Гипсовое изваяние мальчика, играющего с тритоном, показалось сейчас необычайно ярким в лунном свете, хотя на небе поднялся лишь тонкий серпик месяца. Но вовсе не это привлекло внимание юноши. Вовсе не это вызвало лёгкую, но прошедшую леденящей волной судорогу лицевых мышц. Гипсовое изваяние чуть повернуло голову, а потом мальчик открыл глаза. Тёмные, как вишни, и невозможно живые. Гипс разгладился, ни одной трещинки. Лицо мальчика выглядело как фарфоровое и словно светилось изнутри. Лицо мальчика было прекрасным и… Мальчик сладострастно провёл языком по верхней губе, потом, будто настаивая на этом непристойном движении, белый фарфоровый язык, в котором лишь только намечались тёмные прожилки, забегал туда-сюда. У Фёдора дёрнулась щека, и мальчик ему ухмыльнулся.
Лодку качнуло. Фёдор невольно перевёл взгляд. И отпрянул ещё. К первой руке, держащейся за борт, присоединилась другая. Такая же мокрая, мёртвая, полуразложившаяся. Потом ещё одна. Ещё и ещё. Вода словно вскипела. Множество рук, отыскивая крохотные свободные пятачки, пытались ухватиться за борт лодки капитана Кальяна. А потом их обладатели начали подтягиваться. Как будто они только что поплавали себе в удовольствие, а теперь решили вернуться обратно.
— Оставьте эту лодку, — повелительно произнёс Хардов. — Вам не по пути с теми, кто в ней. Но вас ждёт другая. Пришло время старой коммерции.
И они послушали его. Они оставили в покое большую одномачтовую лодку «Скремлин II». Те, кого убил Хардов. Они поднимались, выходя из воды, торопились встать на ступени, словно знали, что на всех серебряных монет может не хватить.
Нос плоскодонки Перевозчика уткнулся в нижнюю ступеньку каменной лестницы.
— Не смотри на него, парень, — шепнул юноше на ухо Ваня-Подарок.
И только тогда Фёдор понял, что уже некоторое время, возможно, всего мгновение, он смотрит в пустые, как бездна, как могильные провалы, глаза Перевозчика. Фёдор отвёл взгляд, и ощущение того, что чернота, пришедшая с другого берега, легла ему на плечи, отпустило юношу.
— Я привёл тех, кого убил, — произнёс Хардов, глядя прямо на Перевозчика. — И принёс плату.
— Меня не касаются дела живых, я не судия, — откликнулся надтреснутый старческий голос. — Но в чёлне хватит места всем. Хватит ли серебряных монет?
— Я в курсе своих долгов. Займёмся делом. Каков твой товар?
Перевозчик какое-то время молчал. Потом сделал приглашающий жест:
— Молодые скремлины. Чисты. С еще незамутнёнными глазами. Захочешь взглянуть?
Хардов бесстрастно ступил в плоскодонку Перевозчика и вернулся с двумя большими плетёными корзинками-клетками, в которых копошились какие-то комочки. Не глядя, поставил клетки на нижнюю ступеньку каменной лестницы.
Теперь тишина сделалась абсолютной. Даже дыхание людей, казалось, на миг прервалось. И все почувствовали, как те, кто стоит рядом с Хардовым, ждут, алчут, испуганно вожделеют, как они полны надежды, надежды обрести то, после чего кончаются все надежды.
Хардов извлёк из-под своего плаща большой кожаный кошель. Развязал его, потянув за бечеву. Тихое, почти эфемерное дыхание пронеслось над каменной лестницей и замерло.
— Идите, обретите покой, — прошептал Хардов.
И скорбь пришла в это место. Фёдору показалось, что он услышал погребальные песни, плач множества женщин и детей над телами возлюбленных и отцов, обещания друзей отомстить и тихий шелест ветра, который уносил память о мёртвых и развеивал её над землёй, спокойной и равнодушной к череде трагедий, к череде смертей и рождений.
— Идите, вы свободны, — повторил Хардов.
А потом он начал шептать их имена, говоря, что они свободны, и каждому, кто проходил мимо него и ложился в лодку Перевозчика, Хардов клал под язык по одной серебряной монете.
И они устраивались на длинных скамьях, и каждая оказывалась впору каждому, и будто засыпали. В основном мужчины, но и женщины тоже. Две или три. Фёдор не знал. Он бы никогда не хотел видеть этого, но смотрел не отрывая глаз. А они будто засыпали и больше не походили на призраков. Люди говорят о таких: «как живые». Как будто они умерли совсем недавно, и глаза их теперь были закрыты.
А рука Хардова снова опускалась в кошель и снова отыскивала там очередную серебряную монету. Он не просилу них прощения, он лишь продолжал шептать их имена и клал монеты. Ты свободен, свободен, свободен… И глаза его больше не блестели от влаги, потому что — Фёдор увидел то, что никогда не ожидал увидеть, — гид плакал. Ты свободен, свободен, свободен… Теперь и навсегда. Ты свободен…
А потом серебряные монеты в большом кожаном кошеле Хардова закончились. Перевозчик махнул широким рукавом своего одеяния, похожего на рубище, и короткий мучительный стон пронёсся над ступенями. Те, кто стоял рядом с Хардовым и кому не хватило серебряных монет, стали развеиваться, лёгкой стелющейся дымкой пронеслись над поверхностью воды и растаяли, исчезли…
— Вот и всё, — сказал Перевозчик. — Сделка завершена.
И скорбь покинула это место. Только Хардов что-то ещё продолжал шептать тихо-тихо. Но Ваня-Подарок уже открыл дверцу каюты и выпустил ворона. И как только, хлопая крыльями, Мунир оказался на руках у гида, Хардов начал успокаиваться.
Команда подавленно молчала. Альбинос подошёл к Хардову, мягко коснулся его плеча. Несильно похлопал.
— Всё, друг мой. Всё закончилось.
— Не хватило, понимаешь? — Хардов вскинул голову и посмотрел в лицо альбиносу. — На всех не хватило… монет.
Вот как.
Ваня-Подарок приобнял его, увлекая к лодке, где находились живые.
— Идём, я возьму скремлинов.
Альбинос поднял обе корзины, разглядывая их.
— Белая зайчиха, кролик и крысы, — бесстрастно сообщил Перевозчик.
— Мог бы ещё кого-нибудь взять, Харон, — с укором пробубнил альбинос.
— Когда-нибудь возьму тебя, — без вызова пообещал Паромщик.
Только тут до Фёдора дошло, что канал вновь приобрёл свои привычные очертания. Сбегающие к воде лестницы, беседки, парапет, каменные плиты, укрепляющие противоположный «свой» берег, до которого теперь рукой подать, и там тоже спуск к воде.
Фёдор оглянулся: мальчик, играющий с тритоном, был теперь неподвижен, просто гипсовая статуя, никакого фарфорового свечения. Никаких огромных пространств, никакой наползающей черноты. Канал спал, и берега его были укутаны туманом.
Только с возвращением привычных очертаний вернулось ещё кое-что. Звук был тихим, монотонным, но разносился над водой достаточно отчётливо, и определить расстояние до него было сложно. Однако становилось совершенно очевидно — этот звук приближался со стороны шлюза № 2.
— Хардов, Хардов, — позвал Ваня-Подарок. — Мы больше не одни на канале.
— Т-с-с, тихо, — устало попросил Хардов, обращаясь к источнику звука: монотонный, явно искусственный гул.
— Не может быть, — пробормотал Матвей Кальян, тревожно вглядываясь в темноту. — После заката? Это… то, о чём я думаю? Ночью?!
— Да, капитан, — подтвердил Хардов всё ещё охрипшим голосом. — Это полицейская лодка. И движется она очень быстро.
6
Раз-Два-Сникерс казалось, что она видела какое-то смутное движение теней возле Ступеней. Но различить что-либо более отчётливо в размазанном лунном свете не представлялось возможным.
«Неужели они всё ещё торчат там, у Ступеней? — думала Раз-Два-Сникерс. — Даже после заката? Наверное, всё же Хардов не был настолько отмороженным, — она невесело усмехнулась, — если у него только не имелись какие-то специальные основания. Наверное, даже Тихон не стал бы там сейчас задерживаться, а о том, чтобы спуститься на берег и войти в туман, не могло быть и речи. Следовательно, никуда они теперь не денутся, и вот эти тени…»
— Готовьте прожектор, — потребовала Раз-Два-Сникерс. — Мне понадобится свет.
Она помолчала: от этого места впереди исходило что-то гнетущее, какой-то очень неприятный, нехороший холод. И команда это чувствовала. Они были напуганы, и это приходилось учитывать.
— Давай, шкипер, правь к Ступеням, — велела она полицейскому-мотористу и тут же для остальных добавила: — Не беспокойтесь, близко не подходим. И Волнорез, вставай, братка, на пулемёт.
Колюня-Волнорез приподнял ствол оружия, проверил закладку пулемётной ленты, потянулся к затвору и обнаружил, что у него дрожит правая рука.
«Ладно, спокойно, — подумал он. — Сказала же, близко не подходим. А на воде да ещё с мощным светом и пулемётом нам ничего не страшно». Мысль о мощном свете и пулемёте должна была бы показаться приятной. Но Волнорез всматривался в тёмные очертания Ступеней, и на душе у него скребли кошки.
7
Только Ева видела, как Хардов извлёк что-то из кармана своего плаща, поднёс к губам, вроде бы поцеловав, а затем швырнул Паромщику:
— Лови!
В лунном свете сверкнуло серебром, и Паромщик с какой-то проворной жадностью поймал то, что ему бросили.
— Хардов, — растянуто произнёс он. — Это же последняя монета.
— Да, но я всё равно не смогу ею воспользоваться, — печально отозвался тот.
— Я слышал, ты дал слово. — Голос Паромщика бесстрастен, ни злорадства, ни участия.
— Быстро же разносятся дурные вести.
— Никто не знает, какие вести дурные, — заключил Паромщик, и Фёдору показалось, что в его голосе мелькнули наконец какие-то шальные нотки. — Что ж, плата внесена. — Теперь он действительно усмехнулся. — Ты оплатил моё время. Интересная у нас вышла коммерция.
Перевозчик стал править свою плоскодонку вдоль Ступеней, нос в нос к лодке Хардова.
— Живым не пристало видеть мёртвых. Они вас не увидят, пока я и моя ноша с вами. — С ним что-то происходило, Перевозчик больше не выглядел таким зловещим. Его облик, всё ещё мрачный, постепенно менялся. — Но слышать смогут. Как вы слышите голоса мёртвых в завываниях ночного ветра. Да, слышать они вас смогут, и очень хорошо. Поэтому молчите.
Паромщик поставил свою плоскодонку вплотную, следя за тем, чтобы внешние борта обеих лодок оказались на одной линии, а затем, подкинув в ладони последнюю серебряную монету, спрятал её в складках своего одеяния. И как только это случилось, те, кто лежал в его лодке и кого он назвал своей ношей, открыли глаза. Все разом.
И снова резким холодом дунуло в лица людей. Фёдор от страха резко отшатнулся и чуть не вывалился за борт, в последний момент успев ухватиться за край лодки, да так и завис над водой. А потом испуг в нём вытеснило крайнее изумление. Лодки, в которой он находился, больше не было. Перед его глазами стояла лишь почти прозрачная пелена, всё более проясняющиеся переливы тёмного воздуха, а за ней Ступени, залитые мрачным бледным лунным светом. Юноша сглотнул: той части его тела, что находилась в лодке, а не свисала над водой, тоже не было. Он держался руками за невидимые борта, но кулаков и нижней части его тела больше не существовало.
Всё ещё пытаясь справиться с изумлением, Фёдор наклонился вперёд, и… лодка вернулась. Недостающая часть его тела тоже. Юноша обвёл поражённым взглядом команду, но на него никто не смотрел и, казалось, ни о чём не догадывался, всё ждали распоряжений Хардова. Фёдор откинулся назад — всё исчезло. Вот только было, а теперь нет. Встревоженное лицо капитана Кальяна, каюта, где укрылась Ева, Хардов, лодка Перевозчика. Осталась лишь тёмная лестница, сбегающая к каналу, зловещие Ступени. И верхняя часть его тела, парящая в паре метров от берега над неприветливой водой. Фёдор вернулся в лодку, и снова всё появилось. Отодвинулся от борта ближе к центру и обернулся: с этой стороны, из их лодки, канал был виден прекрасно, но с той…
— Это невероятно, — прошептал Фёдор.
И опять чуть отклонился за борт, постарался поймать, проследить эту грань видимого и невидимого. Но не было никакого перехода, никаких граней: просто вот они, обе лодки, стоят целёхоньки, но стоит оказаться за линией, условно проведенной по их внешним бортам, и лодки исчезали. Вот они есть, а вот их уже нет.
— Следи за своим пацаном, Хардов, — резко произнёс Перевозчик, однако не глядя на Фёдора. — А то он что-то разыгрался.
Хардов бросил на юношу усталый взгляд, и тот немедленно вернулся в лодку.
— Простите, — смущённо прошептал Фёдор.
Но гид уже обратился к Паромщику:
— Сколько у нас времени? Как долго нас будет незаметно с канала?
— Если они пройдут мимо, считай, повезло. Если же вы чем-то выдадите себя и они задержатся… — Перевозчик развёл руками, и Фёдор подумал, что вид его всё ещё внушает трепет, но в нём странным образом проступают и черты того похмельного старикашки, что они встретили с месяц назад, на первой паромной переправе, едва войдя в канал.
Перевозчик посмотрел на тех, кто лежал в его лодке:
— Хардов, тебе известно не хуже меня: никакие серебряные монеты не заставят их глаза быть бесконечно открытыми. А там уж не обессудь.
* * *
Хардов подумал, что, как это порой бывает, угроза может прийти с самой неожиданной стороны. И это очень плохо. Его форма оставляет желать лучшего после этого долгого непростого дня. На полицейской лодке, конечно же, пулемёт и, скорее всего, мощный свет, прожектор. И, бесспорно, численный перевес в вооружённых людях. Плохо дело. Потому что он никакой. Ему нужен отдых, хотя бы несколько часов отдыха.
Конечно, они с Баней-Подарком могли бы воспользоваться фактором внезапности и как минимум, пока их обнаружат по выстрелам, убрать пулемёт и свет. И тогда шансы равны, невзирая на его форму. Но Хардов подумал, что это в нём говорит усталость. Нападение на полицейскую лодку сразу же ставит его вне закона. И тогда даже Тихон не сможет им помочь. Напротив, в подобных случаях орден гидов сам был обязан разобраться со своим нарушителем и предать его общественному суду.
«Это неверное решение, ошибка, — подумал Хардов. — В их действиях нет ничего противозаконного, мы играем в кошки-мышки, а я чертовски устал».
— К нам приближается полицейская лодка, — вполголоса обратился Хардов к команде, но все его прекрасно слышали. — В том, что ищут нас, я не сомневаюсь. И я знаю только двух человек, которые способны на такое после заката. Одного мужчину и одну женщину. Они нас не смогут видеть, но у обоих прекрасный слух и пугающее, звериное чутьё. Оба очень опасны. Поэтому — ни звука. Сидеть и не дышать, если хотим пережить эту ночь.
И словно в подтверждение его слов в следующее мгновение по ним ударил мощный столб ослепляющего света. Прожектор на полицейской лодке был теперь включён.
8
И опять Раз-Два-Сникерс показалось, что она что-то увидела. Луч от прожектора бегал по ступеням и словно наталкивался на исходящую от них тьму. Поглощался ими, тускнел.
«Дрянное место», — подумала Раз-Два-Сникерс.
Когда луч бежал по берегу, он снова сиял ярче, но даже в небольших нишах до и за Ступенями капитан Кальян вряд ли смог укрыть свою громоздкую лодку.
— Там всё чисто. Никого нет, — с надеждой в голосе произнёс Колюня-Волнорез.
Раз-Два-Сникерс кивнула. Может, оно и так, да только что-то внутри неё противилось, сигнализировало, будто она должна увидеть что-то, да только… где? Каким образом?
Луч вернулся к Ступеням, превращая это место в мрачную декорацию ночного кошмара, и…
— Свети-ка в самый низ, — хрипло выговорила Раз-Два-Сникерс, чувствуя, что по её спине пробежали мурашки. Она не боялась, нет, не боялась темноты, но мурашки были. Потому что там, у самой нижней ступени… Повинуясь то ли интуиции, то ли тому, что видели, да не понимали её глаза, она дослала патрон в патронник своего «калашникова», укороченной, облегчённой версии. Клацающий щелчок слышали все. Колюня-Волнорез сглотнул. И снова заставил правую руку перестать дрожать.
Там, у самых Ступеней, что-то неправильное творилось с течением воды. Это успел выхватить луч прожектора. Словно медленное течение канала огибало какое-то невидимое препятствие.
— Да-да, именно туда свети, — попросила Раз-Два-Сникерс.
Луч замер на границе воды и нижней ступеньки. Но там ничего не было. Лишь незначительное завихрение потока, почти незаметный парок поднимался, как будто воздух над поверхностью воды был холодней воздуха канала. И она вспомнила рассказы об отравленном ручейке с гиблых болот, вроде бы впадающем в канал в этом самом месте.
«Чего я не вижу, а должна? — подумала Раз-Два-Сникерс. — Чего?!»
Только бег мурашек по спине не прекращался. И какая-то тоскливая тяжесть подобралась к самому сердцу.
«Может быть, стоит подойти к Ступеням вплотную?» Но она кое-что смыслила в ситуации, называемой «бунт на корабле». Это стало бы перебором. Она обязана уважать чужие страхи, пусть даже суеверия. Быть как они. Твои приказы будут выполнять беспрекословно, пойдут за тобой куда угодно, пока твои действия понятны и приемлемы большинству команды. Пока ты как они, только лучше, храбрее и способен принимать решения. Но заигрываться с этим нельзя. Всякая легитимность имеет пределы. Тебе простят ошибки, даже самую лютую жестокость, но не… инаковость. Стоит переступить некоторую черту, их коллективная интуиция сразу же обнаружит в твоих действиях неправильность, какую-то порчу, чуждость. И тогда пиши пропало.
Сосунки не сосунки, пусть даже трусливые сучьи щенки, но это место и у неё вызывало глухую иррациональную дрожь. Оживающие внутри тебя призраки ночи, стерегущие у древних границ, о которых ты ведал ребёнком, могут свести с ума. Нельзя с этим заигрываться.
И Раз-Два-Сникерс приняла решение:
— Полный ход, а потом отключаем двигатели. Всем приготовиться! Ступени проходим на инерции. В трёх-четырёх метрах от берега. И мне нужна полная тишина!
9
Большая полицейская лодка выплывала из ночи, разрезая темноту лучом своего прожектора. Фёдор сидел и, как было велено, боялся шелохнугься. Вот луч упал прямо на них, нестерпимо ослепляя. Фёдор зажмурился, на глазах выступили слёзы, но не посмел поднять руку, чтобы стереть их.
— …и мне нужна полная тишина! — только что скомандовал женский голос. Голос был низким, волевым и с какой-то странной пьянящей хрипотцой.
«Их ведёт за собой женщина? — удивился Фёдор. И тут же вспомнил: — Ну да, Хардов же сказал: „одного мужчину и одну женщину“».
А потом двигатели на полицейском судне выключили. И стало очень тихо, как она и требовала. Лишь плеск медленно приближающейся лодки. Луч заскользил дальше. Чёрные круги переставали плыть перед глазами, когда Фёдор открыл их. Луч выхватил верх Ступеней, парапет, беседку.
— Свети туда, вперёд, — сказала женщина. Она сделала шаг, чуть отклонилась и сама попала в освещённое поле. — Нет, давай обратно, нижнюю ступеньку.
Фёдор бросил быстрый взгляд на каюту. Луч краем касался носа их лодки, и Фёдор смог увидеть Еву. Казалось бы, он должен подумать: «Кто ты такая, Ева Щедрина, если из-за тебя такой переполох?» — но мысли его были совсем другие. Он вдруг остро пожалел, что он не такой, как Хардов, не такой сильный. Он хотел бы защитить Еву, он должен, и от этой надвигающейся угрозы, и от всех неведомых тягот её, скорее всего, несчастной жизни. Ведь вряд ли счастливый человек променяет спокойную жизнь в родном доме в чудесной безопасной Дубне, доме одного из самых уважаемых людей на канале, на участь беглеца. Ева сидела неподвижно, он видел лишь силуэт и проследить за её взглядом не смог. Луч ушёл дальше, и тут же женский голос потребовал:
— Нет-нет, ты что, не слышишь меня? Вернись к Ступеням.
А потом нос медленно скользящей по воде полицейской лодки поравнялся с их кормой. И Фёдор почувствовал ужасную вещь: то ли от страха, то ли от напряжения у него начало сводить живот, и живот этот мог сейчас заурчать.
«Ну как же так? — в отчаянии подумал он. — Как не вовремя».
Ему пришлось медленно поднять руку и положить на живот ладонь. Хоть как-то погреть… От этого осторожного робкого жеста, казалось, даже воздух пришёл в движение, вызвав целую бурю. Горло юноши немедленно высохло, но даже сглотнуть сейчас он не осмелился. Лишь чуть приподнял голову.
Женщина в полицейской лодке смотрела прямо на него. Он физически ощутил её пристальный буравящий взгляд и с трудом подавил желание отшатнуться. Она не могла не видеть его. Но… скорее всего, не видела. Её глаза оказались синими и холодными. Свои длинные волосы она не убрала под камуфлированный шлем. Она медленно проплывала мимо, и при желании можно было услышать её дыхание: до неё было не больше двух метров. Но смотрела она прямо на него, чуть поворачивая голову и чуть ведя дулом «калашникова», пристально всматривалась и словно пыталась что-то уловить, услышать то подтверждение тёмной догадки, что скользнула в её холодных глазах. Потом она подняла левую руку, оторвав её от висевшего на плечевом ремне оружия, и провела ею перед собой в воздухе.
— Тут есть кто? — прошептала она.
Фёдор замер, чувствуя, что к лицевым мышцам подступает судорога. Странно, но он уловил запах её духов. Не «Цветочного масла», что пользовали девицы попроще, а самых настоящих и, как Фёдор слышал, баснословно дорогих духов, которые привозили купцы из Дмитрова. И подумав про духи, он понял кое-что: крылья её носа подрагивали, она не только смотрела и слушала, она принюхивалась, словно учуяла, уловила перед собой запах людей, запах пота или страха. Снова провела перед собой рукой, ловя пустоту, и Фёдор успел увидеть, какие у неё длинные пальцы и аккуратный, но совершенно ненормальный, пугающе-тёмный маникюр.
«Слишком много на сегодня ухоженных ногтей» — эта мысль чуть не вызвала истерически-шальной смешок. И одновременно Фёдор почувствовал какое-то странное подступающее к нему желание заснуть.
— Ну, есть кто? — Её шёпот стал тише, сделался как-то беззащитней и доверчивей.
Фёдор сглотнул. В её взгляде скользнула ледяная искра. Хардов бесшумно поднял ствол своего оружия…
И тогда все они услышали голос, в котором сквозил даже не страх, а всё затопляющая неконтролируемая паника.
— Господи, что это? — простонал человек, стоящий у пулемёта. — Что?!
Она вздрогнула и отвернулась от Фёдора. И губы её крепко сжались. Прожектор выхватил не только нарядную белую беседку, не только парапет и лестницу, сбегающую к воде. А ещё и весьма милого мальчика, который забавлялся с тритоном. И сейчас статуя этого мальчугана повернула голову, словно пожелала узнать — а что это у нас там за оживление на канале, и несколько изменила позу.
— Господи… Да я сейчас!..
— Не вздумай! — резко осадила она паникёра. — Не вздумай стрелять, Колюня, если хочешь жить. — Она выпрямилась: — Всё. Уходим. Здесь их нет.
Расстегнула тесёмку каски и быстро, будто демонстративно сняла её:
— Запускай двигатели.
Потом её голос зазвучал спокойней, ровней:
— Они ушли, и, думаю, давно. Ничего, никуда не денутся, до утра догоним. Даже если Хардов проскочит Дмитров, третий шлюз находится в самом центре Яхромы, и там людно, как на базаре в ярмарочный день.
Моторист запустил оба двигателя, и лодка начала набирать ход. Колюня-Волнорез прокашлялся и, стараясь не глядеть на статую мальчика, спросил:
— Почему ты сказала про Хардова? Думаешь, он с ними?
Раз-Два-Сникерс отвернулась, хотя в темноте и так никто не увидел бы, что её губы растянулись в еле уловимой холодной улыбке.
— Я это знаю, — сказала она. И бросила на Ступени беглый взгляд.
10
— Я их видел, пока мы вас ждали, видел эту лодку, — первым нарушил молчание Ваня-Подарок, когда полицейское судно отошло на приличное расстояние и над ровной гладью канала разносился лишь монотонный удаляющийся гул. — Они прошли мимо нас в сторону второго шлюза. И очень спешили.
Матвей Кальян, вспоминая, потёр подбородок и согласился:
— Похоже, так и есть. Только тогда в ней находились два водника. А теперь к полицаям добавилось ещё семь человек. И надо же, всем рулит баба! Это люди Шатуна?
Альбинос ему кивнул и усмехнулся:
— Знал бы ты эту бабу… — Затем он посмотрел на Хардова. — Но как она догадалась? По каналу ходит множество лодок. В том числе с гидами. В том числе и с документами, подписанными Тихоном.
— Тебе лучше знать свою бывшую. — Хардов отстранённо пожал плечами.
— И чего столько тянула? Они могли вернуться значительно раньше. — Он снова усмехнулся. — Догадалась. Она всегда была умной.
— Даже слишком умной, — неопределённо откликнулся Хардов. Затем он спрыгнул на нижнюю ступеньку и принялся отвязывать лодку.
— Что теперь? — спросил Кальян. Наступило его время отвечать за лодку, и он видел, что команде не терпится побыстрее покинуть это место.
— Снимаемся. И идём за ними. Теперь они будут у нас как на ладони. Их слишком хорошо слышно, капитан.
Хардов бросил канат Фёдору, и юноша легко поймал его. Он вдруг почувствовал прилив благодарности: значит, Хардов больше не злится на него за всё то множество проколов в этот самый… неудачный его день.
— Они закрыли глаза, — растянуто промолвил Паромщик и посмотрел на гида, но тот даже не обернулся. — Пора. Неплохая у нас вышла коммерция. С тобой было приятно иметь дело, Хардов. — И с некоторой задумчивостью он добавил: — Зря ты меня не послушал на первой переправе: купил бы тогда скремлинов — глядишь, не пришлось бы давать зарок. Ведь он ненарушаем, так ведь? Кто теперь будет отдавать за тебя долги?!
Хардов легко взошёл на борт своей лодки. Затем всё же обернулся и улыбнулся Паромщику. Что-то было в этой улыбке, Фёдор не сразу понял, что именно, — не угроза, нет, но что-то ещё, помимо достоинства.
— Тебе напомнить его имя? — спросил Хардов.
Лицо Паромщика застыло. Старческие пальцы крепче ухватились за древко весла. К задумчивости в его взгляде добавилась угрюмость, когда он обиженно отмахнулся:
— Зачем ты так?.. Ещё неизвестно, как оно ляжет.
А потом Фёдор передёрнул плечами. И хоть Паромщик по-прежнему смотрел на Хардова, юноша был уверен, что этот угрюмый взгляд очень быстро и словно украдкой прошёлся по нему.
11
Колюня-Волнорез теперь знал, что самое мерзкое место на канале между Дубной и Дмитровом вовсе не шлюз № 2. Самое мерзкое место они только что оставили за спиной. И Колюня поклялся себе, что больше никогда, даже если его попросит сам Шатун, даже если его заставят под пыткой, он не окажется ночью на Ступенях.
Как только включили двигатель и лодка стала набирать ход, Колюня приналёг на пулемёт. Словно это поможет быстрее двигаться вперёд. Он чувствовал что-то за спиной. Такое, наверное, происходит с убегающим зайцем, который чувствует настигающую его беду. Но там что-то было, за спиной, что-то очень нехорошее, и если б Волнорез мог, он, наверное, бежал бы по воде, бежал впереди лодки и не оглядывался.
Но природа страха — вещь очень странная. Иногда она толкает на гибельное безрассудство. И Волнорез обернулся. Он не смог себе в этом отказать. Оказался не в состоянии противиться ожиданию неведомого кошмара и обернулся. Как только они отошли на приличное расстояние.
И увидел чёрный силуэт. Лодка была там. Это были её контуры — Волнорез не зря столько проторчал на шлюзе № 2 и что-что, но запоминать и различать лодки с первого взгляда он обучился. Во тьме, у самой нижней ступеньки стояла лодка, которую они искали, и…
Колюня-Волнорез сглотнул. Отвернулся. Его правая рука опять задрожала. Наверное, туда не стоит больше смотреть. Ни к чему. Но вдруг они… Что? Что и кто они?! Волнорез этого не знал. Он не был особо пугливым, возможно, лишь впечатлительным, и когда ходил в туман с Шатуном, ничего не боялся, и Раз-Два-Сникерс доверял тоже, но…
Колюня снова обернулся. Силуэт чёрной лодки оставался на прежнем месте. Он не ошибся. Колюня положил обе руки на пулемёт, крепко сжал холодную сталь — было в этом что-то очень надёжное. Может, стоит сказать Раз-Два-Сникерс? Сказать, что за спиной у них осталась лодка, которую они ищут? Но… возможно, он всё это выдумал. Возможно, ему услужило его разыгравшееся воображение, но лодка показалась ему черней самого этого места, словно изнутри неё разливалась какая-то непостижимая холодная тьма.
«Эта лодка — призрак», — с зябкой тоской подумал Колюня. Он слышал о подобном. Но… Руки ещё крепче обняли пулемёт. Волнорез не заметил, что гладит его, и опять обернулся. И клацнул зубами. Может, правда сказать Раз-Два-Сникерс?
В этот момент у Ступеней, всё больше остающихся позади, Перевозчик говорил Хардову, что «ещё неизвестно, как оно ляжет». Но Колюня-Волнорез этого не знал. Он не мог видеть Перевозчика. Лишь контуры чёрной лодки, которая днём показалась ему абсолютно нормальной, к тому же двух человек из команды он прекрасно знал. Да и в общем-то, Раз-Два-Сникерс в нём не ошиблась: Колюня-Волнорез был верен, предан как собака. Да только… только и самая преданная собака иногда вынуждена противиться хозяину. И если её принуждают, что-то в ней ломается, и она упирается лапами, пока в непостижимой неведомой тоске не завоет на луну.
Волнорез решил… нет, не врать, а просто оставить всё как есть. И тут же вздрогнул, услышав:
— Ты чего это развертелся, Колюня?
Раз-Два-Сникерс стояла рядом и смотрела вперёд. Она не повернула к нему головы, и её глаза в темноте блестели:
— Чего ты там увидел?
Волнорез попытался ей что-то сказать, но выдавил из себя лишь сиплое покашливание. Если она тоже знает про лодку? Увидела? И знает, что он промолчал? Дрожь в правой руке вернулась. В каком-то молчаливом отупении, чувствуя лишь поднимающуюся из желудка тошноту, Колюня подумал, что руку стоит показать врачу. И что она знает его как облупленного, женщина, за которой он совсем недавно был готов идти хоть в ночь, хоть в туман, видит его насквозь, так как же ему теперь оправдаться?
Когда Колюня-Волнорез снова попытался заговорить, он, наверное, действительно выглядел как побитый пёс. По крайней мере, голос его звучал заискивающе, когда он вымолвил:
— Видишь ли, мне… вон там…
Но она не дала ему закончить фразу, даже если бы у Волнореза и хватило духу рассказать про лодку.
— Не стоит оборачиваться, — произнесла Раз-Два-Сникерс. — Там уже ничего не осталось.
Она по-прежнему не смотрела на него, просто стояла рядом.
— Смотри вперёд. Волнорез. Смотри, куда идём. Всё, что у нас теперь есть, ждёт только там. Впереди.
— Как скажешь. — Колюня с благодарностью зашмыгал носом.
Как-то Шатун заметил ему, что Раз-Два-Сникерс любит поиграть с огнём, но всегда знает, когда убрать руку. Колюня питал слабость к метафорам. Они позволяли ему смачно сплёвывать. Но сейчас растерялся. Он был благодарен ей, но было и что-то ещё. Какой-то смутный вязкий комок непонимания, и Колюня не знал, что с ним делать.
Возможно, она просто давала ему указания: смотри, мол, Волнорез, вперёд. А возможно, предпочла сейчас вовремя убрать руку, о чём и сообщила. Метафоры, метафоры… Колюня-Волнорез не знал, что сейчас произошло. Не знал ответа. Лишь смутный вязкий комок. Но что-то подсказывало Волнорезу, что ответ ему может очень не понравиться. Что-то подсказывало, что ответ может быть опасен. Потому как находится теперь там, в чёрной лодке, куда действительно лучше не возвращаться.
— Я буду смотреть вперёд, — пообещал Волнорез, стараясь, чтобы голос его прозвучал бодро.
Она ничего не ответила. Лишь тихо усмехнулась. Наверное, они поняли друг друга. Вот только смутный вязкий комок шевельнулся вновь, прежде чем затихнуть в той тёмной глубине, куда мы вынуждены складывать неудобные вопросы.
Глава 12
Секретные люди, архивы и секретные операции
1
Анна открыла глаза. Стук в окно повторился. Три коротких удара и два длинных. Муж, Сергей Петрович, перевернулся в постели и что-то пробормотал. Она подождала, пока его дыхание станет ровным. Затем бесшумно поднялась, быстро отыскав ногами прикроватные тапочки.
Ти-ти-ти, та-а, та-а
«Ну наконец-то, — подумала она, — уж заждалась».
Когда-то её звали Рыжей Анной. Она была танцовщицей и певицей в лучших трактирах Икши, пока к городу не подобралась граница и он не захирел, сжавшись до небольшого форпоста у Тёмных шлюзов. Когда-то у неё была весьма бурная молодость, она знала вкус крепкого табака, могла перепить любого мужчину, но ложилась только с теми, кого выбирала сама. У Рыжей Анны был гордый нрав, но по-настоящему она любила лишь одного человека — того, который прислал ей сейчас своего ворона. Всё это осталось далеко в прошлом.
Сергей Петрович увидел Анну, когда она ещё танцевала в Икше, и втюрился окончательно и бесповоротно, но Рыжая Анна даже не заметила его в череде своих поклонников. Затем, когда всё начало рушиться, она была вынуждена отправиться по каналу в поисках работы и добралась до Дмитрова. Трактир её мужа с несколькими гостевыми спальнями на верхнем этаже совершенно случайно оказался первым местом, куда она пришла прослушаться певицей в ночное кабаре.
Особых иллюзий она не питала — звёздный час Рыжей Анны остался позади. Тем более что к тому времени до Дмитрова стали докатываться волны беженцев (их предпочитали именовать «переселенцами») не только из Икши, а из самых отдалённых мест — Твери, Ярославля, и конкуренция на рынке труда была жёсткой. Встречное предложение Сергея Петровича ошеломило Анну. Она ответила не сразу. Она пришла на следующий день, и на ней была белая блуза с отложным воротом и юбка ниже колен. Сергею Петровичу в этом новом виде она показалась ещё прекрасней.
— Хорошо, я выйду за вас, — сказала Анна. — Но никаких танцулек.
— Что? — не понял Сергей Петрович.
— Никаких танцев и песен! В нашей гостинице не будет танцовщиц.
Свадьбу сыграли через неделю. Бросили ключи на дно канала. Ополоумевший от счастья Сергей Петрович был готов выполнить любые её капризы, но капризов не было. Единственное — Рыжая Анна состригла свою великолепную развевающуюся гриву. Она стала носить аккуратные причёски. И хоть она до сих пор называла мужа по имени-отчеству, — честно говоря, она ожидала увидеть своё будущее каким угодно, но ни разу не видела себя в роли «бюргерской жены», — Рыжая Анна ни разу не пожалела об этом шаге.
Они перестроили и расширили гостиницу, назвав её на старинный манер «Постоялый двор», а вместо шумного трактира на первом этаже обзавелись уютным милым ресторанчиком с чуть ли не лучшей в Дмитрове домашней кухней.
Юность, бурная молодость Рыжей Анны остались в прошлом вместе с отрезанными волосами. И всем желающим посплетничать эта новая степенная, но всё ещё очень красивая женщина сумела популярно объяснить, сколь ошибочными и легкомысленными являются такие желания.
А потом Анна всё же снова стала петь, но лишь по просьбе добрейшего Сергея Петровича. Они стали бывать в домах других зажиточных горожан, и потекла у Рыжей Анны благоустроенная размеренная жизнь.
Такова была внешняя канва жизни Анны. Но была у неё и тайная жизнь. И сейчас, в это раннее утро, она ждала на пороге. Точнее, стучалась в окно, за которым брезжил рассвет.
* * *
Итак, Анна бесшумно поднялась с постели, однако Сергей Петрович всё-таки заворочался, бросив руку на её половину кровати.
— Куда ты, любушка моя? — сонно промурлыкал он.
— Спите, спите, мой хороший, — нежно успокоила его Анна. — Всё в порядке.
Счастливая улыбка отразилась на лице Сергея Петровича, и через несколько секунд он уже действительно крепко спал. Анна же тихонько подошла к окну, отбросила москитную сетку, потому как жили они у самой воды, и, распахнув приоткрытую фрамугу, впустила ворона. В среде гидов было не принято брать в руки чужих скремлинов, да и давались они неохотно, а при неосторожности это ещё сулило опасность, но Мунир хорошо знал Анну. То, что ей было надо, нашлось сразу — крепилось к лапе ворона. Анна прошла в кабинет, который Сергей Петрович называл «бюро», где они вели свои дела, включила настольную лампу (в домах на их линии, у воды, не отключали электричества даже ночью, невзирая на летнее время) и прочла послание. Нахмурилась. Тут же села писать ответ.
Тихон, проходя к Тёмным шлюзам, сделал все необходимые распоряжения, и его активность насторожила Анну. Так же, как и его походный вид: сразу бросилось в глаза, что старый гид давно без отдыха.
— Я их встречу за Тёмными шлюзами, — пояснил Тихон. — Вместе с теми, с той стороны. Может быть, в Пирогово, а может, успею подойти ближе.
Это всё больше настораживало Анну: у главы ордена гидов было дел предостаточно, и в его распоряжении было более чем предостаточно людей.
— Вы никогда лично… — начала Анна и осеклась. Потом посмотрела прямо в эти вечно улыбающиеся глаза и всё же решилась: — Хардов в опасности?
— Он всегда в опасности. — Тихон с беспечной улыбкой пожал плечами. — Может быть, на сей раз чуть больше. Потому я так спешу. Мы выйдем навстречу его лодке. Идеально, если б я успел перехватить их на Икшинском водохранилище — там пустые земли… — Тихон поморщился. — Ну, или хотя бы в Пирогово.
— Почему вы идёте один?
— Так безопасней. — Опять та же улыбка, только Анна знала, что на самом деле ничего беспечного в ней нет и в помине. — И быстрее. У Хардова задача намного более сложная. На нём ответственность за живых людей.
— А на вас? Мне кажется, на вас ответственность гораздо большая, — сказала Анна, и это не было комплиментом.
— Нет, девочка моя, боюсь, что на этот раз ты ошибаешься, — серьёзно сказал Тихон, только глаза его по-прежнему всё ещё улыбались.
Анна помолчала. И хоть Тихон торопился, он видел, что ей необходима эта небольшая пауза.
— Ничего, Рыжая, справимся, — мягко добавил он. — Но если ты не готова… я пойму. И уверяю тебя, что Хардов тоже.
Она невесело усмехнулась. Тихон предпочёл заняться рассматриванием своих сплетённых пальцев рук.
— Всё пошло немножко не так, да? — тихо спросила Анна.
Старый гид еле заметно кивнул.
— Я слышала, что его скремлина так и не нашли. Как вы думаете, почему полиция так… осмелела?
— Новиков избегает встречи со мной, — нахмурился Тихон. — Я ещё заставлю его объясниться. Но я знаю, что они ищут Хардова. Как бы не натворили глупостей.
Глава водной полиции всегда болезненно реагировал на возвращение воина, усматривая в этом угрозу балансу равновесия сил. Но тайный договор между ними и гидами ещё никто ни разу не нарушил. Здесь крылся залог сложившейся хрупкой стабильности. Сейчас же явно творилось что-то неладное. Полиция действовала почти в открытую. Может быть, потому, что принято политическое решение и Тихон что-то упустил. Глупое решение, ошибочное, да ещё люди Шатуна… Тихон знал, что ему предстоит серьёзный и прямой разговор с Новиковым, пока не вышло беды. Но… когда всё закончится. Он не мог рисковать.
Прежний глава полиции был гораздо более вменяем и гораздо менее подозрителен. Между обоими ведомствами почти не было секретов, они действительно работали на общее благо, каждое со своей зоной ответственности. С Новиковым повезло меньше. Им всем повезло меньше.
— Только-только забрезжила слабая надежда, а ведь как легко всё разрушить, — словно читая его мысли, произнесла Анна. — Действия старого кретина… простите. — Она потупилась. — Но Новиков всех ставит под удар, даже не понимая этого.
— Не будем его винить. Он напуган. Очень сильно напуган.
— Его нет. А вот вас мне есть в чём обвинить.
— В чём же? — Тихон вскинул брови.
— Вы никогда не говорили глупостей, — улыбнулась Анна. — А сегодня впервые сказали. Как вы могли предположить, что я «не готова»? Что я забыла… Конечно же, я готова. Всегда.
— Прости меня Бога ради, девочка моя, видимо, я и вправду старею.
— Нет, вовсе вы не стареете, — серьёзно заметила Анна. — Вы совсем не изменились с нашей первой встречи. Это я вот старею.
— Ты слишком добра, Рыжая, — поблагодарил Тихон.
А затем он дал ей все необходимые указания. И ушёл. А Рыжая Анна, ныне довольная жизнью «бюргерская жена», осталась ждать, когда на воде, что течёт мимо её зажиточного дмитровского дома, покажется лодка Хардова. Лодка, которая давно уже должна была появиться, да вот затерялась, ушла тайными путями, и которая везла, возможно, самый ценный на канале груз.
2
Покончив с письмом, Анна отпустила ворона, а сама направилась на нижний этаж, где за подсобками в комнате для прислуги спала девочка-служанка, помогающая в хозяйстве. Девочка, уж двадцать лет, поди, — девица. Она была смекалиста, расторопна, добра, весьма стройных форм, да вот лицом не вышла. Пропадает девка зазря, а очень жаль, действительно человек хороший. Причём её брат-близнец (не без ленцы парень, умелый, но всё делает из-под палки) похож на неё, как две капли воды, а выглядит очень даже ничего с этими широкими скулами. Да, мужикам вообще везёт больше, и шрамы их украшают, а баб уродуют. Близнецы были такими же рыжими, как и Анна, и все в веснушках.
В последние годы в Икше вообще рождались всё больше рыжие или альбиносы, дурное стало место, видимо, сожрёт там всё скоро туман. Двух бездомных малышей-близнецов Анна приметила ещё когда была звездой икшинских трактиров, подкармливала, помогала, как могла, а потом, встретившись с близнецами в Дмитрове, пожалела и сестру взяла в прислугу, а брата определила на соседнюю ферму. Об этом шаге Рыжая Анна тоже ни разу не пожалела: с ленцой, не с ленцой, но оба были и вправду очень расторопны, умели быть благодарными и, главное, хранить секреты.
На близнецов у неё в это утро были совсем другие планы, но, как говорится, человек полагает, а Господь располагает. Анна усмехнулась, подумав, что уже настолько вжилась в роль «бюргерской жены», что остаётся ею даже наедине с собой.
— Что ж, давно пора наведаться в «Лас-Вегас», — пробормотала Анна, спускаясь по лестнице.
Пока она возилась с письмами и ответом, успело встать солнце, гоня в Дмитров прекрасное июньское утро. Здесь тумана не было вообще. И даже не верилось, что всего в паре десятков километров на юг, прямо по каналу лежит разгромленная Икша, отползшая к пятому шлюзу, как опорный редут обороны. Шлюзы № 5 и № 6 считались «тёмными», а между ними лежала Икша, город-призрак, накрытый туманом. Каких только слухов не ходило об этих местах и о чудовищах, выползавших из мрака, но работу шлюзов приходилось поддерживать: по шлюзу № 6, высшей точке, куда в сторону Москвы гналась волжская вода, шёл водораздел, и от их правильного функционирования зависела жизнеспособность всего канала. Правда, Анна слышала, что иногда Тёмные шлюзы работают сами по себе, что ими управляют невидимые призраки, родившиеся в машинах, но как относиться к подобным слухам, она не знала.
Рыжей Анне довелось видеть многое и уж явно побольше других «бюргерских жён», но на Темных шлюзах она не была и вообще в Икшу больше не возвращалась. Правда, ещё раньше, в свою бытность танцовщицей, пока икшинские шлюзы не стали «тёмными», ей довелось забраться ещё дальше, по другую сторону водораздела и пустых земель, за цепь водохранилищ, по которым шло русло канала, почти к самой Москве.
Она выполняла поручение Тихона и помнила выжженную пустыню по берегам, с уродливыми воронками запёкшегося камня, лица капитанов Пироговского братства, изъеденные неведомой болезнью, из-за которой многие из них научились общаться без помощи слов, и жуткую гигантскую тень, скользящую к их лодке по поверхности широко раскинувшегося Клязьминского моря. Вспоминая тварей, выползших из трещин под раскалённое солнце пустых земель и эту хищную тень, она думала, что лучше уж туман, пусть уж лучше туман скрывает всё это.
Как ни странно, кромка тумана закрепилась в сознании как граница двух миров, которые практически не пересекались. Да, скремлины периодически оказывались на канале, гиды ходили в туман, однако в основном все представления об этом чужом, «другом» мире в сознании обывателя питались слухами, байками и легендами.
— Видишь ли, Рыжая, — как-то сказал ей по этому поводу Тихон, — в конечном итоге это вопрос веры. Но самое удивительное, что по большому счёту так оно и есть.
— Я вас не очень понимаю, — отозвалась тогда Анна.
— Видишь ли, этот «другой мир» существовал и прежде. Всегда. Сначала это был сугубо религиозный вопрос. Затем он проник в искусство, а потом и в массовую культуру, превратившись в игру и почти утеряв свои изначальные корни. И даже когда всё начало рушиться… Тогда даже поболее. Всё перемешалось. Возможно, это и был запах подлинного разрушения. — Тихон курил свою вишнёвую трубку с длинным мундштуком и на секунду задумался. Но вот его глаза уже снова весело блеснули. — А возможно, и нет… так должно. В любом случае «другой мир» оставался для кого предметом весёлого доверия, для кого — сокровенной веры.
— Я помню все ваши уроки, — отозвалась Рыжая Анна. — Особенно истории про древних… И никогда не считала эти знания избыточными.
— Нет? Что ж, хорошо. И правильно делала. Чтобы выжить, вовсе не достаточно хорошо стрелять и подолгу обходиться без пищи. Но «другой мир» существовал всегда. Просто ещё никогда его граница не была столь видимой. И всегда находились посредники, — он развёл руками, — осуществляющие транзит туда и обратно.
Тихон считал такую неожиданно выявившуюся способность к сосуществованию с иным очень хорошим знаком. Пусть это даже и защитная реакция на психологическую травму — она вселяет надежду. Тихон ожидал посткатастрофической депрессии, деградации, религиозной паранойи, и, честно говоря, кое-где так оно и было, — но на канале верх взяла рациональная реальная жизнь. А в этой реальной жизни почти не оставалось места ожившим чудовищам подсознания, бледным теням, оборотням и призракам ночи. Верх взяли обыденные дела. А обо всём, что скрывал туман, можно посудачить в трактире за кружкой пива или сидра. И всё это оставляет очень даже немалое место для надежды. Ну, и ещё, конечно, скремлины — удивительные создания, в которых Тихон видел отблеск тени будущего, а кое-кто на канале почитал чуть ли не за вампиров, таящихся в туманном сумраке и способных подарить то ли мучительную смерть, то ли, напротив, чуть ли не вечную жизнь.
— Смотри, Рыжая, — сказал ей тогда Тихон, указывая на кромку, границу тумана. — Никогда ещё за последние несколько тысяч лет Тьма не подступала так близко. А с другой стороны, никогда ещё Свет не заставлял её отпрянуть так далеко.
На Тихоне лежала огромная ответственность. И Рыжая Анна никогда не забудет того, что он сделал для неё. Как он мог подумать?! До конца своих дней Анна будет благодарна ему. За то, что он спас её, сделал гидом и отпустил в мир канала, попросив жить обычной жизнью.
Она спустилась на нижний этаж, открыла дверь в кладовку и прихватила с собой пару фирменных плащей-накидок, где под надписью «Постоялый двор» красовалась весёлая курочка, а сверху была нарисована спящая на мягких перинках овечка. Облачать своих работников в кричащие рекламные наряды было последней купеческой модой, и стоило признать, что это приносило свою пользу.
В «Лас-Вегас» пора было наведаться давно, сделать кое-какие хозяйственные закупки. Что ж, сегодняшний день вполне для этого подойдёт. Очень скоро Анна разбудит близняшку и отправит её за братом, готовить лодку. Но пока она заварит себе чашку крепкого бодрящего травяного кофе на основе моркови и цикория, выйдет на крыльцо и, наслаждаясь напитком, будет наблюдать, как нежные солнечные лучи пробуждают канал.
В каком-то смысле Рыжая Анна была счастлива. Она принимала свою жизнь такой, какая есть. Единственное, о чём она сожалела, осталось в том, давно отцветшем летнем утре, когда, выполняя поручение Тихона, она оказалась за пустыми землями и цепью водохранилищ почти у самой Москвы.
У неё был спутник, который должен был двигаться дальше, а Рыжая Анна возвращаться обратно на канал.
Она слышала о великом древнем Университете и учёных, ещё более могущественных, чем учёные Дубны, и о гидах той стороны, где лежат эти тайные земли. Сюда они пришли в ожидании встречающей лодки. И выйдя вместе со спутником на край обрушенного в канал моста, Анна увидела на горизонте в переливчатом мареве почти густого воздуха упирающиеся в небо башни и шпили огромного города, населённого призраками. Так ей сказали про этот раскинувшийся вдали город, Москву, которой оканчивается канал. Так ей сказали, но эти плывущие на горизонте башни были словно восхитительный мираж, которого она никогда не забудет. И в тот миг она, наверное, отдала бы всё на свете, чтобы оказаться там. Встречающая лодка должна была отвезти в этот опасный и чарующе-магнетический город. Но её спутником был Хардов. И Хардов не позвал её с собой.
3
А Хардов в это ясное, напоённое звонкой прозрачностью утро сидел на носу лодки и думал совсем о другой женщине. Нет-нет, она вовсе не была соперницей Рыжей Анны. И честно говоря, единственная женщина, которая могла бы считаться таковой, осталась в далёком прошлом, потому что давно уже была мертва. К женщине же, о которой он сейчас думал, Хардов относился скорее с настороженным безразличием, даже не опускаясь до презрения, хотя когда-то она могла стать одной их них. И сейчас он вынужден был думать о ней, пытаясь понять, что же всё это значит.
Она всегда любила поиграть. Правда, её забавы были играми змеи. И чем более искренней и беззащитной она притворялась, тем ближе от вашего горла оказывалось ядовитое жало. Но сейчас она не играла. Там, у Ступеней, произошло что-то другое.
— Слишком много слов, — чуть слышно обронил Хардов.
Чем больше он думал об этом, тем меньше у него оставалось сомнений по поводу Раз-Два-Сникерс. Она знала об их лодке у Ступеней. Вряд ли увидела или что-то услышала. Скорее всего, опять это её звериное чутьё. Она догадалась. И поняла про маскировку. И вот тут произошло что-то странное.
«Не вздумай стрелять, Колюня, — сказала она, — если хочешь жить».
И тут же: «Всё. Уходим. Здесь их нет».
Слишком громко и как бы в пустоту.
— Забавно, подруга, забавно. — Хардов поморщился, глядя на пробуждающийся канал, и потёр переносицу.
Еве и Фёдору он велел спать. Им, в отличие от отдохнувшей за часы ожидания команды, здорово сегодня досталось. Тео, как обычно, начал с возражений, но как только устроился на корме, мгновенно заснул. Новые скремлины, взятые на борт, не произвели на него никакого впечатления, не вызвали заинтересованности или отторжения. Тоже забавно. Капитан Кальян заботливо укрыл юношу циновкой и сам сел на руль. Ева и не пыталась спорить. Хардов, возможно единственный, слышал её лёгкое и ровное дыхание — о ребро надстройки-каюты, где спала девушка, он оперся спиной. Полицейская лодка давно ушла вперёд. Шум её двигателей, постепенно затихающий вдали, перестал быть различимым даже для чуткого уха Хардова.
— Ну, и что всё это значит? — Гид не шелохнулся. Просто чуть сменил угол зрения.
Раз-Два-Сникерс была кем угодно: плохой, порочной женщиной, опасной и лживой авантюристкой, она всегда была готова предать, и Ваня-Подарок наелся с ней немало дерьма, пока они были вместе. Хардов подозревал, что его, скорее всего, просто бы ужаснули некоторые благоразумно опущенные подробности. Она была кем угодно. Только не глупой болтуньей. В её глазах светился холодный, чуть насмешливый и жестокий ум. И она не была треплом. К чему же тогда столько слов?
«Они ушли, и, думаю, давно».
И гораздо важнее вот это: «Даже если Хардов и проскочит Дмитров, третий шлюз находится в самом центре Яхромы, и там людно, как на базаре в ярмарочный день».
Последняя фраза совсем уж не вязалась с напряжённой ситуацией. Треплом она не была. Зачем говорить то, что и так всем известно? Про третий шлюз, людный яхромский центр? Витиеватые длинные банальности, будто она на лекции, а не у ночных Ступеней, где всё висело на волоске…
— А ведь ты обращалась вовсе не к своей команде, да? — тихо промолвил Хардов. — Умная девочка. Пожалуй, слишком.
Вот только что всё это значит? Что ты задумала? Поняв про лодку и про то, что все в сборе, что именно ты задумала?
Она продемонстрировала свою осведомлённость, назвав Хардова, а дальше произошло что-то странное: во всём этом кажущемся многословии были чёткие указания, предупреждение и… что-то ещё.
«Не вздумай стрелять!..»
Это явно относилось не только к Колюне-Волнорезу, насмерть перепуганному этим вечно беспокойным мальчуганом с тритоном.
«Они ушли, и, думаю, давно».
Хардов опять поморщился: она сообщила ему о просьбе перемирия, причём её личной просьбе. И о времени. И ещё о третьем шлюзе. Зачем?
Если Хардов сейчас не ошибается, то её поведение оказалось полнейшей неожиданностью. Она не просто решила избежать конфликта и двинуться дальше, но и что-то ещё… Она торговалась с ним. Возможно, так. Прекрасно осознавая, что её готовность вновь совершить предательство не встретит у Хардова никакого отклика, она всё же предпочла выдать ему авансом часть своих козырей. Понимая, что рассчитывать на благодарность, тем более на какие-либо взаимные обязательства, не придётся. Но почему? Если это ловушка, то довольно нелепая. Похоже, это тот редкий случай, когда она была искренней.
— Что же ты мне пыталась сообщить, подруга? — Хардов наконец пошевелился, несколько изменив позу. — И главное, зачем тебе это?
Их последний разговор вышел не из приятных. В тот вечер в трактире «Белый кролик», накануне выхода из Дубны.
Когда появилась Раз-Два-Сникерс, Хардов уже сидел в тени своей ниши зала для гидов и, надвинув на глаза шляпу, которую считал панамой, наслаждался свежим дмитровским пивом. Давно ему не доводилось побаловать себя этим напитком, и хоть предстоящий маршрут лежал через Дмитров, он полагал, что следующий шанс также выпадет не скоро. Внешне можно было предположить, что он находится в полудрёме, но Хардов думал, наблюдал и внимательно слушал.
Вот купцы, из тех, что помельче, — самые солидные пожалуют позже; вот на террасу подтягивается «золотая молодёжь», а вон стол гребцов, где верховодил капитан Кальян, — им ещё только предстояло познакомиться, — и куда они только что пригласили Фёдора. Говорят о скремлинах. Конечно, о чём же ещё, главная тема для страшных баек на канале. Много довольных улыбок, предвкушений, блестящих глаз. Но во всей этой благостно-праздничной атмосфере Хардов отчётливо чувствовал червоточину. Кое-что сменилось, слишком много чужаков по углам, совсем не похожих на добродушных дубнинцев. Еле уловимая угроза разлита в воздухе, но её признаки пока ещё скрыты.
— А как отличить скремлина от обычной зверушки? — только что спросили за столом Кальяна.
Хардов чуть скосил глаза. Боковым зрением он уже заметил, как в общий зал внесли клетку с белым кроликом. Он прекрасно знал про эту зверюгу и знал, для чего она здесь. Хардов извлёк манок Учителя, который теперь выглядел таким же новеньким, как и его собственный, — Тихон не ошибся в расчётах, — и положил на стол. Задубелый кожаный ремешок с множеством бисерин, запаянная с одного конца латунная трубка и небольшой костяной бумеранг. Хардов накрыл всё это ладонью и сделал большой глоток пива. Похоже, Тихон не ошибся и по второй повестке дня — сегодня они начали поиск по всему каналу.
Среди гостей трактира множество полицейских ищеек, притворяющихся беззаботными выпивохами, только они наследили, как раненые псы на снегу. Что ж, вот и началось. Хоть гидам и удалось пустить пыль в глаза своей ложной активностью и наибольшая концентрация полиции сейчас, скорее всего, в других местах по каналу, в Дмитрове, Яхроме, возможно даже, в Деденёво, мирную Дубну они тоже не оставили без внимания. Хардов уже связал взглядом всех «ищеек», наметил силовые линии и спокойно ждал.
А за столом капитана Кальяна разговор принимал совсем уж фантасмагорический оборот. Подтянулись ещё гребцы, и Фёдора затёрли в угол.
— А ещё я слышал, — говоривший перешёл на шёпот, с которым обычно сообщают всем известную сплетню; было в нём что-то неприятное, возможно, эти его быстро бегающие глаза, — что им, гидам, всё нипочём.
— Что нипочём?
— То. Укус скремлина — вот что. Что им от того вообще польза. Омоложение. Понял?
— Не-е.
— Нормальный человек, ты правильно сказал, заболеет или вообще помрёт. А гидам от этого только сила. Чего лыбитесь — правда. Поэтому никто не знает, сколько им на самом деле лет. Говорят, некоторые из них ходят по каналу с тех самых пор, когда мир ещё был другим. — Теперь в шёпоте Быстробегающего Глаза мелькнули нотки подлинного благоговейного ужаса, похоже, он и сам верил в свой рассказ. — Когда ещё не было тумана. Поняли?
— Это ты, брат, хватанул — тумана не было… Это ж, поди, когда… ты ещё сказки про чудодейственное омоложение расскажи: «прыг в котёл и там сварился!» Помню, как же, мамка мне на ночь рассказывала. Хватанул ты, брат.
— Ничего не хватанул. Мне про омоложение человек верный говорил. Как-то его лодку гиды нанимали, он и подслушал. Сидит вроде пацан желторотый и говорит второму, седому, что твой дед, старику совсем: а помнишь, мол, мы с тобой в Нижний ходили, там ещё чёрная волчица шалила, где Ока в Волгу впадает?
— И чего?
— А то, что когда они меж собой болтали, думали, мой приятель их не слышит.
— Вообще-то, дурак твой приятель. Гребцы в дела клиентов не лезут, — вставил Кальян.
— Не лезут. Кто б спорил. Но коль вышло… И, значится так, чёрными волчицами они оборотниц зовут, гиды-то. А Нижний — это Новгород, где Ока в Волгу. Только оттудова, поди, лет тридцать как вестей нет. Ни плохих, ни хороших. Всё туман накрыл. Но по-настоящему моего приятеля прошиб холодный пот, когда старик отвечает пацану: «Да, ты тогда старше меня был, и я тебя во всём слушал. А как волчица девой обернулась, всё ж дал слабину. Если б не ты, погубил бы нас обоих».
Повисло молчание. Хардов чуть слышно усмехнулся и исподволь взглянул на Фёдора — тот слушал с жадным вниманием, но… не более того.
— Ну, ты и сказанул! — ухмыльнулся наконец капитан Кальян. — Гляжу, сказки заливать мастер. Какие оборотницы — ты же взрослый человек?! Не смеши, а то всех клиентов распугаешь. — Кальян говорил, но было видно, что хоть и не всерьёз, однако на самом деле байка-то ему понравилась. — А про омоложение я тоже слышал. Бабы, особенно кто побогаче, маски себе делают. Причём пользуют не только травы там или грязи. А кое-что ещё. Понял? — последнее слово он произнёс, нарочно передразнивая, и подмигнул Быстробегающему Глазу. — Что есть только у мужчин. Понял?
— Да ладно… — не нашёлся тот.
— Чего ладно?! Это тебе поинтереснее твоих баек про скремлинов будет. Жизнь, брат. Поэтому купеческие жёны и заводят себе молоденьких полюбовничков.
— Ты что ж… имеешь в виду, — искренне опешил Бегающий Глаз и даже сконфузился. Видимо, невзирая на суетливость взгляда, он был малым доверчивым. — Неужто про это? Прям на лицо?
— Дошло наконец. На лицо. Куда ж ещё, — весело подтвердил Кальян. — Хотя, может, и внутрь — мне почём знать?! Я ж не косметолог.
За столом гребцов последовал дружный грубоватый смех. Лишь один Фёдор растерянно хлопал глазами, так и не сообразив, о чём была речь. Хардов так же незаметно улыбнулся: и по третьему пункту, рекомендовав ему капитана Кальяна, Тихон тоже не ошибся.
И тогда появилась Раз-Два-Сникерс.
— Замечательные мальчуковые забавы, да? — Представ перед ним, она неуверенно кивнула в сторону гребцов.
— Чего тебе надо? — спокойно поинтересовался Хардов.
— Зашла поздороваться.
— Всё разнюхиваешь?
— Нет, я здесь по личным делам. — Она обвела взглядом небольшой зал, где Хардов сидел в одиночестве. — Как я понимаю, это столы для гидов?
— Да. Но тебе нельзя сюда по другой причине.
Она помолчала. Затем быстро произнесла:
— Хардов, ты не можешь продолжать меня игнорировать.
— Отчего же?
— Я прошу не так уж многого.
— Вот как?
— Хардов, я не так глупа и прекрасно понимаю, что ты и Тихон никогда не простите меня. И понимаю, что прошлого не исправить.
— Здесь с тобой вынужден согласиться.
— Хардов. — Она сделала шаг к нему и, наткнувшись на его взгляд, остановилась. — Я знаю о твоём возвращении.
И о твоём возрасте.
Замолчала. Взгляд Хардова из неприветливого сделался холодным. Затем гид усмехнулся:
— Видишь как, пришла с просьбой, а не можешь обойтись без шантажа.
— Вовсе нет. Я совсем не об этом. Я знаю уже давно, и никогда… Хардов, пожалуйста.
Гид молча глядел на неё, пытаясь определить, что за спектакль она на сей раз устроила. Её глаза цвета пасмурного неба могли бы быть красивыми, если бы не были насквозь лживы. Она заговорила тише, но с горячим напором:
— Я ведь тоже любила её, не ты один. Я ведь была совсем ребёнком, когда она мне рассказала…
— Любопытно ты поступаешь с тем, что любишь. — Хардов взглянул на неё без дружелюбия, но и без угрозы.
— Я знаю, что заслуживаю какой угодно ругани, порицания, знаю… Но прошу тебя, пожалуйста, дай мне шанс.
Я должна знать. Ведь это касается и меня. Хардов, когда она рассказала мне… А потом она умерла.
— Да, она умерла, — бесцветно произнёс Хардов.
— Думаешь, ты один страдал? — Она низко и нехорошо усмехнулась. — Думаешь, только ты?! Она была моим единственным другом. А потом я осталась совсем одна… Ребёнком, одиннадцатилетней девчонкой… И вместе с ней умерла часть моего сердца. А вы все…
— Я должен тебя пожалеть?
— Говори что хочешь, я заслужила. — Она кивнула, по-детски покусывая губу. — Ругай… Но дай мне шанс. Пожалуйста. Так нельзя — это и моё тоже. Прошу, хотя бы ради её памяти.
— Уходи.
Она кивнула.
— Уйду. Обещаю. Понимаю, что тебе плевать на моё слово, но всё же… скажу кое-что. Я сейчас уйду и обещаю, клянусь впредь больше никогда не препятствовать тебе… Не говори мне ничего — всё про себя знаю! Но только дай мне шанс. Хотя бы самый крохотный, какой сочтёшь возможным. Мне этого достанет.
Она стояла и молча смотрела на него. И краска прилила к её лицу. В холодных глазах действительно застыла только просьба, мольба, словно она, надменная и дерзкая, была готова на любые унижения. Только… слишком поздно. Ничего из того, что она хотела бы вернуть, уже вернуть не удастся. Даже если эта влага в её глазах настоящая, а не очередной спектакль, слишком поздно.
— Другом, говоришь, — выдавил Хардов. — Тогда тебе не кажется, что твоя просьба несколько… аморальна?
Она замялась и… проглотила обиду.
— У меня достаточно сил, Хардов, чтобы выдержать всё что угодно. Ты можешь гнать меня, как собаку. Давай, если тебе от этого станет легче. Можешь вытереть об меня ноги, но, пожалуйста, прошу тебя — крохотный шанс. — Она подняла левую руку, чуть разводя указательный и большой пальцы, и почти беззвучно, одними губами произнесла: — Прошу.
Затем повернулась, чтобы уйти, и уже сделала несколько шагов, но Хардов вдруг окликнул её:
— Раз-Два-Сникерс, а зачем мне это?
Она обернулась, то ли непонимающе, то ли неверяще уставилась на него. По её щеке действительно текла слеза. Затем внимательно вгляделась в его лицо и кивнула:
— Потому что не тебе одному бывает больно.
Хардов смотрел на неё, ни один мускул не дрогнул на его лице.
— Мне очень жаль, что так вышло. — Она горько развела руками. — Но это единственное, в чём ты можешь на меня положиться. Может, когда-нибудь окажется, что это не так уж и мало.
— Не хотелось бы дожить до того, чтоб пришлось полагаться на тебя, — сказал Хардов.
— Не зарекайся! — Она как-то неуловимо выпрямилась и больше уже не была похожа на побитую собаку. — Хардов, всё это бессмысленно… Я ведь не прошу у тебя твоего, я прошу своего. И всё равно… обязательно… Я ведь была совсем ребёнком, и она успела рассказать мне так мало.
— Её нет, — сказал Хардов. — Она умерла. Я не знаю, что она тебе сказала. Но её нет. Её давно сожрали черви. Зря ты пришла.
Она дёрнулась, как от пощёчины, а гид так до сих пор не знал, играет ли она. Затем она произнесла:
— Да, Лии нет. Лия умерла. И я тоскую по ней. Но даже ты не в состоянии у меня этого отнять. Прости. Как и того, что она открыла мне.
Она снова развела руками, но на сей раз острого привкуса горечи в этом жесте не было — только сожаление и понимание того, что разговор окончен. Всё же она позволила себе лёгкий прощальный кивок, прежде чем развернуться и направиться прочь.
Хардов смотрел ей вслед.
— Всё начать с чистого листа не удастся, Раз-Два-Сникерс, — надтреснуто произнёс он. — Всё потом возвращается.
Она приостановилась. Но оборачиваться не стала.
— Смотря как далеко уйти, — сказала она. И вышла из зала для гидов.
4
— Хардов! — позвал капитан Кальян. — Лодка на канале. Со стороны Дмитрова.
— Я знаю. — Он кивнул. И улыбнулся. Он уже заметил вдали эту небольшую, но явно дорогую прогулочную лодку с резными бортами и заметил рыжие волосы, правда, теперь они были значительно короче. — Это друзья. Я жду их.
А потом он вернулся к мыслям о Раз-Два-Сникерс. Удивительно, но она сдержала слово. В тот вечер она покинула Дубну. Хардов бы это почувствовал, но она действительно не крутилась рядом в последовавших событиях. Не пыталась выследить, когда он вёл Щедриных к памятнику Ленина, что было весьма благоразумно с её стороны, однако… Сидя сейчас на носу лодки и глядя на пробуждающийся канал, Хардов подумал, что очень много концов в этой истории не сходится. Раз-Два-Сникерс вызвала полицейскую лодку с командой и пулемётом, пустилась за ними в погоню и… прошла мимо… Что из этого следует? Да не так уж и мало. Во-первых, что она остаётся не только женщиной Шатуна и её авторитет по-прежнему неколебим (иначе не видать бы ей полицейской лодки), но и его лучшей охотницей, самой умной и самой опасной. Рассчитывать на то, что она вдруг «расклеится», поддавшись чувствам, было бы большой ошибкой. А во-вторых… Она всё же «расклеилась». Потому что явно затеяла что-то своё. Только дело тут вовсе не в чувствах. Она явно приняла какое-то взвешенное решение, очень неожиданное и очень личное. И из-за этого решения она теперь была вынуждена играть не с Хардовым, не с ним, а…
— С Шатуном? — удивлённо обронил гид.
Это была бы самая большая глупость с её стороны. Самая большая и смертельно опасная. Если только…
— Вполне возможно, — промолвил Хардов. Сплёл ладони, хрустнул костяшками пальцев.
Её поведение было бы большой глупостью, если только не принять во внимание один самый неожиданный, но самый важный мотив.
— Ты что, подруга, решила выйти из игры? — ещё более удивлённо произнёс Хардов. — Шатун окончательно сбрендил, так? И ты решила объявить занавес?
5
«Неужели я, как девчонка, всё ещё смущаюсь его? — подумала Рыжая Анна, отвечая на приветствие Хардова. — Ведь столько воды утекло».
Она удобно расположилась на корме, а близнецов посадила на вёсла, и сейчас обе команды принайтовывали лодки друг к другу. Её муж, Сергей Петрович, мог позволить себе содержать для Анны такую дорогую игрушку, как личная прогулочная лодка — совсем небольшая, однако построенная в очень престижной дубнинской мастерской. Он даже назвал её «Каприз Анны», но она настояла, чтобы осталось только первое слово. Милейший и добрейший человек Сергей Петрович. Но сейчас Рыжая Анна смотрела в выцветшие глаза Хардова и чувствовала, что её щёки заливает лёгкий румянец.
«Привет, Рыжая, давненько не виделись», — самые обычные слова. Зачем он только спросил, что она сделала со своими волосами? Потом похвалил, да ещё взял и коснулся их, вернее, почти коснулся:
— А вот этот завиток я помню. Как был, так и остался непослушным.
Она улыбнулась, а сама подумала: «Эх, Хардов, Хардов, не начинай лучше. Знал бы ты, сколько я всего помню».
Но вовсе не для того, чтобы ворошить прошлое, встретились две лодки на канале в столь ранний утренний час у северных предместий Дмитрова. Хардов подал Анне руку, и она перешла в их лодку. Близнецы, закутанные в фирменные плащи «Постоялого двора», — на канале было всё ещё достаточно свежо, — пока оставались на своих местах. Ваня-Подарок с любопытством разглядывал их, признав за земляков, те отвечали ему взаимностью, несколько смущённо улыбаясь.
Через какое-то время обе лодки разойдутся и двинутся в сторону Дмитрова. Вскоре более тихоходная лодка Рыжей Анны станет отставать. А прекрасно отдохнувшая, выспавшаяся за короткую ночь Ева будет думать, что она невольно оказалась свидетельницей странных вещей: с чего бы эта степенная, но всё ещё очень красивая женщина так разглядывала Фёдора? Первое, что она сделала, наулыбавшись с Хардовым, бросила на юношу короткий, но пристальный взгляд. Что-то спросила у Хардова, тот еле заметно кивнул. Потом ещё пару раз. Дамочка шикарная, тут и говорить не о чем. Помимо живого интереса было в её взгляде что-то ещё, что Ева не смогла сразу определить. Потом поняла: так обычно разглядывают того, о ком много слышал, но ни разу не видел. Интересно… Фёдор, поняв, что его разглядывают, улыбнулся дамочке в ответ, и Ева подумала, что всё же иногда он бывает несносным.
Дальше — больше. Ева не собиралась подслушивать, ей было неловко, но они, Хардов и Рыжая Анна, не особо сторонились, просто стояли у её каюты, и поэтому… В общем, просто Ева подошла чуть ближе.
— Тихон ожидал, что вы появитесь с месяц назад, — говорила Рыжая Анна, — а раз так всё закрутилось, срочно пришлось принимать новые решения.
— Ладно, — вздохнул Хардов. — Спасибо тебе, Рыжая, что откликнулась.
— Не благодари раньше времени, — усмехнулась она. И протянула гиду запечатанный конверт. — Вот, Тихон оставил. Передал для него. — И она снова отыскала взглядом Фёдора. — Это письмо от его… ну, родителей.
Хардов молча кивнул и спрятал конверт. Потом взглянул на Еву, с трудом изображавшую полную незаинтересованность:
— С Павлом Прокофьевичем всё в порядке. Тихон был у него недавно. Так что можешь не беспокоиться.
— Правда?! — обрадовалась Ева. И на время забыла о конверте.
* * *
Однако сейчас, пока ещё обе лодки оставались в поле зрения друг друга, Ева снова о нём вспомнила. Сейчас конверт ей показался даже более странным, чем пристальные взгляды шикарной рыжей дамы. Откуда Тихон знает о Фёдоре и его родителях? Как поняла Ева, юноша оказался на их лодке случайно. В поисках заработка был готов подрядиться куда угодно и никого, кроме капитана Кальяна, прежде не знал. Тот его и порекомендовал. А Хардов его пожалел — Фёдор вроде бы учинил в Дубне драку, и теперь его ищет водная полиция.
Ева кивнула, словно соглашаясь с первой частью собственных рассуждений. Откуда тогда переданное Тихоном письмо от родителей? Тихон бывал в их доме частым гостем с самого её детства. Как и Хардов, который заглядывал значительно реже, однако и его Ева знала всю свою жизнь. Но ни разу не слышала, что оба гида общаются с какой-то дубнинской семьёй, где растёт практически её ровесник. И вообще, впервые увидела Фёдора, только когда оказалась в лодке. Хотя он вроде бы про неё знал, типа в городе болтали… Он, вообще-то, очень хороший парень, хоть и порядком неотёсанный. Его даже собирались ссадить на берег за несносный характер и постоянное ослушание. Ева и сама не заметила, как улыбнулась. Потом нахмурилась. Всё вроде бы так. И вот Тихон оставляет для него письмо. А это вам как? Вторая часть её рассуждений как-то не очень увязывается с первой. Тихон, так на минуточку, глава ордена гидов, передаёт через шикарную рыжую даму для Фёдора письмо. От родителей.
Ева что-то упустила? Что вообще происходит?
6
Когда зазвонил телефон, Юрий Новиков находился в кабинете отца, где, пользуясь отсутствием главы полиции, сидел в его вращающемся кресле и изображал из себя большого начальника. Телефон называли «полевым» и «правительственным»; Юрий не знал почему, но уже несколько раз крутил ручку аппарата, забавляясь тем, что девушка на коммутаторе, с трудом сдерживая раздражение, всё ещё отвечает ему вежливым голосом. Все были в курсе, от кого исходили и кому предназначались эти звонки. Ну что ж, тем более придётся привыкать.
Перед ним стояла Раз-Два-Сникерс. Новиков-младший предложил ей присесть, но она отказалась, намекая тем самым на срочность визита. Ладно, такая диспозиция устраивает даже больше. Потому что её чёртовы бёдра, обтянутые гидовскими штанами, вовсе не утратили своей привлекательности, волновали его, и Юрию казалось, что она об этом знает. Как и о том, что под прищуром её холодных насмешливых глаз он всё ещё чувствовал себя неуютно. Но Юрий старался из последних сил, можно сказать, лез из кожи вон.
— Почему ты не задержала их? — спросил он строго.
Попытка представить её голой, как в случае с Шатуном, не помогла, возымев, скорее, обратный эффект, и Юрий почувствовал, что у него начинают розоветь уши.
— Мне было дано указание выследить их, — усмехнулась Раз-Два-Сникерс, — что я и сделала. Всё сверх того… только по распоряжению Шатуна. Или твоего папеньки. Не я принимаю решения.
— Я пытался связаться с Шатуном на «Комсомольской», — сказал Юрий. — Глушняк. Заперся и ни в какую.
— Я тоже, — коротко ответила она.
— Всё же надо было задержать их, — нахмурился он.
— На каком основании? В лодке ничего нет, — ей явно попала в рот смешинка, — даже твоей невесты… Не забывай, у них зелёная карта от Тихона.
— Плевать я хотел на вашего Тихона! — в сердцах заявил Юрий.
— Не зарывайся, малыш, — теперь уже рассмеялась в полный голос.
Последнее слово Юрий Новиков решил пропустить мимо ушей. Вздохнул. Батюшка отправился с инспекцией на Тёмные шлюзы, а вечный подпевала Трофим, надо же такому случиться, прихворал, подцепив летнюю лихорадку. В любом случае отец велел до его возвращения не делать никаких резких телодвижений, а тут новости сыплются как из ведра. Ещё вчера от верных людей из полицейского департамента — не всем нравилась скрытность и прямо-таки враждебная подозрительность дорогого и почитаемого батюшки — до Юрия дошло, что Раз-Два-Сникерс вроде бы выследила беглецов. И даже запросила полицейскую лодку, каковую и получила. Весомость Шатуна уже признавалась даже техническими службами. Шатуна и его… бабы. Уж каковы были её аргументы и, главное, с чего она взяла, что это именно та лодка, Юрий не знал. Месяц поисков не дал результатов. Ни у какой тётки в Дмитрове Ева не гостила, и вообще они словно сквозь воду провалились. Шатун уверял, что весь канал находится под контролем, но они буквально исчезли на участке между Дубной и Дмитровом, и Юрий не понимал, как такое возможно. Честно говоря, никто не понимал.
И вот на тебе — с час назад пришло известие, что большая лодка «Скремлин II» только что спокойненько миновала центр Дмитрова в районе причалов и двинулась дальше в сторону третьего яхромского шлюза. Правда, ни Хардова, ни «девчонки» («Ева, — сказал Юрий Новиков. — Её зовут Ева!» — «Так точно, — ответили ему. — Разыскиваемая Щедрина») в лодке не было. С чего тогда Раз-Два-Сникерс взяла?..
— Вы что-то скрываете от меня? — вдруг подозрительно спросил Юрий.
— Не понимаю, о чём ты? — В холодных глазах никаких эмоций.
— Где они пропадали целый месяц?
— Не могу даже представить.
— Но почему ты уверена в этой лодке?
— Я лишь высказала предположение.
— И?
— Мне кажется, что твоя невеста находится где-то рядом.
— Угу, — угрюмо кивнул Юрий Новиков.
Раз-Два-Сникерс молчала. Маятник больших напольных часов отбивал секунды.
— Вас всех интересует вовсе не она, так? — Юрий привстал, опершись кулаками на отцовский стол, и чуть наклонился к ней. — Несмотря на то, что я плачу. Ведь так? Совсем не Ева?!
— Поговори с Шатуном. — Она поправила волосы.
— Ведь я дал вам Хардова! — Обида заставила голос Юрия зазвучать жёстче, почти угрожающе. — Я догадался… То, что вы все искали вместе с… папенькой. Связал их лодку с Тихоном. И с Евой. Я проделал большую работу.
— Никто не спорит. — Весёлые искорки в её глазах говорили, что её скорее развлекает подобный оборот разговора. — Это называется симбиоз.
— Не умничай, — желчно выдавил Юрий. — Сами обучены. А кстати, с чего такой переполох? Что должно быть в лодке у Хардова?
— Хочешь — попытайся спросить у Шатуна. — Опять эта её издевательская усмешка.
Юрий сел обратно в кресло. Кисло посмотрел на неё. Язва, чёртова баба… А ведь он действительно проделал большую работу. Нашлись верные людишки, и не только в полиции. Где-то Юрий давил авторитетом дорогого батюшки, кто-то, выяснялось, не прочь поправить материальное положение, кто-то оказывался жаден, а кому-то доставало пары хороших кружек яблочного самогона. Юрий очень быстро сориентировался, где надо нажать, а где умаслить. Он не терял зря времени. И многие вещи для него теперь открылись с совершенно неожиданной стороны. По крайней мере, когда наш подпевалка Трофимушка спохватился, тюфяк Юрий уже сплёл кое-какую собственную паутинку. И надо признать, это ему очень понравилось.
Он снова посмотрел на Раз-Два-Сникерс. Её глаза были непроницаемы. Но ничего. Юрий всё ближе подкрадывался к… некоей тайне, поняв которую, он сможет расшифровать весь мир и расшифровать этих обеих… чёртовых баб, превратить их загадку в пыль и просто сдуть её с ладони. Чёртовы бабы сами не понимают, с чем теперь играют, — не тот уж Юрий! Он даже умудрился порыться в архивах помешанного на секретности особого отдела полиции, куда был допущен, используя свои, не отца, а свои собственные связи. Но так и не смог разобраться во всём этом бреде, помеченном с несколько вычурным пафосом как «Возвращение воина». И в какую только больную голову взбрело так помпезно обозвать полицейскую операцию?
«Мой отец сошёл с ума?» — кисло подумал тогда Юрий Новиков.
Документов было несколько. Какие-то цифры напротив имён, и от них ведут зигзагообразные стрелки. Отдельно отсортированные «новеллы» по делам гидов, иногда похожие на страшные байки. Пугающие своей сухостью вердикты: «жив-убит». Что-то про укус скремлина… Что, некоторые легенды канала имеют под собой реальную почву? Список гидов, не всех, список совсем короткий. Напротив каждого имени — имя его скремлина. Предполагаемое нарезное оружие и предполагаемое боевое амплуа. И опять цифры, множество цифр, сложные непонятные расчёты. А вот и их «Учитель», явно под псевдонимом скрывается глава ордена, вечный чёртов Тихон. «Возвращение воина», «Возвращение Учителя»…
Юрий захлопнул папку. Интересно, а сами гиды знают, что наш паучок, дорогой и почитаемый батюшка, сплёл на каждого из них такое дотошное досье? И кто имеется в виду — Хардов? Тихон? Он снова раскрыл досье, безымянным пальцем почесал кончик носа. Юрий Новиков смотрел на бегущие перед его глазами цифры и вдруг подумал, что некоторые из них вполне могли бы быть датами. Возможно, рождения или вступления в орден гидов. Вполне возможно, но как-то всё перепутано, скорее всего, специально.
— Ну и что, мой дорогой отец, ты так затейливо скрыл? — проговорил Юрий.
И отложил листки в сторону. Он не знал почему, но документик ему явно не понравился. От него исходило что-то… пугающее. В архиве был полумрак. И Юрию показалось, что где-то в далёкой тени, бесшумный и неподвижный, стоит Шатун и наблюдает за ним.
Юрий потряс головой, и наваждение рассеялось. Вздохнул. Стоило признать, что он не смог разобраться в чёртовых документах. Возможно, пока. Но выяснил, что переполох в полицейском ведомстве и вправду нешуточный. Снова посмотрел на то место, где в полумраке ему привиделось явление Шатуна.
Юрий Новиков стоял на какой-то черте. Шаг назад, и он окунётся в прежнюю жизнь, и никакие сумрачные видения не потревожат его больше. Свидание с Шатуном изменило его. Обострило восприятие. Эти документики были точно тонкая вуаль, скрывающая тайну, которую лучше оставить в покое. Он знал это, но
(Ева, Ева!)
не тот больше Юрий. И теперь он не удовлетворится скучными радостями. Его влечёт туда, где под сорванными вуалями обнажены неприглядные разгадки и ответы. Совсем другое.
И Юрий Новиков сделал шаг вперёд.
— Что вы все ищете? — спросил он Шатуна.
— Каждый своё, — уклончиво ответил тот.
— Но почему… Почему в лодке Хардова?
— Напомню, что это была твоя версия, — сказал Шатун.
— Это вывезли из Дубны, так? — решился Юрий. — А Ева оказалась там случайно?
— Сомневаюсь. — Глаза Шатуна масляно блеснули. — По поводу обоих вопросов. Ни Тихон, ни Хардов ничего не делают случайно.
— Почему ты не хочешь мне рассказать?
— Потому что это не имеет никакого отношения к поиску сбежавшей невесты. Я предпочитаю не выходить за рамки договорённостей.
— Послушай, мне тоже кое-что известно. — Юрий сделал весомую паузу и затем произнёс с нажимом: — Возвращение воина. Или возвращение Учителя. — Он подождал, однако его слова не произвели ожидаемого эффекта, лишь вызвали лёгкую заинтересованность. — Что, для тебя это пустой звук?
— Я этого не сказал.
— Уже радует. Ну, и что это? О чём речь? Возвращение Тихона во власть? Этого так опасается мой отец?! Установление на канале власти гидов?
Шатун пристально уставился на Юрия Новикова. Затем перевёл взгляд на присутствующую при разговоре Раз-Два-Сникерс.
— А малыш-то растёт, — похвалил Шатун. — И даже успел покопаться где не следует.
— Я лишь собираю информацию. — Юрий пожал плечами. — И, похоже, я на правильном пути.
— Малыш, — в глазах Шатуна наконец мелькнула весёлая искорка, — Тихона не интересует власть. По крайней мере, в том смысле, что ты думаешь. Но твой батюшка напуган. Его аж трясёт. И скажу тебе честно, у него есть на то основания.
— Очень смешно, — фыркнул Юрий.
— А насчёт правильного пути… — Глаза Шатуна блеснули ещё веселей, словно в его словах и не присутствовало скрытой угрозы. — Не обожгись.
— Ну, так и поясни! Расскажи, на чём не обжечься.
Раз-Два-Сникерс стояла молча и неподвижно, словно каменное изваяние. Лицо оставалось бесстрастным, лишь веки чуть-чуть… Юрию показалось, будто она тоже… прислушивается, что ли.
Шатун посмотрел на неё с интересом и прыснул. Юрия посетила неприятная мысль, что всё это время громила просто развлекался.
— Расскажи я вам всё, мне пришлось бы вас убить, — расхохотался Шатун. — А, амазоночка?! — и он заговорщически подмигнул Юрию Новикову.
— Ещё смешнее, — вскинулся тот.
— Так говорили в старых фильмах, — поучительно заверил Шатун. — Но вам этого не понять. Вы не застали тех славных времён.
— Конечно, куда уж нам, бедняжкам, — отмахнулся Юрий.
— А лично тебя-то, — громила вдруг ткнул Юрия указательным пальцем в грудь, — больше должен интересовать тот беглый пацан в лодке у Хардова.
Раз-Два-Сникерс так и изображала живую статую, лишь на щеках её заиграл еле заметный румянец.
— С чего бы? — не без вызова протянул Юрий.
— Ну, представь: ночь, лодочка, канал, девица… Представил? Вокруг опасность, грубая мужская среда, а они с ней ровесники. Сам понимаешь… хм, лямуры, там, и всё такое. К кому потянется несчастное сердечко?
— Я смотрю, у кого-то сегодня просто отличное настроение, — огрызнулся Юрий Новиков.
И на этом их разговор окончился.
Сейчас в присущей ей язвительной манере Раз-Два-Сникерс напомнила Юрию о давешней беседе. Что ж, ладно. Пусть её. Пусть язвит сколько хочет. Юрия не убудет. Зато он выяснил для себя две важные вещи. Во-первых, поиск Евы не является и никогда не являлся для них приоритетом. И в дальнейшем это стоит учитывать. А во-вторых… Что-то там было, в лодке Хардова. Что-то, явносвязанное с хитрыми документиками, лежащими в сумраке архива. Вот с чего и весь переполох.
И тогда зазвонил телефон.
Глава 13
Происшествия в «Лас-Вегасе»
1
Юрий снял трубку массивного аппарата, чуть отстранив её от уха.
— Кабинет главы полиции. Новиков у телефона, — важно объявил он. И взглянул на Раз-Два-Сникерс — не только Шатун у нас умеет повеселиться.
— Юрий, хорош дурить! — голосом подпевалы Трофима прохрипела трубка. — Мне только что доложили: Хардов идёт по Дмитровскому тракту.
Юрий аж вскочил в кресле:
— Как идёт?!
— Пешком, — сумничал Трофим. — Мне доложили, что с ним девчонка и этот пацан. Ну, дубнинский, что сбежал после потасовки…
— Ева, — механически прервал Юрий. — Ева Щедрина.
— Ну, конечно! Видимо, Хардов решил обойти третий шлюз посуху.
— Почему доложили тебе? — зачем-то спросил Юрий.
— Мне почём знать? — Но в голосе явное удовлетворение.
Юрий растерянно посмотрел на Раз-Два-Сникерс. Она, конечно же, всё слышала, телефонный аппарат в кабинете отца гремел, как иерихонская труба.
— Я думал, ты прихворал, — сказал он Трофиму.
— Так и есть. Новость пришла с вестовым.
Юрий Новиков выдохнул: а, так подпевалушка так и не дождался личного телефона.
— …надо что-то делать, — говорил Трофим. — Я пытался связаться с батей…
— Моим батей, — напомнил Юрий и краем глаза заметил, что Раз-Два-Сникерс усмехнулась. Но Юрий Новиков уже перевёл дух. — Не надо ничего делать, Трофим, — сказал он.
— Не понял тебя?
— Расслабься. Всё под контролем.
— Но ведь… Ты, наверное, не в курсе… но это дело…
— Ещё как в курсе. Это моё личное дело! — Юрий и сам не понял, отчего ему захотелось ввернуть: — Возвращение воина, так, дружок?
Он чуть подождал, молчание на другой стороне телефонной линии показалось ему необычно глухим и плотным. Видимо, пришла теперь очередь подпевалы быть растерянным.
— Всё под контролем, — добавил он. — Моим и Шатуна.
У меня в кабинете Раз-Два-Сникерс.
— Послушай, Юрий, — наконец забормотал Трофим, от самодовольства в его голосе не осталось и следа. — Я не ожидал, что батя… что ты в курсе. Но Раз-Два-Сникерс…
Я ей не вполне… Хардов уйдёт…
— Нет на оба твоих сомнения. — Юрий, сам не отдавая себе отчёта, только что скопировал громилу Шатуна. — Во-первых, я ей вполне. А во-вторых, никуда Хардов теперь не денется. Так что выздоравливай, мой хороший, и не беспокой себя понапрасну.
И, не слушая возражений, он повесил трубку. Нежно и даже с оттенком покровительства посмотрел на Раз-Два-Сникерс.
— Шатун как-то сказал, что если вы на правильном пути, то сам мир поворачивается к вам лицом, — заявил он.
Она несколько удивлённо пожала плечами, но ничего не сказала. Может, лишь в глазах мелькнуло какое-то еле уловимое подозрение.
— Ну, вот я и дождался своего звёздного часа, — сладко промурлыкал Юрий Новиков. — Хардов идёт по Дмитровскому тракту. В обход третьего шлюза. С Евой.
— Что ты собираешься предпринять? — спросила Раз-Два-Сникерс.
— Брать его, — коротко обронил он.
— Брать Хардова? — искренне изумилась она. — Ты что, сдурел?! И на каком основании? Инкриминируешь ему бегство твоей невесты?
— А я покопался в Кодексе, — признался Юрий Новиков. — Особенно в той части, что регламентирует отношения между гидами и водной полицией. На Хардове как минимум укрывательство беглого преступника — этот пацан, которого он тащит сейчас пешком вместе с Евой, учинил бучу с представителями властей на дубнинской ярмарке. По-видимому, Хардов ваш размяк и жалеет всякую нищую шваль. Укрывательство — достаточное основание для задержания. А нам сейчас большего и не надо. Меня-то, в отличие от вас от всех, интересует в этом деле только Ева.
— Ты точно сдурел, — тоном человека, у которого прямо на глазах сбываются худшие опасения, произнесла Раз-Два-Сникерс.
— Наш друг Шатун, — глаза Юрия хитро заблестели, — назвал бы это «подлинным безумием».
Она посмотрела на него ещё более мрачно. Затем в отрицающем жесте провела руками в воздухе:
— Если ты рассчитываешь на мою помощь, то напрасно. Без санкции…
— Вовсе нет, — улыбнулся Юрий, и теперь в его взгляде мелькнула победная искорка. — Вовсе не рассчитываю. В полицейском департаменте достаточно сил. Так что и ты можешь не утруждать себя понапрасну.
Юрий Новиков был похож на кота, обожравшегося сливок. Раз-Два-Сникерс с трудом подавила приступ отвращения. Ещё совсем недавно, возможно, ещё вчера, она сказала бы ему: «Не делай этого. Если б Хардов захотел, никто не смог бы его выследить. Подумай, пустая башка, почему Хардову вздумалось показать себя?»
Но похоже, Раз-Два-Сникерс знала ответ на этот вопрос. Похоже, что, невзирая на неприступность Хардова и гидов Тихона, ей всё же удалось сделать скромный шажок к тому, что ей когда-то открыла Лия. И Раз-Два-Сникерс поблагодарит небо за маленькие радости, которые празднуют только в тиши, и попеняет себе за то, что так долго ждала и так долго не решалась.
— Поступай как знаешь, — сказала она Юрию Новикову. — Я иду отдыхать. Хорошенько высплюсь, пока ты намерен развлекаться.
— Амазоночка, — ухмыльнулся Юрий. — Моё предложение покатать тебя на этой штуке всё ещё в силе. Напоминаю, что я говорю о своей лодке.
— А после Хардова ты намерен разобраться с Трофимом? — Раз-Два-Сникерс наконец мягко улыбнулась. — А потом… потом, позже, с дорогим и почитаемым батюшкой…
Брови Юрия Новикова удивлённо поползли вверх.
— А потом даже с Шатуном? Да?! Поэтому ты решил назвать меня «амазоночкой»?
— Я не знаю, кто из нас сдурел, — пробурчал Юрий.
— Что ж, если твой план удастся, я с удовольствием порулю твоей лодкой, — пообещала Раз-Два-Сникерс. Её губы растянулись в улыбке, но глаза оставались холодными, синими и холодными, будто их наполнил лёд.
2
Всю операцию Юрий Новиков захотел возглавить лично. В тот момент, когда Хардов не спеша шёл со своими спутниками по людному Дмитровскому тракту, Юрий решил обогнать его на полицейской лодке по воде и высадиться у третьего шлюза. Там уже ждала группа захвата.
Давить авторитетом отца особо не пришлось — в полицейском департаменте действительно нашлись люди, поглядывавшие на него со всё большим пониманием. И хотя никакой стрельбы в центре Яхромы не предполагалось, — Юрий слишком долго изучал досье Хардова и убедился, что этот человек не склонен к совершению необдуманных поступков, — на увенчанных каравеллами башнях самого красивого на канале третьего шлюза он расставил снайперов. Как любит повторять наш дорогой и почитаемый батюшка, бережёного Бог бережёт. Честно говоря, до этого ошеломляюще-нелепого предположения Раз-Два-Сникерс его мысль не заходила так далеко, чтобы разобраться с отцом, и сейчас, расположившись на смотровой башне и наблюдая в армейский бинокль за дорогой, Юрий и сам не знал, права чёртова баба или нет.
Здесь, у Яхромы, местность начиналась холмистая, и на правой стороне канала, где по исторической справке когда-то находился горнолыжный курорт «Волен», выстроили знаменитый «Лас-Вегас» — лучшее на канале место торговли и развлечений. «Лас-Вегас» как магнит притягивал правильную публику — богатых купцов, полицейских чинов и золотую молодёжь. Нищий сброд, вроде этого недоноска, «лямурами» с которым пугал Шатун, не казал туда даже носа. Господи, да Юрий просто размажет его в лепёшку, а если ещё выяснится, что для шуточек громилы есть хоть малейшие, хоть самые ничтожные основания, то ещё и сотрёт в порошок. И всё это он произведёт на глазах нашей беглянки Евы. Юрий вдруг хихикнул. Вскоре настанет и её черёд платить. Но только после свадьбы — он не настолько глуп, чтобы насиловать свою будущую жену. Однако красавица Ева, голубушка наша любезная, заплатит по полной.
От яхромских причалов гостей «Лас-Вегаса» доставляли велорикши. Юрий перевёл бинокль на стоянку, но обнаружил там лишь пару экипажей. Правильный народ начнёт собираться только к вечеру. Велорикши везли своих седоков по Дмитровскому тракту до развилки, как раз напротив шлюза, и сворачивали вправо, к «Лас-Вегасу», а дальше тракт вновь начинал пустеть. И хоть в хорошие дни по нему всё ещё можно было добраться до Деденёво и Туриста, Юрий Новиков никогда бы этого делать не стал. По семейному преданию, старшая сестра матери была немного не от мира сего, типа блаженная, любила погулять пешком и пропала ещё девочкой как раз под перекинутым через канал железнодорожным мостом. Что-то спустилось сверху вместе с туманом и забрало её. Хотя сам Юрий этому не особо верил — маленькая идиотка могла просто потеряться или утонуть.
Ещё по преданиям, но уже не семейным, а гораздо более серьёзным, как раз напротив «Волена», но только по другую сторону канала, когда-то находился ещё один курорт — «Сорочаны». Но там всё накрыл туман, остановившийся на берегу небольшого ручья, который с трудом успели расширить. Слухи об этом месте ходили самые зловещие, даже только на приближении к нему люди начинали вести себя странно, но чёрные споры сатанинских грибов попадали на канал именно оттуда. Грибы, конечно, не считались «бычьим кайфом», но правильные люди, собиравшиеся в «Лас-Вегасе», предпочитали гораздо более утончённую слизь червя. Юрий поморщился: правильный народ из «Лас-Вегаса» не интересовал его больше, хотя насчёт Шатуна амазоночка, конечно, загнула.
— Юрий, — только что доложил ему командир группы захвата, — Хардов появился. Все готовы. Ждут только команды.
«Ну, вот и началось, голубчики мои», — подумал Юрий Новиков.
3
Раз-Два-Сникерс сняла себе номер в «Лас-Вегасе», объявила портье, что ложится спать, и велела до вечера её не беспокоить.
Внизу, на рецепции находился телефонный аппарат, такой же огромный, как в кабинете Новикова, и особенно важным гостям дозволялось им пользоваться. Раз-Два-Сникерс связалась с Фомой на «Комсомольской» и попросила немедленно дать знать, если наконец появится Шатун.
— Я иду спать, — громко говорила она. — Но если Его Светлости вздумается явить себя миру, сразу же меня буди.
В любое время, чтобы не было никаких сюрпризов. Хотя, Фома… дай мне всё же пару часиков, сам понимаешь, бессонная ночь…
Фома пообещал всё сделать как нужно. В этом смысле на него можно было положиться. Ещё с утра команду под началом Колюни-Волнореза Раз-Два-Сникерс расположила в полицейских казармах Яхромы. Никого из них, кроме, может быть, Волнореза, она не возьмёт с собой дальше. И хоть она чувствовала, что её путь лежит очень далеко, единственный человек, на которого она могла положиться в свои неполные тридцать четыре года, был глуповатый, но верный как пёс Волнорез.
Закрывая ставни — обычно яркое дневное солнце мешает спящим людям, — она подумала, что и от Волнореза можно ожидать сюрпризов. Ведь верный Колюня, сам того не зная, практически «влюблён» в Шатуна. Раз-Два-Сникерс усмехнулась: если б ей пришлось написать это слово — «влюблён» — на бумаге, то кавычки она, пожалуй, опустила бы. Но ничего, ей известно, как справиться с этими латентными гомиками и на какие кнопки, случись что, следует нажать.
Отходя от окна, она снова подумала о Лии.
Совсем скоро, уже ближайшим вечером, в двух шагах от её номера сюрпризы не заставят себя ждать.
* * *
Никто не видел, как спустя несколько минут Раз-Два-Сникерс покинула свой номер. Как по пожарной лестнице выбралась на крышу, как, легко и бесшумно балансируя на головокружительной высоте, поднялась по откосу к «Пирамидам», прильнув, распластавшись, словно кошка, к приоткрытому коридорному окну.
4
Сложных геометрических форм крышу «Лас-Вегаса» затейливо украсили разноуровневыми и разновеликими надстройками в виде пирамид и в них расположили фешенебельные, лучшие на канале пентхаусы. Самый скромный из них, не в пример зарезервированному за полицейским департаментом, но зато и самый верхний, уже давно снимал некто по имени Хромой Лавр. Приступка балкона этого номера являлась высшей из доступных точек на местности, и отсюда прекрасно просматривались все окрестности. Хозяин не преминул воспользоваться этой особенностью, и балкон был оборудован мощной телескопической трубой на штативе.
Отрезок тракта от Дмитрова до Яхромы, причалы, а особенно развилки и поворот на «Лас-Вегас» были самыми лакомыми кусочками для работы нищих, которых всё прибывало с новыми волнами беженцев. А Хромой Лавр был нищим. Точнее, королём нищих, всё ещё не брезгующим поработать лично. Что-то в его артистической натуре требовало этих выходов на паперть. И хоть Хромой Лавр отстёгивал полиции, и отстёгивал щедро, чтобы те не беспокоили «хлебные» места, которые он давно уже отвоевал в безжалостных битвах с конкурентами, за всей работой требовался неусыпный пригляд. Особенно за лакомой развилкой, по которой с утра до вечера и с вечера до утра туда-сюда сновали капиталистые дмитровские мужички и их неустанные транжиры-жёны. Мощная телескопическая труба на штативе очень даже для этого годилась.
Нищенство являлось призванием Хромого Лавра. Однако после падения Икши и Твери и непонятных вестей с окраин Ярославля, — грёбаные гиды, и за что им только такие привилегии, дармоедам чёртовым, уже давно пора было разобраться, что там, — конкуренция на рынке стала обостряться. В этой связи в коридоре у дверей пентхауса Хромого Лавра постоянно бдили два охранника. Это были его люди, однако официально их командировал полицейский департамент — ещё одна «отстёжка»! — на канале гражданским носить оружие не дозволялось. Поэтому на позолоченный, с инкрустированной рукояткой «стечкин» самого Хромого Лавра — снова «отстёжка» — и на стволы его денежных курьеров — ещё одна! — просто закрывали глаза. Но вот что интересно: при строгом, подозрительном, чуть ли не до деспотичности жёстком Новикове с полицией стало договариваться значительно проще, чем при его предшественнике. Барыши росли, все занялись делом, наступили золотые денёчки, и сейчас, заканчивая подсчитывать вчерашнюю выручку, Хромой Лавр чувствовал, что его настроение улучшается с каждой минутой.
* * *
Оба охранника тоже не могли пожаловаться на отсутствие настроения, и единственное, что их угнетало, была сонливость, вызванная послеполуденной жарой.
Тот охранник, что сидел подальше от окна, всё же успел заметить, как в оконном проёме мелькнула какая-то тень, и нечто тёмной зигзагообразной молнией проникло в коридор. Его клевавшему носом напарнику повезло больше — короткий, почти бесшумный выпад, и он отправился в отключку, даже не сообразив, в чём дело. Охранник, что сидел подальше от окна, захлопал глазами. Он даже успел потянуться за оружием, но эта молниеносная тень переместилась к нему, и он увидел сосредоточенные, завораживающе-холодные глаза, и на этом исполнение его профессиональных обязанностей закончилось.
Примерно через час, очнувшись, он обнаружит себя и напарника связанными, с кляпом во рту, в комнатке для хранения уборочного инвентаря, и первой его мыслью станет: «Всё, конец. Хромого Лавра завалили».
* * *
Однако, забегая вперёд, скажем, что было не так. Хромой Лавр, конечно же, услышал два глухих удара, но интенсивность звука не вызвала у него никаких подозрений. Он подумал, что охранники, старые дружки, прямо как дети малые, скорее всего, опять расшалились от нечего делать; они даже приветствовали друг дружку, изображая боксирование. Ну, точно малые дети!
— Что там?! — весело пожурил он охранников. Так как ответа не последовало, Хромой Лавр снова углубился в тонкости своей бухгалтерии. Баланс доходов и расходов, невзирая на предстоящие в этом месяце крупные отстёжки, заставлял всё внутри него петь.
Потом потянуло сквознячком. Ветерок пошевелил лежащие перед ним бумаги. Слишком поздно Хромой Лавр сообразил, что сквознячок, скорее всего, возник из-за того, что кто-то бесшумно приоткрыл дверь. Он поднял голову.
Кто-то (мужчина, но, скорее всего, женщина) стоял уже перед ним. Лицо внезапного гостя скрывал платок, как и волосы, и Хромой Лавр видел только холодные глаза, которые, наверное, могли быть синими, но сейчас были цвета пасмурного неба. Хромой Лавр даже не успел испугаться, а почувствовал что-то вроде недоумения.
— Кто ты? — спросил он.
— Для тебя же будет лучше этого не знать, — последовал ответ.
Голос оказался низким и хриплым, но теперь Хромой Лавр был почти уверен, что это женщина. Он автоматически опустил руку на выдвижной ящичек стола, где хранился его позолоченный «стечкин». И услышал:
— А вот это напрасно. Будет больней.
Дальше что-то мелькнуло на периферии зрения, но Хромой Лавр боли не почувствовал. Была яркая вспышка разноцветных искр в чёрном ореоле, как гирлянда зловещего салюта, и затем он провалился в темноту.
Раз-Два-Сникерс посмотрела на него: ей не требовалось прощупывать пульс или слушать дыхание, чтобы убедиться, что он жив, хоть и сполз по спинке своего стула. Она перешагнула через его вытянутые ноги и вышла на балкон.
Не мешкая, подстроила телескопическую трубу под своё зрение, выбрала нужный объект и прильнула к окуляру.
Она успела вовремя. Совсем скоро Раз-Два-Сникерс отстранилась от глазка и произнесла:
— Какой идиот! Так ничего и не понял.
Она вернулась в номер Хромого Лавра. Тот так и пребывал в отключке, но стал похрипывать. Что говорило о том, что вскоре он начнёт приходить в себя.
— Спасибо, — сказала ему Раз-Два-Сникерс. И направилась к двери. Через секунду её здесь уже не было.
5
«А Ева-то похорошела, — четвертью часа ранее подумал Юрий Новиков. — Пребывание на воздухе явно пошло домашней девочке на пользу».
Он сразу же узнал её простое белое платье, в котором впервые увидел Еву год назад на весеннем балу, что давала гильдия учёных. Платье нельзя было назвать нарядным, в какие обычно обряжались по торжествам дмитровские кулёмы, но очень ей шло. Только если прежде оно сидело свободно и контуры девушки несколько в нём терялись, то сейчас белое платье весьма соблазнительно обтягивало её бёдра.
«В этом платье она пойдёт под венец! — подумал Юрий. — В платье сбежавшей невесты».
Было в этом что-то возбуждающее… горькое и возбуждающее одновременно. Юрий почувствовал какое-то неожиданное оживление у себя внизу — ого-го, мы превратим наше унижение в наше торжество! В паху прошлась волна сладкой боли — видимо, ход его мыслей вовсю поддерживался другими частями его организма.
Затем капризные складки залегли у краешков его губ.
«Ну, и чего это она так вырядилась? — нахмурился Юрий. — Уж и вправду не для этого ли недоноска?»
Рядом с Евой вышагивал ещё один беглец, теперь как клеймо несший на себе это ехидное замечание Шатуна про «лямуры», — Юрий почувствовал, как крепко сжал кулаки и как сильно ногти впились в кожу, — и она держала его под ручку. Оживление внизу нарастало: унижение и торжество… Юрий взял себя в руки. «Господи, мало того, что голь перекатная, — подумал он, — так ещё и какой-то мордастый лох. Вот дурра-баба! Но ничего, дубнинскому недоноску вот так гулять осталось недолго».
Дуры-бабы! Обе! Одна убегает от такой блестящей партии, как Юрий Новиков… и к кому? К романтическому гребцу? К покрытому шрамами гиду?! Нет, ручкается с каким-то кругломордым недоноском. А вторая…
«Разберёшься с дорогим и почитаемым батюшкой… и даже с Шатуном», — из какой-то мглистой шершавой глубины выплыли тёмные слова.
Лицо Юрия Новикова застыло.
Конечно, они дуры. Да только… Бабы чувствуют своей кожей, своим звериным самочьим чутьём, куда и когда перемещается центр силы. Раз-Два-Сникерс поняла, куда дует ветер. Совсем скоро, прямо сейчас, поймёт и Ева.
— Почему они не взяли велорикшу? — Голос командира группы захвата вывел Юрия из вязкого и опасного болота собственных фантазмов.
— Чего? — не понял Юрий. Командир никогда ему особо не нравился. И сейчас он оказался здесь единственным, кто согласился действовать только под большим нажимом.
— Почему они не взяли велорикшу? — терпеливо повторил тот. — Их лодка давно ушла вперёд. В экипаже есть возможность укрыться от посторонних глаз, подняв верх.
— Может, денег пожалели, — отозвался Юрий Новиков. — Почём мне знать, что творится в чужой башке?
Командир группы захвата, если б мог себе такое позволить, то наверное бы рассмеялся. Сейчас именно такая ситуация, когда не мешало бы покопаться в «чужой башке». С другой стороны, он пришёл сюда, на третий шлюз, и привёл своих парней вовсе не веселиться. С самого начала он считал это дело дрянным. Поэтому хотел его побыстрее закончить и побыстрее оказаться дома. Происходящее нравилось ему всё меньше. Сейчас, глядя на спокойненько идущего по тракту Хардова в обществе миловидной барышни в шляпке с вуалью, скрывающей лицо, и какого-то олуха с тяжёлой неуклюжей походкой, он думал, что это дрянное дельце всё больше пованивает.
«Это какая-то чушь. Ничего не совпадает. Ни с инструкциями, ни со здравым смыслом. Вот он идёт совершенно спокойно и открыто, и это совсем не увязывается с тем, что было известно о гидах».
Командир группы захвата кое-что знал о гидах. Прежний глава полиции всегда отзывался о них уважительно и много чего поведал. Вот кто был настоящим Батей с большой буквы. Решение брать Хардова изначально было безумием. Батя никогда бы не допустил подобных глупостей, граничащих с преступлением. Это похоже на открытый конфликт с гидами. Дрянное дельце даже больше не пованивает, от него уже разит за километр. Потому что либо за Хардовым ничего нет, либо… Командир группы захвата не хотел думать об альтернативах. Он очень надеялся, что его знаний о гидах достанет, что они не подведут. Что всем хватит выдержки и благоразумия и все сегодня вернутся домой.
А потом он услышал этот голос новиковского отпрыска, периодически срывающийся на неприятный фальцет. Почему столько людей в полицейском департаменте проявили к Новикову-младшему неожиданное… сочувствие и почему такая тёмная и опасная личность, как Шатун, ведёт дела с этим клоуном, оставалось для командира группы захвата большой загадкой.
— Время! — отдал распоряжение Юрий Новиков. Он всё больше входил в роль большого начальника. Пора это пресечь, хотя бы на сегодня, хотя бы на время операции, пока не вышло большой беды. — Пропускаем их вперёд и выходим. Снайперам приготовиться.
6
Хардов обнаружил снайперов гораздо раньше этих слов. Ещё на подступах к шлюзу № 3, переходя Яхромский мост, он обратил внимание на странного рыбачка с длинным удилищем: утонувший поплавок давно сигнализировал тому о крупном улове, но бедолага все никак не хотел этого видеть. Проходя мимо, Хардов весело крикнул ему:
— Клюёт!
Потом у ворот на территории шлюза Хардов заметил двоих гражданских — те неправильно, ненормально долго возились с неподдающимся замком и старались не смотреть в их сторону. Это вызвало у гида лёгкую улыбку. Она ещё не покинула губ Хардова, когда его серые глаза, цепко выхватывающие из-под панамы все детали, чуть сузились. Трое снайперов были на крыше диспетчерской башни, один на оборудованных перилами створках нижних раздвижных ворот и ещё один — на дальней башне: видимо, тот получил сигнал с Яхромского моста.
— Эти корабли символизируют «Санта-Марию» и «Нинью» — каравеллы Колумба, — сказал Хардов своим спутникам, и голос его прозвучал вполне беспечно.
Пять снайперов — это перебор. Это явно превосходит все мыслимые пределы необходимой достаточности. Тихон прав — они напуганы. И поэтому опасны. Либо там принимает решения какой-то сумасшедший, что в конечном счёте одно и то же.
Хардов давно уже снял свой плащ, укрепив его на лямках баула. И теперь чуть отставил в сторону правую руку, чтобы можно было получше различить его оружие — один-единственный ствол, доисторический и совершенно бессмысленный в подобной ситуации короткоствольный револьвер «бульдог», который он позаимствовал у Вани-Подарка. Всё же гид вообще без оружия может вызвать только большее подозрение. Свой любимый складной нож Хардов решил даже не беспокоить, оставив его лежать на дне баула.
«А группа захвата, скорее всего, находится в здании шлюза. Пропустят вперёд и, как это у них водится, подойдут со спины», — подумал он. Потом Хардов решил, что ему следует кое-что сказать своим спутникам, дать им некоторые указания. Он уже видел, или почувствовал, движение за спиной. Всё началось. Видел или чувствовал — Хардов никогда не задумывался о деталях своего восприятия, но всегда знал, когда начинала завариваться каша. Только сейчас он был обязан выиграть без боя. Сейчас даже такой мелочи, как полёт ножа рукояткой вперёд, он не мог себе позволить. Пять снайперов — это явный перебор, а эти двое молодых людей с ним совершенно ни при чём.
Хардов услышал за спиной быстрый, спешащий, шаркающий звук — кому-то следует поучиться ходить тише. Значит, сейчас начнут задержание. Но у него ещё есть несколько мгновений — и это целое море времени. Внутри Хардов оставался холоден и сосредоточен. И вдруг он улыбнулся. Тепло, радостно и беспечально. Хардов был очень благодарен Рыжей Анне за то, что она откликнулась и встретила его на рассвете этого дня. За то, что она по-прежнему оставалась гидом. Очень толковым, хоть и очень красивым.
7
Юрий Новиков видел, как Хардов наклонился и что-то сказал своим спутникам. Ева тут же кивнула, этот дубнинский недоносок тоже.
Группа захвата вышла сразу, как только Хардов поравнялся с дорожкой, ведущей от шлюза к тракту. Юрий очень спешил, но командир группы захвата велел ему идти замыкающим.
— Мы тебя прикроем, если что, — объяснил он.
— А что тут может случиться?! — выпалил Юрий.
«Действительно, что здесь может случиться?» — с несколько усталой иронией подумал командир группы захвата. Происходящее дрянное дельце уже даже больше не раздражало его, осталось только одно желание — побыстрее всё закончить.
Юрий шёл за спинами полицейских, смотрел на обтянутые белым бёдра Евы, до которой, казалось, осталось лишь протянуть руку, и думал: «Господи, как всё на самом деле оказалось просто!» Наверное, он действительно очень спешил. Потому что командир группы захвата вновь одёрнул его по ходу и произнёс тихо, но жёстко:
— Стоп. Дальше работаем мы.
И опять Юрий подчинился. Наверное, он пока должен подчиняться. Как было бы хорошо сейчас приказать снайперам открыть огонь и навсегда решить проблему Хардова и «лямуров», но… Юрий помнило недопустимости стрельбы в центре Яхромы. А он теперь начал приучать себя к сдержанности. Они здесь на службе закона. Он здесь на службе закона. Единственное, что Юрий себе позволит, — это размазать по дороге дубнинского недоноска за то, что посмел приблизиться к его невесте. Баба должна знать своё место. Праведного гнева никто не отменял.
Юрий посмотрел на командира группы захвата. Каждый должен делать свою работу. Поэтому он подчиниться. Наверное, пока будет так.
— Только не очень долго, — вдруг, ни к кому не обращаясь, процедил Юрий.
Командир посмотрел на него без удивления.
«А ведь я ему не нравлюсь, — подумал Юрий. — Но ничего, это тоже не очень долго». Он с трудом сдержался, чтобы не хихикнуть. Внутри себя он ощущал удивительную лёгкость.
8
— Гид Хардов, — произнёс командир группы захвата, — прошу вас остановиться.
Хардов немедленно выполнил требование. И обернулся. Отметив про себя, что форма, в которой начали его задержание, внушает осторожный оптимизм. Снайперы — снайперами, но все пытаются оставаться в рамках закона. Значит, Тихон прав — крайних решений ещё не принято. И значит, всё теперь будет зависеть от него. Каждое его следующее слово, каждая эмоция будут иметь значение. По их мрачным, сосредоточенным лицам он видел, что они напуганы. Хардов незаметно развернулся к ним правым боком: в кобуре всего лишь игрушечный «бульдог». Это должно их чуточку успокоить. Но Хардов знал: они, как волки, вцепляются в любой неосторожный выпад, но ещё скорее, если почувствуют слабину.
Спутники Хардова также остановились. Но обернулся он один:
— В чём дело?
На гида было направлено несколько автоматических стволов. Но он не смотрел на них. Он будет вести дело только со старшим. Он давно и хорошо знал этого человека.
А потом из-за шеренги полицейских выступил Юрий Новиков. Хардову было известно, кто это. В правой руке у того находился доисторический «макаров», и он им, сам того не ведая, неосторожно размахивал.
— А ну, обернись, ты, недоносок! — он явно обращался к спутнику Хардова.
«Это может всё осложнить», — подумал гид.
— Спокойно, Юрий, — негромко цыкнул на него старший.
— Так в чём дело? — с некоторым нажимом поинтересовался Хардов.
— Я вынужден вас задержать, — отозвался командир группы захвата.
— Вот как? — Хардов пожал плечами, и вдруг ему срочно понадобилось извлечь соринку из глаза. — И на каком основании?
— Поступила информация, что вы укрываете в своей лодке человека, которого разыскивает полиция.
«Ну, вот и твоя первая ошибка, старый друг», — холодно подумал Хардов. Он вздохнул. Произнёс:
— Командир, я всегда считал вас разумным человеком. И всегда относился с уважением. Где вы видите здесь лодку?
— Лодка ушла вперёд… — Старший чуть потупил взор.
И дальше заговорил гораздо менее официальным тоном: — Хардов, пожалуйста, пусть ваш спутник обернётся и предъявит документы.
Это несколько снизило напряжение. Хардов улыбнулся.
— Так вопрос в этом молодом человеке? — облегчённо протянул он. — Никаких проблем.
— Догадался, наконец, — вставил Юрий Новиков.
Гид посмотрел на него с каким-то академическим интересом. «Вторая ошибка, — подумал он, — что ты позволил говорить новиковскому сынку».
— Командир, разумеется, мы сейчас предъявим документы, — сообщил Хардов. — Но ответьте на два вопроса: кто здесь принимает решения? И почему этот молодой человек постоянно хамит?
И опять гид понял, что попал в точку: некоторым здесь, и уж точно старшему, Юрий Новиков не особо нравился.
«Но он опасен, — подумал Хардов. — И это стоит учитывать. Только его опасность совсем другого свойства.
Как та троица под ясенем: опасность взбесившейся собачонки, по поводу которой, однако, вовсе не стоит обольщаться».
— Я принимаю решения, — спокойно и с достоинством ответил командир группы захвата. — И прошу вас выполнять мои требования.
— Разумеется. — Хардов кивнул. Обстановка чуть накалилась, но он видел, что это необходимо, ведь, в конце концов, этот клоун с доисторическим «макаровым» опасен для них для всех. Хардов вдруг подумал, что, вполне возможно, идея со снайперами принадлежит именно ему. — Предъяви документы.
Спутник Хардова, которого про себя Юрий Новиков именовал уже не иначе, как дубнинским недоноском, обернулся. Начал неуклюже копаться в карманах. Несколько напуганно и глуповато улыбнулся полицейским.
«Ну и урод! — подумал Юрий Новиков. — И вот с ним, под ручку… Верно, дурра-баба! А ну-ка, давай, Ева, и ты обернись, чего стоишь как вкопанная?!» У дубнинского недоноска оказалась круглая скуластая рожа, и из-под нелепой кепчонки торчала прядь волос. Рыжих. Вдобавок ко всему он ещё и рыжий!
Документы наконец нашлись. Один из полицейских уже проверял их.
— И что же ему инкриминируют? — воспользовавшись заминкой, поинтересовался Хардов.
— Драку и неподчинение властям. — Командир группы захвата устало кивнул. — На дубнинской весенней ярмарке.
— Драку? В Дубне?! — Хардов с интересом посмотрел на своего спутника. Затем перевёл взгляд на старшего. — Но боюсь, тут я вынужден вас разочаровать, командир. Этот молодой человек никогда не был в Дубне. Если не ошибаюсь, за последний год он вообще не покидал Дмитрова. Понимаете, очень много работы.
Полицейский, проверявший документы, подошёл к старшему и несколько озадаченно проговорил:
— Всё в порядке. Он чист. У него поручительство от, — он заговорил громким шёпотом, — от Анны Петровны… ну, словом, от Рыжей Анны. Батрачит на её фермах. Так что… это не тот.
Командир группы захвата задумчиво посмотрел на Хардова. Кивнул и наконец усмехнулся. Ему вдруг очень захотелось сказать: «Видимо, какое-то недоразумение», — и закончить дрянное дельце. Тем более всё так удачно складывалось. Но беда в том, что ещё оставалась девушка. А даже самые дрянные дела на полдороге не бросают. Поэтому он спросил, очень вежливо и очень сожалея, что вынужден делать это:
— А как насчёт барышни? С ней всё в порядке?
— Уверяю вас, она точно не участвовала в дубнинской драке, — улыбнулся Хардов. — Но вы можете проверить и её документы. Насколько мне известно, эта барышня также работает у уважаемой дамы, которую ваш подчинённый несколько неосторожно только что назвал Рыжей Анной.
У старшего дёрнулась щека.
— А у вас неплохой слух, — похвалил он.
— А также зрение, — улыбнулся Хардов. И кивнул в сторону шлюза. Взгляд его оставался спокойным, даже дружелюбным, лишь зрачки чуть сузились. — Драка в Дубне… Поэтому на крышах пять снайперов?
Старший посмотрел на него прямо, с коротким вызовом, затем сконфуженно вздохнул и сделал жест, который Хардов ни с чем бы не перепутал. Он слишком хорошо знал язык жестов, принятый у полиции. Только что командир группы захвата дал снайперам команду «отбой».
«Ну, вот и всё, — мелькнуло в голове у Хардова. — Похоже, я начинаю выигрывать».
— Почему она не оборачивается? — поинтересовался старший о спутнице Хардова.
Гид замялся, затем чуть подался к старшему и тихо, словно расстроенно, заявил:
— Стесняется. Понимаете, лицом не вышла. Но требования полиции… бесспорно, выполнит.
— Полагаю, у неё с документами также всё в порядке?
— Проверьте.
Теперь командир группы захвата всмотрелся в глаза Хардова внимательней. Гид снова улыбнулся и еле заметно кивнул.
И старший всё понял.
«Какой молодец, — с уважением подумал он. — А я позволил втянуть себя в полную дрянь и чушь, и мы все чуть не наломали дров. Пора ставить точку. А Хардов действительно молодец».
— Видимо, от лица полиции я вынужден буду изв… — начал было он.
Но в следующее мгновение на сцену выступил Юрий Новиков. На время о нём все позабыли. Кроме Хардова, который, в отличие от облегчённо вздохнувших полицейских, знал, что вовсе ещё не всё закончено.
«И что тут происходит?» — думал Юрий Новиков. Он следил за этой нелепой историей с документами и чувствовал нарастающий гнев: что за идиотский спектакль? Он что, и вправду вздумал их отпустить? Вот, в двух шагах стоит Ева… Ладно, с командиром группы захвата он разберётся позже. А сейчас надо брать дело в свои руки. Он больше месяца ждал этого момента.
С неожиданной проворностью Юрий Новиков вынырнул из-за шеренги полицейских, переложил своё оружие в левую руку (когда-то отец учил его стрелять с двух рук!) и, воспользовавшись этой сумятицей с принесением извинений, крепко ухватил Еву за плечо. И тут же снова почувствовал это предательское шевеление у себя внизу.
— Это моя невеста! — вскричал Юрий Новиков, резко разворачивая беглянку к себе. Пора бы ей уразуметь уже, кто здесь хозяин.
От резкого толчка белая шляпка с вуалью несколько сползла, и девушке пришлось просто снять её. Но ещё прежде рука Юрия Новикова отдёрнулась, будто ухватилась за змею.
— Что такое?! — Голос Юрия дрогнул, и он даже отшатнулся, сделав шаг назад. — Почему?
Повисло молчание. На лице командира группы захвата отразилось брезгливое изумление. «Господи, какой идиот», — подумал он. Первым нарушил тишину Хардов.
— А, так вы намерены жениться на этой девушке? — тоном человека, до которого только что дошла суть событий, произнёс он. — Это меняет дело.
Так как Юрий Новиков молчал, Хардов добавил:
— И хоть я всегда полагал, что сватовство выглядит несколько иначе, ваш… обычай тоже нахожу довольно интригующим.
Юрий Новиков почувствовал, как к горлу подкатил сухой плотный ком. На него смотрела безобразная скуластая девица, глуповато ему улыбаясь, и она была двойником этого рыжего недоноска. Брат и сестра. Юрий не понимал, что здесь происходит. Всё должно было быть не так. Словно привычные координаты мира вокруг покачнулись и сдвинулись.
— Так что если ваша избранница не против… — сказал Хардов.
— Я не против, — тут же каркающим голосом заявила девица и разулыбалась ещё омерзительней. И даже вздумала протянуть к Юрию руку. Видимо, эта уродина находит себя очень привлекательной.
— Дура! — гаркнул на неё Юрий Новиков. И сделал ещё шаг назад.
— Молодой человек, — нахмурился Хардов. — Я вас не понимаю: вы намерены жениться или нет?
Этот мерзкий вопрос Юрий проигнорировал, затравленно озираясь. Он чувствовал, что мир продолжает сдвигаться в сторону. Только что он собирался праздновать победу, но всё оказалось обманом. Фикцией. Евы по-прежнему нет. Хардов с какими-то уродливыми близнецами… Но почему?! Он чувствовал, что его начинают бомбардировать вопросы, множество вопросов. А ещё чувствовал, что всё самым наглым образом разваливается, ускользает из рук. Словно все эти люди сговорились против него. Словно они часть сдвигающегося мира. Вопросы, совпадая с тревожными ударами его сердца, стучали. И сейчас они взорвут голову, и всё развалится на куски…
Стоп. Он сын главы водной полиции. И он партнёр Шатуна. Стоп! Он всегда умел брать себя в руки. Тем более что уже увидел некое несоответствие (это не просто Хардов и не просто неизвестные близнецы, здесь присутствует какая-то деталь из его картины мира), на котором можно будет кого-то поймать и уличить. Возможно, сам того не замечая, он поднял ствол и указал им, тыкая на наряд рыжей скуластой дуры.
— На ней платье моей невесты! А? Так?! — бросил он в её тупое лыбящееся лицо. Затем его глаза хитро заблестели, и, ткнув стволом на Хардова, Юрий добавил: — И вот он лучше всех знает это!
Теперь изумление на лице командира группы захвата было даже не брезгливым, а, скорее, обеспокоенным.
Все неловко молчали. Звуки работающего шлюза сделались громче. Как и весёлое гудение погружённого в свои дневные хлопоты Дмитровского тракта.
— Хм-м, кхе, — прокашлялся Хардов, глядя на Юрия Новикова. — Молодой человек, я вас вижу в первый раз и ничего о вас не знаю. — Это было неправдой, но гиду требовалось дожать ситуацию до конца. — Но надеюсь, что ваше странное поведение, как и бестактные намёки, связаны с сильной жарой.
И Хардов легонько постучал себя по голове. В глазах полицейских мелькнули первые насмешки. Хардов посмотрел на старшего:
— Мы, пожалуй, пойдём?
— А? Ну да, конечно, — откликнулся тот.
— А ну-ка, скажи всем, где ты это взяла! — вдруг завизжал Юрий Новиков. — А?! Говори. Откуда платье? Признавайся!
Рыжая дура пялилась на него со своей дебильной улыбочкой. И вдруг в её взгляде Юрий уловил нечто… он уловил… понимание. Вовсе не глупость, а насмешливое понимание. «Ах, вот оно что!» — мелькнуло в голове у Юрия. И его начала захлёстывать волна гнева. И тогда он закричал:
— А?! Говори, где?! А ну, давай снимай!
На сей раз даже те, кого пару секунд назад ремарка Хардова развеселила, выглядели опешившими. Молчание сделалось ещё более густым. Наконец Хардов удручённо вздохнул.
— Командир, признайся, — попросил он, — зачем вы водите с собой сумасшедшего? С каких пор их стали привлекать к спецоперациям?
Командир группы захвата отчего-то перевёл взгляд с бледного лица Юрия Новикова на ярко палящее солнце, затем он посмотрел на Хардова.
— Гид Хардов, прошу извинить нас за причинённое беспокойство, — произнёс старший. — У водной полиции Дмитрова к вам нет больше вопросов.
Лицо Хардова застыло. Он один видел, как большой палец Юрия Новикова лёг на курок. Щелчок, и курок оказался взведённым.
— Ты сейчас мне за всё ответишь! — завопил Юрий Новиков.
А дальше никто не понял, что произошло. Указательный палец Юрия стал давить на спусковой крючок. Это с опозданием успели увидеть все. Но вечером, вернувшись в казармы, группа захвата ещё долго будет обсуждать случившееся. Никто никогда не видел, чтобы человек мог так быстро двигаться. Ведь Хардов стоял в нескольких метрах от новиковского сынка. И тот уже вздумал вести огонь. А вот дальше в деталях люди расходились. То ли Хардов, непонятно как переместившись к Юрию, выбил ствол и поймал его уже в воздухе, то ли просто поднял его руку вверх, неуловимым движением перехватив оружие, а сам оказался за его спиной. Все сходились в одном: вот Хардов спокойно стоит, а через мгновение он уже прижимает к себе обезоруженного Юрия Новикова, а новиковский «макаров» приставлен к его голове, чуть выше виска.
— Я сын главы полиции, — жалобно прохрипел Юрий.
— Вот как? — сказал Хардов. — А по-моему, ты взбесившееся опасное дерьмо.
Кто-то из бойцов наконец прореагировал. Руки потянулись к затворам, чтоб передёрнуть их. Но старший сделал отрицательный жест. И теперь все просто ждали.
— Я партнёр Шатуна! — Голос Юрия Новикова показался совсем осипшим. — Тебе известно, кто это?
— Даже лучше, чем тебе, — заверил его Хардов. — И хочу, чтобы ты кое-что запомнил: если ты ещё хоть раз позволишь себе неуважительно отозваться о моих спутниках или о любых моих знакомых, то при всём уважении к перечисленным тобой лицам я пущу тебе пулю в лоб. Ты меня понял?
Юрий молчал. И Хардов чуть выше завёл свой локоть под его горло:
— Я тебя спросил кое о чём.
— Я понял, — сдавленно простонал Юрий. — Отпусти! Понял. Отпусти!!!
Хардов так и поступил. Затем он протянул «макаров», держа его за ствол, старшему и спокойным будничным тоном, будто ничего не случилось, попросил:
— Командир, держи это от него подальше. Он очень опасный сукин сын.
Старший принял оружие. Он уже заметил, как кое-кто из его бойцов поглядывает на Хардова. Такое трудно было с чем-либо спутать. На лицах некоторых бойцов сейчас запечатлелось простое выражение прямого и полнейшего восторга.
— Хорошо. Я постараюсь, — пообещал командир группы захвата.
И всё закончилось.
9
«Голова болит несносно, просто раскалывается». Это была первая мысль Хромого Лавра, когда он пришёл в себя. А ещё голова казалась какой-то пустой, и боль словно сковала её обручем. Хромой Лавр попробовал пошевелиться и не почувствовал затёкших ног.
— Симеон, — слабо прохрипел он. — Матвей…
Хромой Лавр уставился на дверь, не понимая, как такое возможно, чтобы охранники ушли без дозволения… И тут он вспомнил.
«Меня ограбили. — Лавр поморгал, подтягивая под себя ноги. — Забрали всё. Всё! А Симеона с Мотей убили. Вот почему они не отвечают». Он попытался встать и чуть не рухнул, провалившись в пустоту, — ну да, ведь ноги затекли.
«Ограбили. Но хорошо, что не убили. Жив курилка, жив». Он повторил попытку, теперь облокачиваясь на стол. Высохшее горло болело, будто изрезанное, и сейчас ему потребовался большой глоток слюны. Это не принесло облегчения, лишь приступ тошноты подкатился из желудка. Хромой Лавр вцепился в край стола.
— Меня ограбила баба, — шершаво выплюнул он. — Средь бела дня! Пока её подельники разбирались с моими парнями.
Рой самых мрачных мыслей уже пробрался в его болевшую голову. В том числе и о том, что он сейчас поставит на уши весь «Лас-Вегас» — нападение произошло средь бела дня, и о том, что откопает ту стерву из-под земли и лично живьём сдерёт с неё кожу. А потом неожиданно всё стихло.
Хромой Лавр стоял посреди своей комнаты и хлопал глазами. Его коробка с ячейками, куда он складывал дневную выручку, сортируя всё по точкам сбора, покоилась на столе. Рубли столбиками, дмитровские ассигнации разложены по номиналу и перевязаны нитками — ничего не тронули.
С правой стороны стола находился неподъёмный металлический ящик, обшитый деревом под цвет остальной мебели, с хитрым замком, ключ от которого Хромой Лавр носил на шее. Там грабителей ждал гораздо более крупный улов — касса…
Спустя минуту Хромой Лавр тупо смотрел на ключ в своей руке, которая всё ещё дрожала от волнения. Ящик не вскрывали, касса была на месте.
Он облегчённо вздохнул — обошлось, хвала небесам. Обнаружил, что листки с важной и тайной бухгалтерией слетели со стола, но… их тоже не тронули. Даже его позолоченный «стечкин», за который любой лихач на канале продал бы душу, и тот не взяли.
Всё было на месте. Хромой Лавр нахмурился. «Тогда чего ж, а? Зачем?»
Совсем скоро выяснилось, что оба его охранника живы и здоровы, хоть и провели какое-то время связанными, с кляпами во рту, в обществе друг друга, швабр и половых тряпок.
Что всё это значит? Хромого Лавра вдруг посетила смутная и неприятная мысль, что, может, он ещё не очухался и всё это ему просто кажется. Что всё так хорошо? И вовсе всё не обошлось?
Это было неправильно. Непонятно. Если б что-то взяли… совсем другой разговор. А так… Это какая-то ерунда! Это не по-людски. Неправильно. Не пропало ничего. Вообще никакого ущерба. Ничего не изменилось, всё осталось по-прежнему, будто никто и не приходил. Только голова гудит. Тогда зачем?
Неправильно.
Это было непонятно, и это… пугало. Подобные безупречные нападения не организуют просто так.
— Ну что, будем подавать жалобу? — потирая висок, спросил уже небледный Симеон.
Хромой Лавр угрюмо взглянул на своих охранников. Всё же кое-какой ущерб ему удалось обнаружить. Одно небольшое измененьице он всё-таки нашёл. Прицел телескопической трубы оказался сбит. Хромой Лавр всегда отличался постоянством, граничащим с педантизмом. И всегда заканчивал наблюдение за работой своих «нищих» одинаково. Труба должна была быть повёрнута в сторону Яхромы. Потому что предпоследней шла лакомая развилка Дмитровского тракта, и в завершение длинного трудового дня — яхромские причалы, куда уже под утро яхромские велорикши доставляли игроков и иную гулявшую публику.
Сейчас подзорная труба смотрела на шлюз № 3. И хоть шлюз справедливо считался самым красивым на канале, но…
«Кому он сдался! — подумал Хромой Лавр. — Туда даже грошовые экскурсии организуют, чтоб рассмотреть каравеллы. Это не то. — Он снова перевёл взгляд на балкон: красноватая поверхность телескопической трубы, блестевшая на солнце, показалась ему необычайно яркой и… зловещей. Он вздрогнул, потом коротко, но тяжело вздохнул. — Там произошло что-то другое. Что-то… плохое».
— Жалобу? — надтреснуто повторил Хромой Лавр. — Скольких ты видел, Симеон?
— Одного. — Охранник виновато опустил взор. — Говорю ж, он был один. Ловкий, шельма. Сначала отключил Мотю, а потом, — унылый вздох, — в общем, и меня.
«Ещё и меня. — На лбу Хромого Лавра проявились хмурые складки. — Только не „один“, а „одна“! Интересную мы можем подать жалобу: какая-то психопатка незаметно проникает в самую охраняемую часть „Лас-Вегаса“, нейтрализует телохранителей и вырубает самого Хромого Лавра с одной-единственной целью — полюбоваться в его телескоп на никому не нужный третий шлюз!»
Хромой Лавр с трудом сдержал свой собственный нервный смешок. Произошедшее нравилось ему всё меньше. Некоторое время его роскошный номер находился в руках странной особы, только она вовсе не была психопаткой. Она разделала под орех троих вооружённых мужиков и ушла, когда получила то, что ей надо. Хромой Лавр не хотел знать, что это. У него был нюх на плохое. И он старался держаться от таких вещей подальше.
«Кто ты?» — вспомнил он свой наивный вопрос.
«Для тебя же лучше будет этого не знать», — ответила визитёрка.
— Вот что мы сейчас сделаем, — сказал он своим охранникам. — Про то, как вы только что обкакались, мы никому не расскажем. Мы сейчас все трое об этом позабудем. Раз и навсегда. Не было ничего. Вообще! Поняли меня?
— Поняли, Лавр. — Оба охранника благодарно закивали, но говорил более смекалистый Симеон. — Спасибо тебе большое, Лавр.
— Никогда не благодари, если не знаешь за что, — наставительно отозвался Хромой Лавр.
Он полемизировал сам с собой. Ведь какое-то время назад он тоже вздумал поблагодарить небеса за то, что ничего не пропало. Как же иногда человек бывает слеп! Сейчас Хромой Лавр многое бы отдал, чтобы забрали кассу, выручку, металлический ящик, желательно вместе со столом, и даже его любимый позолоченный «стечкин».
Мутно, непонятно, тревожно…
Единственное, в чём Хромой Лавр был уверен наверняка, — ему вовсе не следует отыскивать эту «стерву», чтобы лично содрать кожу живьём. И ему сильно повезёт, если она сама больше никогда не захочет его отыскать.
— Молчание — золото, — тихо, словно огораживаясь заклинанием от плохого глаза, пробормотал он. И Хромого Лавра даже не удивило, что его голос сейчас прозвучал заискивающе.
10
Когда, находясь на башне третьего шлюза, Юрий Новиков разглядывал в армейский бинокль парадный вход в «Лас-Вегас», он не обратил внимания на два экипажа велорикш, припаркованных на стоянке. Всё, что ему на самом деле было нужно, только что подвёз один из этих экипажей.
— Анна Петровна, голубушка моя любезная! — выскочил управляющий навстречу Рыжей Анне. — Совсем нас позабыли! — Протянув руки, управляющий помог ей выбраться из коляски. — Всё, небось, в делах да заботах, — продолжал тараторить он. — Коммерцию какую тянете, чтоб Сергей Петрович не выбился из сил…
— Ой, голубчик, не говорите, — отозвалась Рыжая Анна. — Рада вас видеть, Александр Палыч.
— Ох, а я-то как рад, восхитительнейшая вы наша! Вы, конечно, в курсе сегодняшнего бала?
— Как быть не в курсе, голубчик?
— Ну да, ну да. — Управляющий поморгал, так и не сообразив, кого только что похвалила добрейшая Анна Петровна — себя или тех, кто даёт такой грандиозный бал. — Так по делам к нам или?..
— Или — тоже. — Анна улыбнулась. — Мне мой номер. Закупки надо кое-какие сделать, и… — Она заговорщически подмигнула. — Знаете, голубчик, хочу провести вечерком пару часиков за зелёным сукном.
— Подёргать удачу за хвост? — Управляющий с пониманием кивнул.
— Точно, — рассмеялась Рыжая Анна.
— Всенепременнейше, солнце наше незакатное. Побаловать себя нужно — как без этого?
— И, голубчик, — она небрежно и одновременно изящно махнула на экипаж, направляясь к широко открытым парадным дверям «Лас-Вегаса», — позаботьтесь о багаже и моих помощниках. Определите их куда. Можно вместе, они родственники.
— Ой, даже не вздумайте беспокоиться о таких мелочах! — вскричал управляющий, делая знак носильщикам. — Любезная Анна Петровна… Бутылочку холодного сидра на террасу не изволите?
— Ещё как изволю! — заверила его Рыжая Анна, входя в просторный холл.
Управляющий сделал всё как надо. Быстро и чётко. Багаж Рыжей Анны перекочевал в её роскошные апартаменты. О её помощниках, пареньке и девице в плащах-накидках с надписью «Постоялый двор», тоже позаботились, определив их в крохотную комнатку с двумя кроватями.
«Пару часиков за зелёным сукном! — подумал управляющий. — Это значит, что восхитительная Анна Петровна будет гонять шарик рулетки как минимум до утра». Глядя на рекламные плащи-накидки на молодых людях, управляющий с уважением покивал: «Забавы забавами, а о коммерции голубушка любезная ни на минуту не забывает!»
Нравилась ему Рыжая Анна. Уже давно. Но если даже в её певческие времена не сумел к ней подступиться, то теперь и подавно не дотянешься. Только и осталось, что целовать ручки…
«А закупками они небось намерены заняться завтра», — подытожил он, бросив беглый взгляд на хозяйственные баулы, что выгружали помощники Анны Петровны. Управляющий слышал, что голубушка наша по доброте душевной пожалела брата с сестрой, сироток, и взяла их к себе в работники. То ли из Икши, то ли ещё откуда… Говорят, что девица лицом не вышла, вот и вынуждена, бедолажка, его прикрывать. Но коль родственники, так и нечего на них тратить немногочисленные свободные комнаты, пусть уж в каморке для прислуги переночуют. На самом деле, в отличие от восхитительной Анны Петровны её помощники управляющего не особо интересовали, и он не стал их разглядывать. Рыжая Анна всё верно рассчитала.
Сделав необходимые распоряжения, управляющий вернулся в свою конторку. Ну, разумеется, если появятся ещё гости такого масштаба, он непременно выйдет поприветствовать их лично. Хотя, конечно, второй Рыжей Анны уже не будет.
Управляющий с улыбкой уселся за своё бюро. День начинал складываться неплохо.
11
Рыжая Анна строго-настрого запретила Фёдору и Еве покидать их комнату. Ещё в своей лодке, едва расставшись с Хардовым, она дала им все необходимые указания. На яхромских причалах их ожидала пересадка в экипаж велорикши, и Рыжая Анна не хотела говорить в присутствии посторонних ушей.
В баулах, которые управляющий примет за хозяйственные, нашлось всё необходимое на предстоящий взаперти день: еда, питьё, средства гигиены. И кое-что ещё, чего любезный Сергей Петрович не смог бы себе даже вообразить: личное оружие Рыжей Анны.
— Выспитесь как следует, — велела она молодым людям. — Мы покинем «Лас-Вегас» ночью.
«В разгар веселья, — добавила она про себя. — Уйдём задними дворами. И как только окажемся за обводным каналом, ищи нас свищи».
Весь комплекс зданий и прилегающий парк с беседками окружили обводным каналом с подъёмными мостиками. Таким образом, «Лас-Вегас» располагался как бы на искусственном острове. Рыжая Анна считала эту дополнительную меру безопасности совершенно излишней. До линии тумана отсюда было более чем прилично; лишь с соседних холмов, из деревушек Степаново и Стрельцы вдали просматривалась его густая кромка. Однако обводной канал, превращавший «Лас-Вегас» в неприступный бастион веселья, призван был внушить состоятельным гостям, что о них-то позаботились отдельно, им-то здесь ничего не угрожает, иллюзию абсолютно полной безопасности. Иллюзию, потому что Рыжая Анна прекрасно помнит, как неожиданно в ночи, чуть выше третьего шлюза, почти напротив «Лас-Вегаса», светя багряным светом из окошек множества кают, появилось то, что на канале называли «Кая везд». Проклятый корабль. На его огромные гребные колёса по бокам падали зловещие всполохи; некоторые утверждали, что колёса крутились, но корабль никуда не двигался. И хотя древний корабль оказался всего лишь ночным видением, эти страшные слова — «Кая везд» — вызвали серьёзную обеспокоенность гидов и водной полиции. Было созвано экстренное совещание, но к утру мираж рассеялся. Такое в чистых окрестностях Дмитрова и Яхромы произошло впервые, но на канале многие вещи случались впервые.
Их своеобразный check out Рыжая Анна наметила на четверть пополуночи. В это время даже в самые благоприятные дни люди старались на улице не задерживаться. А веселье в «Лас-Вегасе» порой принимало такие экстравагантные, бурно-экзотические формы, что персоналу и так найдётся за кем приглядеть, помимо степенной дамы, играющей в зале для отдельных гостей, и двух её работников.
«Тем более этот сегодняшний бал-маскарад, — подумала Рыжая Анна, — бал летнего солнцестояния. Всё складывается довольно удачно…» Путь их ждал не короткий, но Рыжая Анна надеялась, что безопасный. Лодка Хардова должна принять Еву и Фёдора обратно на борт у второй линии застав, так что почти до самого Туриста придётся топать пешком. Да ещё в обход мест, где даже в благоприятные дни появляется туман.
— Идти нам долго, поэтому выспитесь, — снова повторила Рыжая Анна, навестив украдкой Еву и Фёдора. Обвела взглядом выделенную им крохотную комнатку для прислуги, ухмыльнулась. — Каморка, конечно, убогая, но всё же покомфортней будет, чем в лодке-то, правда? Отдыхайте, поспите, ночью вы мне нужны бодрые.
12
Но они не хотели спать. Они сидели каждый на своей кровати и болтали. Неожиданно выяснилось, что им есть о чём поговорить. И хоть они болтали о всякой ерунде, вспоминали милую родную Дубну, происшествия, любимые места, — даже выяснилось, что оба предпочитали для купания одну и ту же уединённую заводь на Волге, где рос старый ясень, но надо же такому случиться, ни разу не встретились, лишь потому, что Ева приходила туда по утрам, а Фёдор высвобождался от многочисленных забот только к вечеру, — слова лились легко и свободно, словно они были знакомы всю жизнь. А Фёдор думал, что никогда даже представить себе не мог, что Ева Щедрина, загадочная девушка из совсем другого, недоступного мира окажется такой… ну, нормальной. Интересной и…
Иногда в оживлённой беседе случались короткие паузы, и тогда их взгляды встречались. И каждый не понимал, что видел в глазах другого. Но они хотели бы, чтоб это продолжалось. Им хотелось вот так сидеть и разговаривать.
— Они нам навставляют, — заявила Ева. — За то, что не спали.
— Я уже привык получать от Хардова, — отозвался Фёдор. И даже вздохнул.
Оба прыснули и болтали дальше. А солнце незаметно двинулось к закату, а они незаметно подошли к тому моменту, когда впервые встретились в лодке.
— А я подумала: что за неотёсанный грубиян, — смеялась Ева.
— Но ты была вся такая важная, — напомнил Фёдор и засмеялся в ответ.
— Да никогда в жизни! — возразила Ева.
— Не, ну я-то про тебя много слышал, — признался Фёдор. — Про вас знает весь канал! Я тебя даже пару раз видел до этого…
— Правда?
— Да, — кивнул Фёдор. И простодушно добавил: — Только ты тогда мне совсем не понравилась.
— А сейчас? — Ева спохватилась слишком поздно и прикусила язык.
— Сейчас совсем другое дело. Я… в смысле… — Фёдор захлопал глазами, глядя на девушку.
— А-а. — Она смотрела на него прямо, но как-то немного испуганно.
— Ну, я хотел сказать… — Фёдор попытался исправить ситуацию, но добился лишь того, что начал краснеть.
Ева тоже засмущалась. И опустила глаза. Она не знала, что будет дальше. Она никогда ещё не была прежде так долго со сверстником один на один. Внезапно в комнатке стало очень тихо.
Они начали говорить почти одновременно.
— Я имел в виду…
— Я тоже имела в виду…
Сбились и смолкли. Уставились друг на друга. Смутились ещё больше. Потом засмеялись. И снова взглянули друг на друга.
В комнатке по-прежнему было очень тихо. И она больше не казалась такой убогой.
* * *
— Ева?
— Да?
— Я хотел сказать… — Фёдору пришлось побороть неожиданную сухость в горле, но он справился. — Мы ведь скоро должны будем уйти… обратно на канал.
— Наверное, — чуть слышно отозвалась Ева.
— Да. Сегодня ночью.
— Да… ночью.
— И вот… Я к тому, что такого спокойного вечера у нас, возможно, больше никогда не будет.
— Я не знаю, Фёдор.
— Чтоб огни, музыка, — с нежной мечтательностью произнёс юноша. — И как будто нет никакого тумана. И что мы… с тобой… Ты знаешь, это ведь первый наш такой вечер. И, наверное, последний.
Дыхание Евы замерло. От этих слов на сердце её стало тяжело и одновременно сердце забилось радостно; она не понимала, как такое возможно и что с этим делать.
— Ева?
— Я здесь…
— Я хотел бы тебя кое о чём попросить.
Ева подумала: «Если он захочет сейчас меня поцеловать, я, наверное, буду не против».
— Только я немножко стесняюсь, — сказал Фёдор.
«И я тоже», — испуганная мысль промелькнула в голове у девушки и тут же растаяла, потому что она услышала своё собственное, тихое, почти шёпотом:
— Ну, что ж…
— Я хочу пригласить тебя на танец, — сказал Фёдор.
— ?..
— Ева Щедрина, я хотел бы с тобой потанцевать, если ты не против.
— Потанцевать? — Она перевела дух. — Ну, да, конечно. Конечно!
— Только… — Фёдор опустил глаза в пол, снова заливаясь краской, и промолвил: — Я не очень-то умею.
* * *
— Нет, эту руку на талию, а этой ведёшь, — через несколько минут поучала Ева.
— За талию?.. Прямо вот здесь… взять?! — сконфуженно лепетал Фёдор.
— Не укусит! Ладно, хорошо, давай наоборот. Вести пока буду я.
— А?.. Ой, прости. Я наступил тебе на ногу.
— Ничего, сбился просто. Слушай ритм. И снова считай. Про себя… М-м, нужна музыка.
— Конечно, нужна! А?.. Прости.
— Ничего.
* * *
Думал ли в этот момент Фёдор о Веронике, неизвестно. Скорее всего, нет. Скорее всего, он позволил себе на короткое время высвободиться из плена навязчивых надуманных обязательств. И может, он был привязан к ним ещё сильней лишь потому, что форма, в которой его отвергли, оказалась настолько незатейливо прямой, почти грубой, что Фёдор не позволял себе воспринимать её ничем, кроме глупого недоразумения. И он по-прежнему хранил на шнурке ключ, не снимая его с груди.
Так или иначе, но экипаж велорикши, который подвозил Веронику с её кавалером, уже подкатил к парадному подъезду «Лас-Вегаса». Кавалер был обучен манерам, хоть и выглядел несколько долговязым, и с определённой долей галантности помог девушке покинуть повозку. Был объявлен бал-маскарад, но Вероника настояла на том, чтобы они не прятали лиц. Пусть все видят, с кем она сегодня. Да, пересуды подтвердились, её кавалер — один из самых завидных женихов Дмитрова, старший сын и наследник купеческой фамилии Бузиных.
Честно говоря, о Фёдоре за истекший срок она почти не вспоминала. Его замочек, давно уже забытый, пылился на полке в далёкой Дубне. И только из суеверия девушка всё ещё не избавилась от него. Вероника крепко держала за хвост свою удачу. Точнее, в данный момент, широко всем улыбаясь, она держала её под руку.
И вот на лужайке перед «Лас-Вегасом» заиграла музыка. Начался съезд гостей. Управляющий стоял в тени открытых парадных дверей и с благосклонной улыбкой наблюдал за публикой. Вот холл за его спиной пересекла Рыжая Анна. Управляющий видел это — несравненная Анна Петровна, скорее всего, покинула террасу, откуда любовалась закатом, и направилась в свои комнаты переодеться к вечеру. До открытия главного бала-маскарада, посвящённого летнему солнцестоянию, оставалось чуть больше получаса.
В нескольких метрах от управляющего, в крохотной каморке двое молодых людей разучивали первый в их жизни совместный танец.
— Музыку заказывали? — великодушно поинтересовался Фёдор. И хихикнул. — Прошу вас…
— О, вы очень любезны! Спасибо вам большое…
— Красиво играют.
— Да… Постой, здесь счёт другой. Слушай. Давай я тебе покажу. И движения… Это танго.
* * *
— У тебя получается, — смеялась Ева, — всё лучше и лучше! Ты что, издевался надо мной?
— В смысле?
— Да ты просто великолепный танцор! Ты посмеялся надо мной? Да?!
— Нет, мне просто повезло с учителем. Очень повезло.
— Постой… И ещё раз. Во-о-от так!
— Получается!
— Неплохо.
— И-и, прошу вас…
— О-о…
— А вот так?!
— Ой, у меня сейчас закружится голова! Что ты делаешь?! Да, и… Вот.
Музыка смолкла. Они остановились, разгорячённые, напротив друг друга, держась за руки. Улыбнулись. И внезапно поцеловались.
— Ты… зачем это? — Ева тут же отстранилась от Фёдора.
— Прости.
Сердце девушки бешено колотилось, но она смотрела в пол, чувствуя, что её щёки пылают.
— Ты… ты… — Ева выдохнула. — Просто поблагодарил меня за танец, да? Так же?!
— Да, — тут же согласился Фёдор. — Так.
— Хорошо, — Ева кивнула, всё ещё не поднимая головы. — Но… больше никогда такого не делай.
«Господи, какая я дура! — подумала она. — Я ведь хотела сказать совсем другое».
— Хорошо… Прости. Не буду.
Ева подняла глаза, слегка покусывая губу. И пристально посмотрела на Фёдора.
— Не делай без спроса, — сказала она.
13
Рыжая Анна вовсе не наслаждалась видом заката на террасе. Она прошлась по лабиринту из живой изгороди и убедилась, что тот не изменился, невзирая на все слухи, которые — Анна подозревала — хозяева распускали сами, чтобы пощекотать нервы клиентам. Но она по-прежнему сможет пройти лабиринт с закрытыми глазами, что весьма пригодится ночью. Лабиринт начинался у заднего двора «Лас-Вегаса», а своей южной оконечностью практически упирался в обводной канал — до ближайшего подъёмного мостика там было рукой подать. Они смогут уйти незамеченными.
Затем Рыжая Анна вернулась в свои комнаты и действительно переоделась к вечеру.
— Зелёное сукно, — усмехнулась она.
Проверила дмитровские ассигнации. Пора спускаться в бар. Видимо, придётся показаться во всех залах, даже в танцевальном, на случай, если кто спросит, пусть думают, что она где-то по соседству. Да ещё изрядно выпить, точнее, сделать вид, чтобы угодливый управляющий не хватился беспокоиться о ней раньше обеда. А то и ужина. В лабиринте Рыжая Анна оставила небольшой тайник, где спрятала свой камуфляж и оружие, оставив себе лишь небольшой никелированный револьвер. Там она намеревалась переодеться и потом, если всё сложится хорошо, так же незаметно вернуться в «Лас-Вегас». В её планы вовсе не входило разбить сердце мужу, добрейшему Сергею Петровичу.
Если всё сложится хорошо.
Рыжая Анна открыла свою миниатюрную, дорогой выделки дамскую сумочку. Кроме ассигнаций стоило положить туда несколько футлярчиков с благовониями. Сергей Петрович, помимо того что держал «Постоялый двор», весьма успешно торговал в Дмитрове «изящными запахами». И всегда найдётся какая-нибудь светская болтушка, которая захочет это обсудить, а может, и попробовать чего-нибудь новенького. И весёлая Анна Петровна всегда с пониманием отнесётся к дамским тайнам. Это милое женское щебетание…
А потом её рука застыла в воздухе. И она забыла о благовониях. Рыжая Анна задумчиво смотрела на то, что уже лежало в её сумочке. И… ей показалось…
— Зачем ты доверяешь мне такую ценность? — спросила она сегодня утром у Хардова.
— Знаю, что передаю в надёжные руки.
— Я не об этом, — отмахнулась Анна. И настойчиво повторила: — Почему?
— Мне кажется, так надо.
— Но… ещё рано. Не всё совпало. Ведь так?
— Вроде бы.
— Я слышала, что… скремлина Учителя так и не нашли. Даже не нашли останков и места захоронения. А… другого он себе не выбрал.
— К сожалению, это так.
— И потом, Тёмные шлюзы… Ещё рано. Тихон говорил…
— Поверь мне, Анна, ни Тихон, ни я не сможем тебе сказать, сколько всего должно совпасть в этот раз. Мы этого не знаем! Вот в чём вся загвоздка.
— Понимаю.
— Держи. — Хардов взял её за руку и вложил в её ладонь то, что намеревался передать. И Рыжая Анна сначала вздрогнула, а потом улыбнулась.
— Хардов…
— Да, я знаю. Возьми, лучше, если это будет рядом.
…Рыжая Анна задумчиво смотрела на то, что хранилось в её сумочке, пытаясь понять, что сейчас увидела. Или… ей померещилось.
(сколько всего должно совпасть)
Ей вдруг остро захотелось коснуться этого предмета. Даже погладить его, но… почему-то это показалось ей кощунственным. Хотя Хардов им пользовался.
Она всё же решилась и дотронулась до костяной поверхности бумеранга. Потом палец её скользнул к латунной трубке. И Рыжая Анна снова улыбнулась. Потому что почувствовала, как и сегодня утром, умиротворяющее тепло. Словно это было живым. Словно она почувствовала заключённую в нём пробуждающуюся силу.
Хардов этим пользовался. А прежде он хранился у Тихона. Это был манок Учителя.
Ощущение глубочайшей, но простой, словно она всегда была на поверхности, и радостной тайны накатило на неё.
— Ведь это всегда лежало перед глазами, — восторженно прошептала она.
Наверное, Рыжая Анна не до конца знала, о чём говорит. А возможно, этого нельзя было выразить словами. Но она снова коснулась манка Учителя. Улыбнулась. Вздохнула… И поняла, на что это похоже. Когда-то у неё был скремлин, маленький, ласковый и очень отважный светло-бурый хорёк, который сейчас жил свободным. Тихон учил её «услышать» сердце своего скремлина. И когда это случилось впервые, она пережила нечто подобное…
Не без некоторого усилия Рыжая Анна заставила себя отвернуться к окну. Солнце уже село. Она сложила несколько футлярчиков с новыми благовониями в соседнее отделение и закрыла сумочку.
Пора. Впереди было много дел.
14
— Ты можешь снова пригласить меня на танец, — произнесла Ева.
— Я? Танец? Ева…
— Ничего не говори. Просто пригласи.
* * *
— Ева…
— Постой. — Нужно было говорить о чём-то другом, и Еве это удалось. — Хардов велел отдать ей моё платье, этой бедной девочке…
— Да. Но им ничего не угрожает… С ними же Хардов.
— Хорошо. Но… у меня есть ещё одно. Старомодное. Мамино… Я взяла его с собой.
— Понимаю…
— Не понимаешь! Я не хочу танцевать в штанах и в хардовской куртке, Фёдор. Вот о чём я.
— А-а…
— Выйдешь ненадолго? Мне нужно переодеться.
* * *
— Какая ты красивая! — десять минут спустя восхищённо выдохнул Фёдор.
— Вот. — Ева несколько смущённо провела руками по своему наряду. — Оно немного старомодное… Но я его очень люблю.
— Оно тебе очень-очень идёт.
— Спасибо.
— Ева, я… Я придумал кое-что.
— Что, Фёдор?
— Я приглашаю тебя на бал.
— Что?
— Я хочу пригласить тебя на бал!
— Ты… Зачем так шутить?
— Я не шучу. Там, — Фёдор махнул на дверь, за пределы их комнатки, — бал-маскарад летнего солнцестояния.
— Знаю… Конечно же, лучший бал лета! Я была один раз. Но нам нельзя, Фёдор.
— Нам можно. Я не хочу, чтобы сегодня так… Прятаться взаперти.
— Мы беглецы, Фёдор. Увы… Я-то точно. Нельзя.
— Конечно, можно, — с бодрой настойчивостью гнул своё Фёдор. — Ты кое-что забыла. Это бал-маскарад.
Ева молчала, поэтому Фёдор весомо повторил:
— Бал-маскарад. Понимаешь? Мы можем не открывать лиц.
— Ты… Да. Но… Х-м-м…
— Один танец.
— Фёдор, но она… Анна…
— Она ничего не узнает. И никто ничего не узнает. Только ты и я.
— Фёдор, ты… Не искушай меня, потому что я соглашусь.
— Так и соглашайся! Помнишь старую сказку о гиде и Прекрасной незнакомке, которые ушли в туман?
— Фёдор! Эту сказку знают все.
— У тебя осталась её шляпа с вуалью. Незнакомка. Дай мне куртку Хардова, на лицо повяжу косынку.
— Грабитель…
— Гид! У нас в гимназии был театр… любительский. Я всё предусмотрел.
— Но…
— Мы должны пойти! — с вызовом произнёс юноша, но в глазах его застыла почти мольба. — Неужели ты не хочешь? Мы потом очень пожалеем.
«Когда потом?» — с горечью подумала она. Но в следующее мгновение почувствовала что-то ещё. Неожиданно что-то проступило сквозь горечь, наполнившую её сердце, сильное и радостное. И на одно короткое мгновение она почувствовала себя счастливой.
«Глупый. — Ева с нежностью смотрела на Фёдора. — Я хочу танцевать с тобой. Здесь. Или на балу. И везде… И по-моему, я хочу гораздо более пугающих вещей… И очень боюсь. Поэтому, если уж решил, приглашай меня немедленно!»
— Ева…
А потом она чуть присела, наметив реверанс, как её учили, пока ещё матушка была жива, и серьёзно сказала:
— Фёдор, я пойду с тобой на бал.
— Отлично! — обрадовался юноша. — Один танец, и уходим.
«Именно потому, что мы уходим», — подумала Ева.
15
Рыжая Анна с улыбкой пододвинула к себе выигрыш. Она уже посетила бар, курительную комнату, даже бальный зал и решила задержаться в казино.
— Люблю «зеро», — подмигнула она крупье. — Число, обозначающее полное отсутствие. Знаете, голубчик, слышала, у гидов есть притча, как уложить пулю в цель. Так вот: высшее мастерство заключается в том, чтобы не целиться.
— Как скажете, мадам, — вежливо отозвался крупье. Похоже, любимица управляющего намеревалась сорвать банк.
Рыжая Анна посмотрела на стоящую перед ней горку выпиленных из дерева разноцветных фишек. На них же глазками, масляными от возбуждения, смотрел человек, играющий с противоположной стороны стола. Рыжая Анна знала, кто это. В каком-то смысле хорошо, что он здесь. Под контролем… Ему не везло; он, не подавая виду, нервничал, что делало его уязвимым и увеличивало контроль. К тому же Анна подумала, что он не до конца ещё избавился какой-то хвори.
— Голубчик, а не сыграть ли нам ва-банк? — обратилась к крупье Рыжая Анна, двигая на поле «зеро» весь свой выигрыш.
— Мадам, — замялся тот, — я вынужден проконсультироваться. Такая высокая…
Ему кивнули.
— Конечно, мадам.
Ставка Рыжей Анна была принята.
Шарик долго прыгал по кругу, пока не попал в «32». Дыхание людей над столом рулетки замерло. Перед самой остановкой круга шарику хватило импульса, чтобы перевалить через соседний бортик и угнездиться в «О». Над столом восхищённые и завистливые вздохи вылились в один звук.
— Зеро, — хриплым от волнения голосом объявил крупье. — Мадам… Очень вас поздравляю! Такого я никогда не видел.
Рыжая Анна опять выиграла.
«Пора угощать всех собравшихся самой дорогой выпивкой», — подумала она.
16
— Кто эта молодая пара? — обратился управляющий к дежурному полицейскому.
— Гид и Прекрасная незнакомка, — ухмыльнулся тот.
— Любезный, — нахмурился управляющий, — я задал свой вопрос вовсе не к тому, чтобы ты умничал.
— Простите, — сконфузился полицейский. — Я думал, вы про их маскарадный костюм.
— Это я и сам вижу… Когда они приехали?
Дежурный полицейский хоть и знал о привилегированном положении управляющего, всё же за собой никакой вины не чувствовал.
— Гости в таких костюмах не приезжали, — сухо доложил он. — Видимо, переоделись в комнатах. Многие так делают, прежде чем спуститься в бальный зал.
— Ну да, конечно…
В принципе, он был прав. Управляющий и сам не знал, чего он вскинулся. Пара симпатичная и абсолютно расслабленная. Красное платье очень идёт девушке. Лица скрыты, как в классической сказке, на то и бал-маскарад. Здесь собрались все сливки общества, но они не чувствуют никакого стеснения, скорее наоборот, полностью увлечены друг другом. И… что?
Управляющий нахмурился и пожал плечами.
— Где Трофим? — спросил он.
— В казино. — Дежурный полицейский снова позволил себе усмехнуться. — Где ж ему быть…
— Хорошо, голубчик. — Управляющий решил проявить снисходительность. — Следи за всем повнимательней.
17
…Они танцевали. И плывущие вокруг огоньки, и другие пары перестали существовать. Остались только музыка и их сердцебиение в такт вальсу. Он кружил её, и они становились почти невесомыми. Потом и музыка исчезла. Оставались только они вдвоём, невесомые, кружащиеся… Они касались друг друга. Руками, взглядами, сердцами. И в эту тёмную, безжалостную неопределённость, куда совсем скоро им суждено пойти, они унесут это мгновение танца.
…Ева открыла глаза. Собственно, зажмурилась она и замечталась всего на миг. Они стояли среди совершенно чужих людей. На балу был объявлен антракт, когда они пришли, и как бы хорошо выпить по порции прохладного сидра, но им нельзя было открывать лиц.
Несколько минут назад, пока они спускались по лестнице, Фёдор вогнал её в краску, смутил, и в то же время его слова, простые и как будто бы неуклюжие, оказывается, стали самыми волнующими, что она слышала в жизни.
— Ева, а этот твой жених, с которым ты помолвлена?.. Ну, куда ты едешь… Он, ну… Ты его…
— Прошу тебя, не надо, Фёдор.
— Прости…
Вот и всё. Только Ева мечтала об их танце на балу. Возможно, единственном, который у них будет. И эти простые неуклюжие слова всё ещё звучали в ней. А потом она посмотрела на Фёдора: с ним происходило что-то странное.
* * *
А Фёдор увидел Веронику.
Его сердце по привычке на какое-то время забилось сильнее, но… Он так долго ждал их встречи, мечтал, грезил, не раз пережил этот момент во всех подробностях. Вот он возвращается после своего первого рейса. И он теперь совсем другой. Бывалый, скупой на слова, с лицом обветренным и блестящими глазами (как у бати, только без его усталости. Как у Кальяна. Или… Хардова?) и чуть загадочной улыбкой. И Вероника видит это. Многие девушки, вздыхая, провожают его взглядами. Но он подходит только к ней. Состоятельный завидный жених, как и обещал. Их взгляды встречаются, и всё, что она ему наговорила, действительно оказывается недоразумением…
Фёдор похлопал по ключу, что носил на груди, и улыбнулся. И посмотрел на Еву.
Вероника была в обществе этого долговязого купеческого сынка. На миг сухая ревность жгуче кольнула его в сердце: Матвей Кальян говорил правду, она действительно с ним «закрутила». И он действительно «бестолковый нищий мальчишка»…
Смешно. И как-то… Фёдор вздохнул. Она ему улыбалась, своему долговязому избраннику, и… Фёдор не понял, что сейчас увидел. Она взяла его под руку, как-то непривычно громко смеясь, и, покинув одну компанию, парочка направилась к другой.
Наверное, сам того не сознавая, Фёдор принялся бойко рассказывать Еве какую-то нелепицу. И прервал себя на полуслове. «У неё мой замочек, — мелькнула горькая мысль. — Совсем маленький и недорогой, но я так долго выбирал его.
И вот этот её смех…»
— Что-то случилось? — спросила Ева.
— Нет, — ответил Фёдор.
«Не знаю», — подумал он.
Наверное, он действительно этого не знал. Такое с ним происходило впервые. Всё смешалось: смятение, обида, горечь, разочарование и… почему-то чувство вины. Но и что-то ещё, отчего острая боль, родившаяся в его уязвлённом сердце, как-то странно притупилась и… Она ещё была, разливающаяся ядом обида осталась, но…
Вероника с Бузиным изменили направление. Они шли сюда. Фёдор замер. На какое-то время их с Вероникой взгляды встретились. И опять это предательское сердцебиение… Вероника нахмурилась. Возможно, что-то в облике Гида в шляпе и косынке, повязанной над самые глаза, и могло показаться ей знакомым, но потом девушка слегка тряхнула головой, и её взгляд, оценочно задержавшись на прекрасном Евином платье, заскользил дальше. Парочка прошла мимо. Фёдор сглотнул сухой ком в горле. Вероника вдруг обернулась. И, тряхнув головой ещё сильнее, уже громко рассмеялась, реагируя на какое-то замечание своего кавалера. А Фёдор услышал голос Евы.
— Это твоя девушка? — спросила она. Ей-то его глаза были прекрасно видны.
— Нет… Да.
— Та самая невеста, о которой ты говорил? — Ева не позволила себе колючей интонации, если только совсем чуть-чуть и вовсе непроизвольно. — Понимаю.
— Ничего ты не понимаешь!
— Мне очень жаль, Фёдор, — искренне сказала она. — Давай уйдём.
— Отчего же?
— Послушай, нам лучше вернуться.
— Нет.
— Как хочешь. Я возвращаюсь.
— А зачем? Мы же пришли танцевать! Давай веселиться.
— Не будь глупым, Фёдор.
— Куда уж дальше! — нехорошо усмехнулся Фёдор, словно эта капелька яда по-прежнему попадала ему на язык.
— Мне… правда очень жаль.
Ева обернулась и направилась прочь из танцевального зала. «Ну и иди!» — всё ещё ядовито подумал Фёдор. Он ощутил что-то странное, словно и Ева была… как-то виновата во всём этом. Но потом будто спохватился. Он смотрел, как она уходит, и… не знал, что чувствует.
— Ева, постой, — позвал он.
Но она его уже не услышала.
18
Управляющий стоял на верхней ступеньке парадной лестницы и чинно улыбался. Маскарад был в самом разгаре. Вот мимо прошла Прекрасная незнакомка и направилась в дальние коридоры.
«О, уже поссорились?.. Очень интересное платье…» — Он задумчиво посмотрел Еве вслед. Затем нахмурился. Он провожал девушку взглядом, и в какой-то момент его зрачки чуть сузились.
19
Рыжая Анна оказалась права. Действительно, нашлась знакомая-приятельница, «светская болтушка», пожелавшая разузнать про новые запахи. Анна как раз открыла сумочку, чтобы извлечь флакончик с благовониями. Стояли самые длинные дни, но уже стемнело, и скоро им предстояло покинуть «Лас-Вегас».
И тогда она это увидела.
Лицо Рыжей Анны застыло. Она не могла поверить своим глазам. Приятельница продолжала что-то тараторить, только все внешние звуки для Рыжей Анны куда-то уплыли.
— Но этого не может быть, — чуть слышно обронила она.
И резко захлопнула сумочку, чем повергла знакомую-приятельницу в полное недоумение.
— Прости, дорогая, мне надо кое-что сделать.
Не объясняясь более, Рыжая Анна поспешила в комнату для прислуги, каморку, где её должны были дожидаться Ева и Фёдор.
Этого не могло быть. Ещё слишком рано. Но вокруг манка Учителя действительно плясали голубоватые искорки, — ей не показалось! — лёгкое свечение, которое становилось всё интенсивней.
20
— Я должен вернуть ей ключ, — изумлённо пробормотал Фёдор.
— А ты забавный. Значит, Гид? И куда же девалась Прекрасная незнакомка? — раздался низкий грудной смех, хоть голос и бы женским. — Ушла в туман?
Уже некоторое время к Фёдору старалась приклеиться какая-то девица. Это она так странно смеялась. Фёдор не понимал, о чём она ему рассказывала, да он её и не особо слушал.
Дали музыку, перерыв давно закончился, и Фёдор снова посмотрел на оставленный Вероникой столик на четыре персоны — вся компания отправилась танцевать.
«Я должен вернуть ей ключ! — отпечаталась в его сознании уже совершенно чёткая мысль. — Прямо сейчас и незаметно. Просто вернуть, и всё! Навсегда!»
Именно в тот момент, когда Ева ушла, Фёдор всё понял. Он стянул ключ со шнурком с шеи и сжал его в ладони.
— Ева, — прошептал он.
Потом раскрыл ладонь и удивлённо похлопал глазами. Ключ больше не казался ему… наполненным особенным смыслом. И та, ради которой он забрался так далеко от дома… Она отправилась танцевать со своим женихом, с тем, кого выбрала, только всё это совершенно не важно. И этот её смех. Фёдор посмотрел на лестницу, по которой ушла Ева, и тогда всё понял. Он вдруг понял, что полностью свободен от Вероники. Это оказалось настолько неожиданным и новым, что Фёдор ощутил внутри себя какую-то пустоту. И пустота эта немедленно начала наполняться ликующей радостью, от которой у Фёдора почему-то защемило сердце.
— Ева, — шёпотом повторил он. Отошёл к стойке, не зная, что ему делать.
«Я влюбился», — со странной грустью подумал Фёдор. И снова счастливо улыбнулся. Вкус недавнего поцелуя ещё оставался на его губах.
«Ева, я обидел тебя. Но я сейчас постараюсь что-то исправить. И это ничего, что ты едешь к своему жениху, я…»
Он принял решение. И словно тяжкий груз свалился с его сердца.
Совсем скоро, проскользнув тёмной тенью, Фёдор отошёл от столика Вероники. На спинке её стула остался висеть шнурок с ключом, на одной стороне которого было выбито имя «Фёдор», а на другой — «Вероника».
21
«Это ничего не значит. Так вышло: поцеловались и… Или значит?»
Ева пристальней посмотрела на дверь: «Надо рассказать ему правду».
Она сделала шаг и остановилась.
«Я не могу рассказать ему правды».
Она опустила руки, но затем резко взмахнула ими. «Не могу! Не всю… а хотя бы половину. Я должна! Я сейчас вернусь и скажу…»
Ева вышла в коридор и направилась к бальному залу. Она попросит Фёдора не расспрашивать её ни о чём. Она сама расскажет, что сможет. И прежде всего о том, что сердце её свободно. И про этого жениха.
Сердце её свободно. Было. До их поцелуя в убогой каморке, которая теперь казалась самым прекрасным местом на свете.
22
Рыжая Анна разминулась с Евой всего на несколько минут, потому что воспользовалась тёмной лестницей, о существовании которой девушка не знала. Она постучала в дверь, подёргала ручку.
— Чёрт…
Она постучала настойчивей. И ещё подёргала за ручку. Тишина.
— Чёрт… Глупцы. Чёртовы глупцы!
А потом увидела, что внизу, в бальном зале сменилось освещение. И увидела Трофима, с которым совсем недавно играла на одном столе в рулетку. Тогда он мрачно наблюдал за её крупными победными ставками, и по пунцовому румянцу его щёк она сделала вывод, что Трофим нездоров и лучше бы ему вернуться в постель. Сейчас он бежал, извлекая оружие из кобуры, и глаза его возбуждённо горели.
— Весь резерв! — кричал он на ходу дежурному полицейскому. — Весь! Всех сюда немедленно!
Рыжая Анна сделала несколько шагов за Трофимом, и догадка окончательно подтвердилась. Ей не надо было открывать сумочку, чтобы убедиться, что манок Учителя сияет сейчас, как драгоценный камень.
«О Боже», — пронеслось в голове у Рыжей Анны, и ей с трудом удалось подавить свой собственный стон. Если б она было простой женщиной, для многих степенной бюргерской женой, а кое для кого «восхитительной Анной Петровной», она бы по инерции устремилась сейчас за Трофимом. Но она была гидом. Поэтому Рыжая Анна спокойно извлекла шпильку из волос, согнула её и вскрыла замок в комнатку прислуги. Вошла внутрь, даже не пытаясь включить свет.
Оба баула стояли здесь, в темноте. Её оружие — хвала небесам за маленькие радости! — оказалось на месте. Большего ей было не надо. Спрятав его в сумочку, Рыжая Анна покинула комнатку и направилась к бальному залу. Из него уже с паническими криками разбегались какие-то дамочки, да и мужчины из тех, что предпочитали держаться подальше от неприятностей. Рыжая Анна быстро шла им навстречу. Она была сосредоточена, холодна и полна решимости.
23
Платье. Красный шёлк.
Управляющий вдруг понял, что не давало ему покоя. В голове его крутились какие-то ребусы, несостыковки, свербило что-то назойливое, и вот всё начало выстраиваться в стройную картину.
Красный шёлк. Он его уже видел. Только это было давно.
— Знакомое платье, — пробормотал управляющий, глядя вслед Прекрасной незнакомке.
Только это было давно.
Платье. Шёлк. Сейчас такого не достать. Как и настоящее виноградное вино, настоящий кофе и многое другое в дефицитном мире канала, шёлк являлся почти недоступной роскошью. По крайней мере, такие вещи, оставшиеся от великих старых времён, были наперечёт. Хотя дмитровские купчишки из тех лихих, что рисковали снаряжать караваны за Тёмные шлюзы, бывало привозили… артефакты. И вино, и кофе, и ткани, и кое-что ещё. Кое-что, связанное, например, с электричеством и даже… с оружием. Если фортуна позволяла проскочить туда и обратно за благоприятные дни.
Поговаривали, что где-то за зловещими Пустыми землями, чуть ли не у самой призрачной Москвы остались брошенными огромные склады, хранившие несметные сокровища. Артефакты канувшего мира. Склады вроде бы контролировало Пироговское речное братство. Но вопросы эти — и про братство, и про склады — оставались тёмными и опасными; к тому же подобных драгоценных дефицитов в последнее время на канал поступало всё меньше.
Управляющий потёр переносицу. У кого-то к удаче начинала чесаться правая рука, а у него вот место, где сходились его кустистые брови.
Знаменитого на весь канал профессора Щедрина управляющий, конечно, хорошо знал. Как и его покойную супругу, красавицу Настасью Филипповну. Добрые были люди, хоть немного и не от мира сего. А ещё, помимо высокой компетенции в делах хозяйственных, управляющий обладал профессионально цепким взглядом — качества, незаменимые при его работе.
— А что, вполне возможно, — задумчиво произнёс он.
Пока красавица Настасья Филипповна была жива, Щедрины, бывало, наведывались в «Лас-Вегас». Не часто, но такое случалось. Положение обязывало. Даже как-то со своей очаровательной малолетней дочуркой Евой. И вот это старомодное платье красного шёлка, как по нему вздыхала сестра управляющего, так и оставшаяся ходить в старых девах…
— Очень знакомое платье. — Управляющий теперь кивнул. Он давно был вхож в дом главы полиции. И был в курсе… некоторых тайн. В числе прочего знал, что от его недотёпы и недоросля сынка (порядком поднадоевшего управляющему своими выходками в «Лас-Вегасе») сбежала невеста. Помнится, как за бокальчиком настоящего виноградного вина они с Новиковым посмеивались над этим. Правда, потом девчонку вроде бы начали искать. Еву Щедрину.
Управляющий снова почесал переносицу.
Старик Щедрин никогда бы не согласился продать платье любимой супруги. Ни за какие деньги. И хоть в последнее время он жил почти затворником, не покидая Дубны, всё же вынужден был в прошлом году вывести свою повзрослевшую дочь в свет. Именно в такой же бал летнего солнцестояния. Правда, тогда она была в белом. Там-то, на балу, главе полиции и пришла в голову мысль о политическом браке…
Переносица чесалась, прямо-таки не давала покоя.
Платье красного шёлка… Подобные «настоящие» вещи, а не сшитые из местных материалов в мастерских Дмитрова или даже модной Дубны, в дефицитном мире канала были наперечёт. И если попытаться представить повзрослевшую Еву в платье Настасьи Филипповны…
И всё встало на свои места.
— Вот оно как, — сладко промурлыкал управляющий.
Возможно, всё это и не так важно. Ну, подумаешь, сбежала невеста… Ведь смеялись же они с Новиковым. Честно говоря, управляющий даже понимал девчонку: любая воспитанная барышня на месте Евы дала бы дёру от хама и недоросля. Надо же, у такого отца… Правильно говорят люди: природа на детях отдыхает. Однако оказать небольшую дружескую услугу главе полиции никогда не лишнее. А там пусть сами разбираются…
Через минуту управляющий был уже в казино. Где с вежливой улыбкой склонился над Трофимом, чтобы шепнуть ему на ухо пару слов.
24
Фёдор видел, как Ева появилась наверху парадной лестницы. Он радостно заулыбался.
— Ева, ты вернулась, — счастливо прошептал Фёдор. И даже успел сделать шаг в направлении к девушке, когда пространство бального зала стало куда-то уплывать. И на его плечи накатила знакомая вибрирующая волна, опять принесшая с собой ощущение, похожее на дежавю. Только на сей раз он услышал голос, который ни с чем невозможно было спутать. Глубокий, полнозвучный и нежный женский голос, но сейчас в нём прозвучала тревога:
— Будь осторожен, Тео.
Фёдор вздрогнул. Помотал головой. Привычные очертания пространства уже возвращались. Он оглянулся по сторонам.
— Сестра? — удивлённо произнёс он.
— Хочешь, зови меня так, — ухмыльнулась приклеившаяся к нему девица с грудным смехом.
И тогда в бальном зале начал гаснуть свет, и ведущий на сцене возвестил:
— Кая везд!
25
Реакция Трофима поразила управляющего. Он даже выказал не интерес к его словам — он подскочил как ошпаренный. Словно речь шла не о сбежавшей девчонке, а о государственном преступнике. Ох уж это желание выслужиться…
— С чего вы взяли? — ошарашенно вопросил Трофим.
Управляющий пояснил.
* * *
Трофим отказывался верить своим ушам. Весь полицейский департамент уже был в курсе и тихонько посмеивался на тем, как сегодня днём у шлюза № 3 опростоволосился Юрий Новиков. И вот теперь удача сама плывёт к нему в руки. Трофим слушал управляющего и чувствовал, как с каждым словом на него накатывают тёплые волны ликования.
* * *
— Так, без лишнего шума, — позвал Трофим дежуривших тут полицейских. — Берите парня в костюме Гида. На лицо повязана косынка. Девушка в красном платье. Прекрасная незнакомка. Сказку все помните? Оба могут быть опасны. И мне нужен резерв. Мне здесь нужны все!
Управляющий удивлённо вскинул брови. Он, конечно, не связал Гида и Незнакомку с работниками восхитительной Анны Петровны, однако служебное рвение Трофима…
— Любезный, — нахмурился управляющий, — вы мне не распугаете всех моих гостей?
— Отец, дальше работаем мы! — отрезал Трофим. В его масляном взгляде горело что-то недоброе, какое-то странное нетерпение. — Государственное дело.
— Сынок, — сухо возразил управляющий. — Тебе напомнить, насколько государственным делом является «Лас-Вегас»?
Трофим какое-то время повращал глазами, видимо, прикидывая, чьё влияние на Новикова больше, и произнёс ровным голосом:
— Полиция благодарна вам за содействие.
Управляющий кивнул. Он уже начал жалеть, что ввязался во всё это, — Щедрины-то ему, скорее, нравились. Переносица давно перестала чесаться. И этот неприятный победно-алчный блеск в глазах Трофима… Управляющий не мог отделаться от ощущения, что он только что собственными руками разворошил клубок змей.
26
Когда погас свет, по всему залу поплыло множество бледных, размазанных, словно болотных огоньков. И в звуках, которые извлекали музыканты, присутствовало что-то гибельное, какое-то пугающе-бравурное приветствие Тьмы — Ева не понимала, как такое может нравиться.
— Кая везд! — зычно объявил ведущий. — Настал момент, ради которого мы все здесь собрались. Совсем скоро вам не помогут маски — никому из вас! А сейчас — встречайте: проклятый корабль привёз их из запредельных глубин тумана, из мглистого мрака, где царит Смерть!
Под куполом бального зала, где только что погасла роскошная огромная люстра с гирляндами стеклянных цветов, в перекрестье пары слабых софитов («Не то что мощные прожекторы у памятника Ленину в Дубне», — подумала Ева) появились четыре гроба, спускаемые на звенящих металлических цепях. Вот явно бутафорские крышки легко сдвинулись и полетели вниз, на сцену, а в открывшихся гробах начали вставать какие-то странные создания в чёрных плащах, чёрных же сюртуках и белых накрахмаленных сорочках. Ева даже не сразу определила, мужчины это или женщины. На их лица был наложен толстый слой грима, а вокруг глаз обведены огромные синяки. В бледном освещении они были похожи то ли на восставших мертвецов, то ли на какую-то нежить.
«Бледные мутанты», — пронеслось вокруг.
«Бледные мутанты… Ох, я их обожаю!»
«Говорят, они и вправду вампиры».
— Дамы и господа, встречайте! — восторженно вопил ведущий. — Посланцы и предвестники тумана «Бледные мутанты»!
Весь бальный зал взорвался шквалом аплодисментов.
Ева попыталась сойти на ступеньку вниз и тут обнаружила, что в темноте её держат чьи-то крепкие руки.
— Незнакомка, открой своё имя, — шепнули ей на ухо.
— Пустите. — Ева мягко попыталась вырваться.
— Ну что ты, что ты, довольно уже бегать.
Голос был проникновенным и даже вроде бы дружелюбным, но почему-то в его понимающих нотках угадывалась какая-то беспощадность. Ева дёрнула плечом настойчивей:
— Не понимаю, о чём вы…
— А мне кажется, ты всё прекрасно понимаешь. — Её потянули на себя, и теперь жест был скорее грубым. — Ева Щедрина, не так ли?
* * *
Вероника обнаружила ключ прежде, чем в бальном зале сменилось освещение.
Она уставилась на него, хмурясь, затем повертела в руках — ошибки не было, её исключили имена, оттиснутые на ключе. Вероника растерянно посмотрела по сторонам. И вспомнила о Гиде с косынкой на лице…
Нет, этого не может быть! После драки в «Белом кролике» Фёдор исчез. Вероника слышала, что он подался в гребцы. И главное, билет на бал стоит целое состояние. Или надо снять здесь комнаты, что вообще по карману лишь избранным, вон, даже Бузин не раскошелился. И потом, крепкий осанистый Гид вовсе не похож на худого Фёдора, просто… Господи, о чём она думает? Фёдор нищий, а с Гидом вон девчонка в одном из самых роскошных платьев, которые Веронике довелось увидеть за свою жизнь.
Всё так, да только ключ-то вот, в её руках…
Он попросил передать ей его, так? Передать с кем-то? Да откуда ему взять дружков-то, допущенных в высшее общество?
Скрывал что-то от неё? Разбогател? Вероника была заинтригована. Это мягко говоря…
Свет выключили. По залу поплыли зелёные огоньки от большого зеркального шара под потолком, и забегали бледные лучики, шныряющие по столикам и по парадной лестнице. Ведущий что-то говорил, но Веронике не удавалось его слушать, она была полностью поглощена своими мыслями. Затем до неё дошёл голос Бузина:
— О, Трофим-то решил склеить Прекрасную незнакомку.
Глаза уже свыклись с новым освещением. Девчонка в красном платье, о которой она столько думала, стояла на верху парадной лестницы. И Трофим, по слухам, чуть ли не будущий глава полиции, как-то странно приобнял её за плечи, другой рукою крепко держа под локоть. Возможно, в голове Вероники и работала механическая вычислительная машинка, но кое-что она понимала и без помощи арифметических операций — это было вовсе не любовное объятие.
Что происходит?
Взгляд Вероники заскользил от лестницы обратно в зал и снова отыскал Гида. Его окружили несколько человек. Нет, не в форме дмитровской водной полиции, но и по «штатским» костюмам, а прежде всего по бесцеремонности, с какой они просачивались сквозь толпу, их трудно было спутать. Они явно пришли за ним. Вот вокруг Гида образовалось пустое пространство, народ благоразумно отстранился.
Они действительно пришли за ним. Они уже держат его, но взгляд Гида устремлён только на верх парадной лестницы, на Прекрасную незнакомку…
Как романтично.
И неожиданно, чувствуя какую-то странную горечь обиды, Вероника произнесла:
— Фёдор?
27
Фёдор не понял, что произошло.
Его скрутили очень быстро. Он попытался было вырваться, но руки завели за спину, резко наклонив его к барной стойке так, что удар о деревянную панель пришёлся ровно по центру лба. Потом голову Фёдора повернули, прижав к стойке щекой и сорвав с него косынку.
И он снова увидел Еву.
Нет, не совсем так. Сначала перед глазами была чёрная вспышка с искрами по краям, видимо, от сильного удара о деревянную поверхность. А потом в чёрной вспышке мелькнуло лицо… Сестры. Она ему улыбнулась, из её глаз словно лился спокойный ровный свет, и показала что-то… Фёдор знал, что это. И хоть всё заняло не больше мгновения, он видел это прежде. Костяной бумеранг, латунный манок, вышивка… Он видел такое украшение у Хардова. Только сейчас знал о нём намного больше.
А потом лицо Сестры растаяло. Как и чёрное пятно перестало плыть перед глазами. И на их месте Фёдор увидел Еву.
— Я же сказал, не дёргайся! — повторили Фёдору. А клеившаяся к нему девица быстро отступила на шаг назад, растворившись в толпе. Почему-то Фёдор видел и это тоже. Но его интересовала только Ева. Её схватили. Это всё из-за него. Он подвёл их всех! Но потом… и это стало неважным.
Еву крепко держали. Она пыталась вырваться. И ей причиняли боль.
Осталось только это.
Фёдор спокойно выдохнул. И почему-то холодно, в голос усмехнулся. Это был его собственный голос. Но и голос, который он порой принимал за отцовский. Насмешливый, знающий, умеющий о самом важном говорить тихо и умеющий повелевать. И сейчас эти два голоса соединились.
— Тебе смешно? — удивлённо поинтересовался человек, предлагавший ему «не дёргаться». Он даже отступил на шаг, подумав, что стоит угостить наглеца ударом по почкам.
— Ещё как, — отозвался Фёдор. Его всё так же прижимали головой к барной стойке, и он чувствовал щекой и губами шероховатую деревянную поверхность.
А затем какие-то льдинки мелькнули в его глазах. И Фёдор не понял, что произошло.
Что и как.
(чучело Дюрассела ожило)
(…где заканчиваются иллюзии)
Два человека, которые вот только сейчас держали его в согнутом положении, впечатав лицом в деревянную панель и заломив руки за спину, теперь лежали на полу, хрипя и пытаясь ухватить руками хоть глоток воздуха. А тот, что предлагал «не дёргаться», ошеломлённо пятился от него, с запозданием извлекая трясущимися руками оружие из кобуры.
«Ты очень медленный, — холодно и чуждо прозвучал в голове у Фёдора этот новый голос. — Недопустимо для полицейского». Фёдор просто шагнул вперёд и перехватил руку с оружием, отведя ствол пистолета в сторону. Затем левой рукой взял полицейского за запястье, выворачивая его и забирая оружие себе. Одновременно локоть правой руки ушёл полицейскому ниже подбородка, нанеся удар по горлу. И тот осел: капля розовой слюны выступила у него в уголке рта.
— Свет! — заорал на лестнице Трофим. — Немедленно дать свет!
Люди в маскарадных масках уже начали пятиться в разные стороны. Кто-то устремился к лестнице, чтобы выбраться отсюда прочь. Раздались первые крики. Фёдор и сам опешил. Он непонимающе уставился на чужое оружие в своей руке, затем перевёл обескураженный взгляд на трёх незнакомых ему человек, которых только что отправил валяться на пол. Фёдор испуганно выронил пистолет, разжав пальцы, словно тот был змеёй, готовой ужалить.
Дали свет. Послышались клацающие звуки передёргиваемых затворов. В бальном зале «Лас-Вегаса» под роскошной, безумно дорогой, переливающейся редким хрусталём люстрой закончился бал летнего солнцестояния. Фёдор вместе с толпой мечущихся гостей оказался в круге наведённых на них стволов. Но и вооружённые люди видели, что произошло с их товарищами. Вот в дальних рядах кто-то глухо обронил: «Осторожно, это на самом деле гид». Они были напуганы. Страх застыл у них в глазах, страх сочился из их пор, но они медленно пошли сквозь толпу, сжимая круг.
Фёдор поднял руки, показывая им пустые ладони. В какой-то момент он даже хотел закричать: «Я не вооружён! Смотрите. Я не гид! Не вооружён».
— Вот он! Стреляйте! — В сильном голосе Трофима сквозила паника, с которой тот, однако, неплохо справлялся. — Он напал на полицейских. Приказываю — огонь!
Фёдор посмотрел на него. «А ты неплохо информирован, — прозвучал внутри юноши этот холодный новый голос, вытесняя прежнюю нерешительность. — Получше остальных».
Но нерешительность осталась на другой стороне. Они всё медлили. Им мешала толпа, и они находились в поле обстрела друг друга. Они медлили. Всё, кроме одного. Полицейского-альбиноса. Тот стоял от Фёдора подальше других, но в металлическом блеске его глаз читалась спокойная решимость убить. Фёдор узнал его: «Это тот альбинос, из-за которого началась потасовка в „Белом кролике“, — холодно отметил он. — Кальян сказал про него, что парень, верно, из Икши… С такого расстояния не промахнётся даже ребёнок».
— Стреляй! — заорал Трофим.
Взгляд Фёдора застыл. Какая-то тёплая волна прошлась по мышцам, расслабляя их. И что-то новое пробудилось в теле. Фёдор чуть пошевелился, и тело ответило ему спокойной силой.
«Сукин сын, — подумал он. — Опасное дурачьё! Они собираются стрелять в зале, переполненном людьми».
Фёдор видел, как палец альбиноса лёг на спусковой крючок и сейчас надавит на него. Только мир вокруг словно на миг остановился. И Фёдор увидел всё, что ему надо делать.
Он видел будущую траекторию пули, вовсе не представляя, откуда ему это известно. Видел, как в тягуче-медленном, вязком времени палец альбиноса вдавил спусковой крючок. И потом как ствол выплюнул из своей черной бездны заряд свинца, сопровождаемый струйками тёмного дыма. Фёдор плавно отклонился назад, будто падая или танцуя,
(как недавно с Евой)
и пуля, так же тягуче-медленно разрезая неподвижный воздух, прошла мимо, раздробив деревянную стойку бара, и застряла в ней, вызвав облачко опилок.
Фёдор больше не думал о Еве. Он был уже на полу у брошенного им оружия.
«Полуавтоматический „люгер“, — успела мелькнуть холодная мысль. — Вещь старая, но неплохая».
Альбинос среагировал на его движение и готовился к следующему выстрелу. Но Фёдор видел, что у него ещё уйма времени.
Крючок… Изогнутый металлический крючок под куполом бального зала, и на нём крепится эта роскошная люстра. Крючок показался сейчас близким, как будто Фёдор смотрел на него через окуляр, и необычайно ярким. И осталось только это. Фёдор словно стал одним целым с оружием в его руках, с пулей, которая будто подчинялась приказам его сердца, и крючком на другой стороне. Осталось лишь чуть изменить мир. Тем самым способом, которым на протяжении веков его меняли мужчины…
Две выпущенные дуплетом из «люгера» пули легли ровно в цель. И огромная роскошная люстра, полная переливчатого хрусталя, будто выдохнув, понеслась вниз, навстречу собственной гибели, мгновенно вызвав в бальном зале полумрак. Остались лишь освещённый верх парадной лестницы и несколько тусклых фонариков за стойкой бара.
Но ещё прежде чем главная люстра «Лас-Вегаса», а может, и всего канала, взорвалась на полу, альбинос почувствовал, как по его руке, сжимающей превосходный, оснащённый полимерной рамкой пистолет «CZ-100», словно бы ударили кувалдой. И услышал звук выстрела. Альбиносу повезло: оружие не взорвалось в его руке, выстрел Фёдора лишь раздробил ему ладонь, хоть и разворотил «CZ»; иначе его увечья могли бы оказаться значительно серьёзней.
Теперь люди кричали в голос. Толпа валила на Трофима, грозя снести его с ног. В бальном зале «Лас-Вегаса» началась самая настоящая паника.
* * *
Пришедшая мысль оказалась совершенно простой и чёткой. Есть два выхода: добраться с толпой до Трофима и вызволить Еву. Но это не годится — они станут преследовать. Значит, вариант другой: остаться здесь и убить их всех. «Нет, — тут же поправил себя Фёдор. — Только обезвредить. Нейтрализовать».
Ближний к нему полицейский оказался крупным, похожим на борова мужчиной, и его оружием был старый мощный дробовик. Фёдор прицелился борову в коленную чашечку и нажал на спусковой крючок.
* * *
Рыжая Анна быстро шла по верхнему коридору в сторону охранников. Она видела, что успевает. Вдоль коридора стояли тяжёлые, с человеческий рост подсвечники изумительной работы. Их было одиннадцать, по числу шлюзов, каждый украшен в соответствии с тематикой. Рыжая Анна выбрала подсвечник, символизирующий шлюз № 5, увенчанный статуэткой девушки с корабликом в ладони.
Когда дверь комнаты охранников открылась и появился первый человек полицейского резерва, удар корабликом пришёлся ему прямо в челюсть. Он отключился раньше, чем понял, что произошло. Рыжая Анна оттолкнула его, орудуя подсвечником как шестом, и ударом ноги захлопнула дверь. Тут же просунула подсвечник между массивной ручкой и запором. Полицейский резерв оказался запертым в комнатке охраны. «Пару минут продержится», — подумала Рыжая Анна. Не мешкая больше, она развернулась и направилась к бальному залу.
* * *
Трофим хорошо считал.
И он насчитал ровно девять выстрелов.
Первым открыл огонь альбинос, Трофим видел это — альбинос был прекрасным стрелком. Но этот выродок-Гид («Хороша сказочка», — на лице Трофима застыла шальная улыбка) каким-то непостижимым образом сумел уклониться от пули. Потом двумя выстрелами сшиб люстру. И ещё одним сделал альбиноса инвалидом на правую руку до конца его дней. Затем последовал ещё один выстрел и короткая очередь из четырёх.
И всё. В перестрелке наступила зловещая пауза.
— Вы взяли его?! — заорал Трофим, перекрывая визг обезумевшей толпы.
Ему не ответили. Трофим держал перед собой оружие на случай, если выродок окажется в валящей на него толпе, но ещё как-то требовалось удерживать Еву…
— Эй, кто-нибудь! Взяли его?!
Но ответа вновь не последовало.
Трофим очень хорошо считал. За выродком-Гидом он отправил шестерых. Стрелял альбинос, затем люстра, и… Трофим сглотнул. Зловещее молчание его людей означало не только то, что у них возникли проблемы с ответом, но и кое-что похуже. Никто из них не успел сделать ни одного выстрела. Всё произошло так быстро…
К горлу подкатил ещё один ком. Трофим посмотрел на Еву. И вдруг совершенно чётко осознал, что, вполне вероятно, выродок уложил всех его людей. Вот так всё случилось… И ещё, глядя на Еву, он прикинул, что уж лучше синица в руке. Нет, Трофим не был трусом и вовсе не собирался покидать поле боя. Просто надо где-то спрятать девчонку и дождаться подхода резерва. Против автоматического оружия, старого доброго 7.62, никакой выродок не устоит.
И Трофим принял единственное, на его взгляд, разумное решение. Резко развернувшись, толкая перед собой Еву, Трофим побежал вместе с толпой прочь от бального зала.
* * *
Рыжая Анна видела, как улепётывал Трофим. Губы её даже не успели отметить слегка презрительную усмешку, когда Анна раскрыла сумочку и достала небольшой никелированный револьвер. Раздумья заняли не больше секунды. Она не собиралась стрелять. Здесь, в переполненном коридоре… И она не собиралась стрелять в спину. Рыжая Анна перехватила оружие за ствол, и на мгновение зрачки её зелёных, но порой серых глаз наполнились холодом.
Блеснув серебряной молнией, со свистящим звуком рассекая воздух, револьвер полетел, словно снаряд, выпущенный из пращи. Рука Рыжей Анны была тверда, и револьвер угодил Трофиму прямо в затылок. Тот пошатнулся, на бегу вскинул руки, выпуская Еву, и, сделав по инерции ещё несколько слабеющих шагов, повалился навзничь.
Рыжая Анна подошла к ним. Подняла своё оружие, больше не глядя на Трофима, и взяла Еву за руку. Девушка была бледна. Она непонимающе смотрела на Рыжую Анну и, казалось, пребывала в ступоре.
— Ну-ка, пошли, — жёстко сказала ей та, увлекая Еву обратно в бальный зал.
* * *
— Ну нет, нет же! — Управляющий отчётливо видел все манипуляции Рыжей Анны и как ребёнок, малыш, который хотел в туалет, с каждым следующим, всё более ошеломляющим шагом своей любимицы почему-то переминался с ноги на ногу. — Этого не может быть!
Он стоял наверху парадной лестницы и видел, что произошло с роскошной люстрой, и видел, что произошло с Трофимом, и не понимал, как такое могло случиться. Он никому не желал зла, и вот, похоже, действительно разворошил клубок змей. Но даже больше рухнувшей люстры, испорченного бала и поверженного Трофима его шокировал этот блестящий предмет в руках великолепной Анны Петровны. Потому что этот страшный предмет был револьвером.
— Боже мой, Анна Петровна, как же это? — пролепетал он, встречая их на лестнице. — Голубушка… Господи!
— Только мужу не говорите, — недобро усмехнулась Рыжая Анна и двинулась по лестнице вниз.
28
Когда всё закончилось, Фёдор почувствовал сильнейший приступ тошноты. Перед глазами плыло, и ноги словно сделались ватными. Внутри него всё стало пустым, казалось, он сейчас рухнет в обморок. В воздухе стоял дым, и ещё этот запах серы… Фёдор качнулся, с трудом поднял безмерно отяжелевшую правую руку, посмотрел на ещё горячее оружие и понял, что его сейчас вырвет. Но этого не случилось, спазмы чуть отступили, оставляя сладковато-горький привкус во рту.
Всё это произошло не с ним. Не он сейчас стоит здесь. Не он видел Сестру и… Когда он делал последний выстрел, это мелькнуло у него перед глазами. Он словно оказался в другом месте или на краю Вселенной и видел это… И это оказалось самым страшным. Обрушенный мост на краю тумана. Лицо Хардова, мольба и ужас в его глазах. Потому что он, Фёдор, висит над пропастью над холодной водой (только этого не может быть!), и он не один.
— Нет, не делай этого! — умоляет Хардов.
Но не осталось выхода. Фёдор видит нож в своей руке. И он перерезает страховочный трос.
— Живи долго, — говорит Фёдор.
— Не-е-е-е-ет! — кричит Хардов. И кошмар, и мука застыли в его удаляющихся глазах. Потому что Фёдор летит вниз, навстречу этой ледяной воде. Только он висел на страховочном тросе не один…
— Не-е-е-ет! Лия!
Словно в полусне Фёдор повернулся и посмотрел на тихо стонущего, почти скулящего здоровяка, похожего на борова. Под его взглядом здоровяк чуть сжался и попытался отползти. Но не смог и как-то обречённо и ворчливо застонал.
— Не надо бояться! — почему-то попросил его Фёдор. — Пожалуйста.
Здоровяк ему ничего не ответил. Лишь застонал ещё громче, бросив на Фёдора затравленный и обречённо-злобный взгляд. Под его раздробленным коленом темнела большая лужа густеющей крови.
Фёдор не мог оценить ущерба, нанесённого этим людям. Казалось, он теперь вообще ничего не мог. Только всё это происходит вовсе не с ним. Это… невозможно. И…
Потом он услышал:
— Всё, Тео, уходим! Через минуту здесь будет взвод автоматчиков.
Тео? — Да, когда-то его звали так. В детстве…
Фёдор непонимающе уставился на лестницу. И вспомнил: Рыжая Анна… Да, её попросили им помочь… Им, потому что она была не одна. Она тащила за руку девушку, бледную, смертельно напуганную и очень красивую.
— Ева, — прошептал Фёдор, с трудом разлепив ссохшиеся губы. И снова качнулся.
Рыжая Анна была уже рядом.
— Уходим, парень. Надо идти. — Она мягко подтолкнула его в плечо. Фёдор вздрогнул. И еле слышно пролепетал:
— Что она сделала со мной?
— Кто? — мягко спросила Рыжая Анна.
— Сестра, — отозвался Фёдор.
— Тео, надо уходить.
— Я видел её. А потом… И вот они все…
— Она здесь ни при чём, — сказала Рыжая Анна.
Глаза Евы в ужасе застыли. Она словно выходила из оцепенения и смотрела на Фёдора. И… это он её так напугал?
— Вы… не… понимаете. — Фёдор должен был объясниться. — Я видел её перед тем, как… И потом все эти люди…
— Она здесь ни при чём. Это ты сам. Надо идти.
Фёдор замотал головой и показал ей пистолет, полуавтоматический «люгер».
— Господи, — простонал он. — Да я никогда в своей жизни оружия-то не держал. А она…
— Держал, — сказала Рыжая Анна.
— Нет! — вскричал Фёдор. — Никогда… — В его упрямом взгляде блеснуло что-то, что на миг придало ему сходство с затравленным волчонком. — Вы не понимаете! А она… Сестра… Я видел её перед… и…
Фёдор не смог договорить. Он согнулся пополам, и его наконец вырвало.
— Анна Петровна, — неожиданно подал голос управляющий. — Вам лучше поспешить. Они уже бегут. Там, за сценой, запасной выход.
Рыжая Анна вскинула на него удивлённый и благодарный взгляд.
— Знаю, — кивнула она. Затем коротко улыбнулась и добавила: — Спасибо вам, Александр Палыч…
Этот выход вёл на задние дворы, и там сразу начинался лабиринт. Им надо пройти всего пару десятков метров, и никто из полиции не решится ночью преследовать их за обводным каналом. Но состояние Фёдора…
Рыжая Анна бросила на него быстрый задумчивый взгляд, затем вдруг открыла сумочку и извлекла оттуда манок Учителя:
— На-ка, надень. Тебе станет легче.
Взгляд Фёдора испуганно застыл. Он смотрел на светящееся весёлыми нежно-голубыми переливами украшение, и его щёки сделались ещё более бледными. Руки юноши потянулись к манку и в страхе застыли в воздухе, и в этот миг глаза на его обескровленном лице показались огромными.
«Плохо дело», — мелькнуло в голове Рыжей Анны. В дальнем коридоре послышался нарастающий топот ног.
— Надень, Тео, — повторила Рыжая Анна. — Надень! Это твоё.
Фёдор всё ещё медлит.
— Умоляю, Анна Петровна, быстрее, — произнёс управляющий.
Когда рука Фёдора, паренька из провинциальной Дубны, сына известного, но так и не разбогатевшего гребца Макара, дотронулась до манка Учителя, его пальцы дрожали. Но как только это случилось, манок ответил яркой вспышкой, а затем нежно-голубое свечение иссякло.
Через несколько секунд Рыжая Анна, Ева и Фёдор прошли через дверь запасного выхода и покинули «Лас-Вегас».
29
Однако не все в бальном зале поддались общей панике. В глухой дальней затемнённой нише оставался один человек, который не собирался никуда сбегать. Раз-Два-Сникерс спокойно допила свою большую кружку дмитровского пива и удовлетворённо кивнула.
«Превосходная работа. — Она бросила свой холодно-оценивающий, чуть насмешливый и совершенно лишенный всякого сочувствия взгляд на раненых полицейских. — Ни одного трупа. Тихон всё предусмотрел».
Раз-Два-Сникерс поднялась из-за стола. Её вовсе не волновал прибывший в бальный зал отряд полицейского резерва: «Поспели к разбитому корыту. Птички-то улетели».
Ей тоже было пора. Но перед тем как уйти отсюда, Раз-Два-Сникерс всё же обернулась и посмотрела на дверь запасного выхода, через которую только что скрылись трое беглецов.
— Ну что ж, малыш, с возвращением, — негромко проговорила она.
Глава 14
Тени у станции «Комсомольская»
1
(«Парень Боб, — мысленный посыл вышел слабым, но он постарается, он приложит ещё усилие, — Джимми-бой? Пожалуйста!»
Ответа не последовало.
«Парень Боб? Эй, Джимми, Чёрный человек?! Что же вы все…»)
Шатун не знал, сколько времени он находится тут. Собственно говоря, он вообще мало о чём знал, пребывая в полудрёме или в полузабытьи. Станция спала — где-то далеко, по контурам внешнего мира Шатун слышал лишь мерный шум работающих машин, — и пока она не проснётся, нет смысла тратить силы, которых и так не осталось. Всё же он с трудом разлепил ссохшиеся губы и попытался позвать вслух:
— Парень Боб…
Ему запретили приносить с собой что-либо, кроме воды; открытая двадцатилитровая канистра стояла рядом у его ног. Шатун из неё пил, но не помнил когда. Наверное, давно — губы слиплись, а гортань высохла так, что попытка глотнуть вызывала болевые ощущения, словно горло изрезали бритвой. Ещё он вроде бы пользовался туалетом, помня об обязанности содержать себя в чистоте. Шатун скосил глаза: дверца туалетной комнатки с одним унитазом была приоткрыта, и на ней висела покосившаяся табличка, на которой, как несложно догадаться, было написано «Туалет». Несложно, только Шатун знал, что это для простачков. Потому что в тайном мире Станции существуют чудесные, восхитительные, открывшиеся ему минуты, когда надпись на дверце могла меняться. О, когда Великая-И-Загадочная Насосная Станция «Комсомольская» просыпалась, в ней менялось многое. И Шатун ждал, боясь упустить этот момент.
Но судя по тому, что он сейчас обо всём этом думает, Станция намерена спать ещё долго. Значит, ему следует подниматься и немного заняться собой.
И действительно: Шатун сразу же почувствовал неимоверную жажду и представил, как приятно плещется вода в канистре, и одновременно ощутил необходимость добраться до туалета, чтобы справить малую нужду. Шатун пошевелился и понял, что не чувствует ног. Ничего, сейчас он немного передохнёт и двинется в путь.
(Он видел, как пятна мёртвого света ползут сквозь туман. Это потому, что ему обещали помочь.
Вспомнил: «блуждающие огни» — так они их называли с… Хордовым, почти его братом. Только это было давно.
А теперь эти хищные огни искали Хардова и тех, кто был с ним. Или это тёмный мираж, химера, одна из тех страшных грёз, о которых его предупреждал Парень Боб. Только это, наверное, тоже было давно.)
«Что ж, Парень Боб, неужели ты больше не придёшь? А ведь ты видишь архангелов. И ты знал обо мне задолго до моего рождения».
Старое диспетчерское кресло из гнутой фанеры, на вид изготовленное только вчера, оказалось жестковатым. Ноги затекли, и горло высохло. И главное, Шатун совершенно не помнил, как в нём оказался. Пот на его коже от тепла работающих электронасосов давно высох, ноги же ощущали сквозивший по полу холод. Но как только он пошевелился, испарина опять выступила на лбу. Его организм бунтовал, активно бунтовал против того, что происходило, когда менялась табличка.
Он, конечно, мог позаботиться о себе. Мог усесться тут, сплести ноги в позу лотоса, отправив себя в то медитативное состояние, когда на него снисходило озарение, что уже не раз бывало и здесь, и в Бункере, и сохранить тем самым гораздо больше физических сил. Но Шатуну уже намекнули: коль скоро приходишь с просьбой, не стоит быть таким уж гордецом. Может быть, позже…
Шатун ждал. Ему обещали помочь.
2
Парень Боб был первым, кто вышел к нему у Станции, когда музыкальная шкатулка, что сварганил блаженный деденёвский мастер, раскрыв свои секреты, неожиданно заработала в «ненормальном» режиме. Нет, не совсем так: вначале был Джимми-бой. Шатун помнит это ощущение, когда все его подозрения насчёт шкатулки словно подтвердились. Она хранила в себе (тайное? детское?) волшебство. Тихое, немножко стыдливое, и хранила в себе внутренний свет, такой же тихий. И здесь безделица, сварганенная блаженным деденёвским чувачком, ожила. Внутренний свет сделал фигурку балерины, да и сам контур шкатулки необычайно яркими. Что-то случилось, Шатун как будто внезапно пробудился после долгого сна. И мир вечерних теней вокруг Станции стал другим. Он… тоже ожил. Станция не спала.
И тогда зазвучала музыка, такая, что у Шатуна навернулись слёзы. Это была гитара, электрическая, и играл на ней либо Бог, либо демон. Так что первым всё же вышел Чёрный человек, Джимми, — это была его гитара. Он появился из сумрака, где его лицо практически сливалось с тенью, словно отделился от стены и поначалу очень напугал Шатуна. Ему никогда прежде не доводилось лицезреть людей с кожей чёрной как смоль. Он, конечно, слышал, что есть Те, о ком не знают, что они таятся в тенях повсюду, но лишь в нескольких необычных местах их можно увидеть самому, но полагал всё это байками.
Сейчас Чёрный человек стоял перед ним, и его гитара была белой, как снег, который снится. Но когда Шатун увидел, с какой скоростью его длинные пальцы забегали по деревянному грифу, отражающему лунный свет («Пожалуй, побыстрее, чем я перезаряжаю револьвер», — мелькнула уважительная мысль), он перестал бояться. Так что вначале вышел Джимми-бой. Но Парень Боб, Борис Борисыч, был первым, кто с Шатуном заговорил. Когда со смесью восхищения, уважения и благоговения, явно признав в нём своего, Шатун наслаждался игрой Чёрного человека. А потом не выдержал и спросил:
— Ты гид?
Этот нелепый вопрос был таким же детским, как и волшебство шкатулки, — парень-то очевидно был музыкантом, — и не выражал ничего, кроме запредельного восторга, но Шатуну показалось, что тот понял, о чём он. Чёрный человек разулыбался, не прекращая игры, но вот его глаза, спрятав белки, снова закатились, а на лице отразилась страсть, будто он занимался любовью с тем, кто по-настоящему дорог, или только что положил на язык слизь червя. А потом Шатун услышал спокойный, даже какой-то умиротворённый и одновременно весёлый голос:
— Нет, он не гид. Он просто неплохо играет на гитаре.
«Не то слово», — подумал Шатун и улыбнулся. Возможно, всё это было наваждением. Возможно, он оказался в центре безумия. Но он узнал этот голос. Шатун сказал:
— Да, играет, поэтому и спросил. Ему открыты тайны, как будто он гид.
— Хочешь, называй это так. — Из тени вышел человек с лицом таким же умиротворённым и весёлым, как и его голос. — У всех свои пути-дорожки. Но Хендрикс вовсе не гид. Правда, доброе слово и кошке приятно. Да, Джимми-бой?
Чёрный человек их не слушал. Или не слышал.
— Он играет, как… я когда-то стрелял, — смутился Шатун. Но вдруг почувствовал, что может говорить откровенные вещи и не выглядеть при этом смешным. — Сердцем. Но я давно разучился. Не то чтобы… Просто это больше не так. Хоть по-прежнему поражу любую мишень. — Шатун помолчал и неожиданно добавил: — Я совсем один.
— Нет. — Возражение было мягким, но в то же время оценивающим. — Если ты пришёл сюда.
«Он сказал „пути-дорожки“? — мелькнуло в голове у Шатуна. — Это то же самое, только другими словами. Значит, можно пройти через туман».
— Я знал, что встречу тебя, — вдруг сказал Шатун.
И сам удивился. Никогда прежде он так не думал. И ещё пять минут назад высмеял бы любого, скажи ему про это. Но Шатун не врал. Сейчас он оказался здесь, где Чёрный человек играл, наверное, лучший в мире блюз, а Борис Гребенщиков с ним разговаривал. Здесь, где перед ним были музыканты, жившие давным-давно, великие тени прошлого, великие фрики, создавшие всю эту восхитительную музыку.
И как только это случилось, стало возможным, всё произошло так быстро, что последовательность мыслей выстроилась в другую смысловую цепочку, и в ней заявление Шатуна было правдой.
О, ещё какой правдой! Поэтому сейчас музыкальная шкатулка, его безделица, заиграла другую песню. Ту, про которую Шатун всегда догадывался… И балерина с явным удовольствием танцевала, как будто подтверждая его правоту. Шатун вроде как обмяк. Борис Гребенщиков, Парень Боб, — почему-то Шатун так его прозвал, словно это делало их ближе, — пел о том, кто пройдёт сквозь туман. О том, кто грядёт, пройдя сквозь туман.
* * *
Среди его старых записей, которые до появления шкатулки Шатун проигрывал на своём музыкальном центре «Bang & Olufsen», не было ни одной ненужной. Шатун вообще не окружал себя ненужными вещами, их количество ровно соответствовало их необходимости.
Эта песня, которую Парень Боб записал на пластинку где-то в начале века, годах в десятых, не очень задолго до того, как Мир, где существовала возможность записывать пластинки, сам закончил своё существование, называлась «Тайный Узбек». Шатун её слушал в одиночестве, то мрачнея, то, наоборот, с тайными слезами восхищения на глазах; она его волновала, пока он не понял кое-что.
— Вот оно как, — тогда хрипло прошептал Шатун. — Ты угадал.
«Тайный Узбек». Он не знал, что это значит. Особенно что может подразумевать второе слово. Но он знал, что это про него. Про того, кому суждено пройти сквозь туман. Парень Боб так об этом и говорил: сообщите всем, разнесите весть, что Тайный Узбек уже здесь.
Вот оно как. Борис Борисович Гребенщиков, Парень Боб, знал о Шатуне задолго до его рождения.
Да и вся пластинка называлась «Архангельск». Совпадений быть не могло.
— Да брось ты, Шатун, — сказал ему как-то Колюня-Волнорез. — Это просто город был такой, Архангельск, где-то далеко на Севере. Мне бабка говорила.
— Точно, — улыбнулся Шатун. — Был. И есть. Это город архангелов. Где-то за северным ветром. Парень Боб видел ангелов. И этот город, Архангельск, единственное место, куда стоит стремиться. Понял?
— Нет, — с восторгом сказал верный Колюня-Волнорез. — Но слушать тебя, Шатун, — самое моё любимое занятие.
— А также смачно сплёвывать. — Шатун ухмыльнулся. И, снова подумав, что совпадений быть не могло, добавил: — Это то самое место, где непременно окажешься, если пройти сквозь туман.
* * *
Сейчас Шатун стоял и смотрел на того, кто видел архангелов и знал о нём задолго до его рождения.
— Что ж, ожидаемая встреча вдвойне приятна, — сказал ему Борис Борисыч.
От него, наверное, должен был исходить холод, но Шатун этого не чувствовал. Напротив, было что-то обнадёживающее, подталкивающее к интересной беседе.
Да и Джими-бой разулыбался, почему-то теребя цветные ленточки в своих волосах; и там, в сумрачных тенях, Шатун различил ещё несколько знакомых лиц. Он их видел… на старых пластинках. Некоторое время назад такое положение дел его бы изрядно напугало, сейчас он лишь мысленно повторил: «Совпадений быть не могло». И тогда Шатун решил спросить Парня Боба. Он почему-то знал, что они с ним да ещё с Чёрным Хендриксом станут поближе остальных:
— Скажи, ты ведь давно умер?
— Конечно, — улыбнулся Борис Гребенщиков. — Можно так сказать.
— Значит, ты мне кажешься? — Он бросил взгляд на Джимми-боя и тех, кто таился в тенях. — Вы все только представляетесь мне?
— Не в большей мере, чем тогда, когда мы были живы.
* * *
С тех пор они начали выходить к нему из теней, что окутывали Станцию, и для Шатуна это место стало самым «живым» на канале, и балерина танцевала блюз. У неё не всегда получалось, некоторые музыкальные фразы сбивали её, повергали в смятение. Шатун прекрасно помнил, как поникла балерина, когда Чёрный Хендрикс чуть утяжелил свой гитарный риф, а когда к нему присоединились ребята из Led Zeppelin, Шатуну даже показалось, что, не успевая, она топнула ногой, словно ей надо было отдышаться, и всё равно продолжила танец.
И тогда Шатун подумал: интересно, что она танцевала в глазах блаженного деденёвского чувачка, сварганившего эту безделицу, какая музыка звучала в его голове? Чайковский? Не иначе. И вообще, балерины танцуют блюз? Те, которые в пачках и классической третьей позиции? Вряд ли. Но они могут меняться. Так же, как и надпись на дверце туалета.
А в другой раз он поначалу задался ещё более пугающим вопросом. Тогда Станция не просто была активной, не просто проснулась. Она выглядела новее, чем тот глянцевый листок с рекламой, что Раз-Два-Сникерс хранила у сердца, — Шатуну было ведомо и это, он полагал, что листок сохранился с тех самых пор, когда Парень Боб спел впервые про Тайного Узбека и про город, где живут архангелы, — можно сказать, что вечеринка шла полным ходом. Безупречно-сутуловатый чувачок Том, — Шатун запамятовал, как его по батюшке, но фамилию он носил Вэйтс, — спел Blue Valentine, и Шатун плакал. Здесь среди друзей он мог позволить себе слёзы.
Старец Мамонов Пётр, а по батюшке Николаевич, был забавен, он чем-то напоминал Шатуна, шёл от убийц (пути-дорожки?) к праведному свету по ту сторону тумана. Но много говорить не хотел, словно слова его были тёмными якорями, забрасываемыми назад, поэтому он просто шутил. А вот про Сида Баррета Парень Боб сказал, что чувачку было суждено поменять всю современную музыку и даже не понять этого: он помер раньше, чем это произошло. Вот как иногда случается, если взять фальшстарт. Был похожий на обезьяну-демона Мик Джаггер, и Борис Борисыч шепнул Шатуну, что таков же и его талант.
Да, вечеринка выдалась славная: Королева-блудница исполнила «Жизнь в розовом цвете», и ей подпел ещё один Чёрный человек, — Шатун с удивлением обнаружил, что эти люди, похожие на ночных демонов, неплохо разбирались в музыке, — трубач Сэчмо. Вечеринка собрала всех тех, кто когда-либо в своей жизни пел блюз.
«Я на полном позитиве», — думал Шатун, подпевая вместе со всеми.
Чувствовал он себя превосходно, право, как среди своих, и мысль, которая на него накатила, не являлась внезапным ушатом холодной воды, не была срочным требованием идентификации и обозначения границ. Никакой тревоги. Просто Шатун снова задался вопросом: видит ли он всех их на самом деле? Всё это на самом деле, или с ним происходит что-то подобное тому, когда находишься «под слизью червя»? С другой стороны, какая разница…
— Нет, это неверно! — вдруг сказал ему Парень Боб. Он смотрел прямо на него. — Есть места, куда нельзя вламываться. Ты должен сам прийти. Чёрный ход годится не для всего, порой может быть опасен.
Шатун сконфузился. Бросил мельком взгляд на дверцу туалета, потом снова посмотрел на Бориса Борисыча.
— Но ведь слизь червя не просто… — начал было Шатун.
— Совершенно верно, «не просто», — улыбнулся Парень Боб. — Когда ты уже сам пришёл. Когда созрел, вроде яблочка, и находишься в таком месте, она «не просто».
Шатун его понял. Его устроил такой ответ. Совпадения действительно не было.
Всё же он подумал, стоит ли ему говорить об одной особенности, на которую он давно обратил внимание, или тот сам в курсе. О дверце туалета. Точнее, о табличке. Вот и сейчас её контуры дрожали, плыли перед глазами, словно надпись пыталась измениться, только ей никак не удавалось достичь стабильного состояния.
Шатун был уверен, что в какой-то момент там появилась «Жизнь в розовом цвете». Они все приходили оттуда, из-за этой дверцы? Или… нет? И вдруг на какое-то мгновение Шатуну показалось, что в плывущем контуре он различил два слова: «Кая Везд». Шатун похлопал веками, тряхнул головой. Протёр глаза.
Нет, просто показалось. Надпись была другой.
«Тайный Узбек».
«Просто показалось, — подумал Шатун. — Похожие созвучия».
И почувствовал, как у него стало пересыхать во рту. Он смотрел на дверцу туалета и вдруг понял, что там может находиться.
(есть места, куда нельзя вламываться)
«Так вот о чём ты, Парень Боб».
И опять совпадений не было. С того момента, как Шатун попал под взгляд Второго, как мёртвый свет опалил его нутро, оставив там тлеющую искру, он чувствовал, что это место должно где-то существовать. Без шкатулки, без Станции, без тлеющей искры оно бы никогда не открылось ему. Возможно, он его сам создал, Шатун этого не знал. Он знал другое.
Это был чёрный ход.
И тогда вся музыка вдруг стихла, и умолкли голоса. Вечеринка закончилась. Словно Станция внезапно заснула. Но перед этим он совершенно отчётливо услышал голос Парня Боба:
— Не ходи туда.
3
Шатун снова пошевелился. Пора было вставать, покинуть диспетчерское кресло. Интересно, как много воды осталось в канистре? Сначала попить, а потом добраться до туалета.
Шатун попытался подняться и чуть не рухнул на пол, чуть не провалился сквозь собственные ноги, словно их не было. Затекли — не то слово. Пришлось ему ухватиться за спинку кресла и грузно навалиться на диспетчерский пульт, где стояла его шкатулка с поникшей теперь балериной. Она будто выцвела, потеряла яркость, да и всё вокруг выглядело старым, заброшенным, унылым.
Когда он только пришёл сюда? Видимо, несколько дней всё-таки миновало, Станция не спала. Он это понял сразу, едва только взглянув на неё. Да и по беспокойному поведению своих людей, даже Фомы, который был убеждён, что невосприимчив к подобным вещам, но при этом старался не поворачиваться к Станции спиной, Шатун заключил, что вечеринка начинается. Кстати, за эти его штучки, упрямое отрицание очевидных вещей, Фому и прозвали «неверующим». Фома знал, что босса нельзя беспокоить, пока он в Станции, но всё же решился повторить:
— Я понял, чего бы ни случилось, тебя нет. Но если совсем нештатная ситуация? Если произойдёт что-то по-настоящему важное?! Вдруг… удастся выследить твоего дружка Хардова?
«Они все что-то чувствуют, — подумал Шатун. — Вот и ходят вокруг да около. Но они все спят. Поэтому не видят сути. А Станция не спит».
— Моего дружка , — передразнил Шатун, однако с мягкой наставительностью в голосе, — моего брата Хардова уже не удастся выследить. Однако если произойдёт что-то важное, думаю, я об этом узнаю.
Он подмигнул Фоме и, взглянув, как сгущаются вечерние тени вокруг Станции, мысленно добавил: «Потому как, случись что по-настоящему важное, я узнаю об этом пораньше и получше вас. За тем и иду».
К тому же здесь, у шлюза № 4 через Деденёво и Турист проходила вторая, резервная линия застав. А её, так же как и основную, Икшинскую, обороняет сводный отряд полиции и гидов. Так что здесь особо не разгуляешься. Раньше надо было чесаться! И Новиков знает это — здесь его власть уже ограничена, сильно ограничена, вот старый истерик и развел столько суеты. И его можно понять: Хардов ускользнул у него из-под носа.
Сначала гидам удалось до самой последней минуты держать всё в секрете, а потом ещё, невзирая на тот факт, что весь канал от Дубны до этого самого места находится под полным контролем водной полиции, Хардов просто исчез. И то всё открылось благодаря чистой случайности — ещё большему истерику новиковскому отпрыску. Хотя, Шатун поморщился, тут он явно лукавит. «Малыш» оказался очень перспективным, и может статься, что у Шатуна будут на него кое-какие планы.
В этом бурлящем котле, который тот носит вместо головы, где вываривалась «малышепедия» — увлекательнейший, поразительный свод всевозможных комплексов и пороков, Шатун увидел нечто такое, что аж дух захватывает. Так что Новиков-младший может оказаться очень перспективным клиентом. К тому же Шатун убеждён, что в этом мире, для которого хорошие новости убывают с каждым мгновением, места для случайностей уже не осталось.
У Шатуна была мысль, куда мог исчезнуть Хардов.
— Как сказал один из английских королей, «птички улетели», — сообщил Шатун и с улыбкой добавил: — Ему потом отрубили голову.
— Что? — не понял Фома.
— Хардов не даст себя спровоцировать. И не даст себя взять на Длинном бьефе. Или в каком глухом углу. Я думаю, он появится в людном месте, и за ним не будет ничего. Ни одна новиковская ищейка не рискнёт к нему даже приблизиться. А потом он явится сюда, и всем придётся утереться.
— Но как? — Фома угрюмо посмотрел на него.
— А как он ускользнул из Дубны?
— Новиковские плотно пасли его на ярмарке, — быстро заговорил Фома. — Трофим лично… Ты же знаешь, мы-то искали в других местах.
— Это ещё один привет нам всем от Тихона, — весело вставил Шатун.
— Возможно. — Фома задумчиво покивал. — Но Хардов был в «Белом кролике». У всех перед глазами. А потом… думаю, ему удалось где-то залечь, отсидеться.
— Нигде он не отсиделся. Он ушёл в тот же день.
— Исключено! Все шлюзы…
— Точнее, в ту же ночь.
Недобрая усмешка скривила губы Фомы:
— Ты о чём говоришь?
— Знаю, что на канале стояли самые плохие дни. Этим он и воспользовался.
И лицо Неверующего Фомы побледнело. Не сильно, но достаточно, чтобы это можно было разглядеть даже в подступающем сумраке. Вот так с ними со всеми, с неверующими.
— Он сделал то, на что ни у тебя, ни у новиковских, — решил дожать Шатун, — не могло бы даже уложиться в голове. Он рискнул выйти на волну после заката и пройти мимо Второго, когда на канале стояли самые отвратительные дни.
Фома молчал. Шатун не стал его торопить. В общем-то, Фома совсем не был трусом, хотя парнишка себе на уме. Когда он заговорил, его голос показался несколько больным, будто Неверующий подхватил где-то лёгкую простуду:
— С чего ты взял?
— Потому что это был для него единственный выход.
И потому что я бы поступил так же.
Теперь Фома молчал дольше. Затем хрипло произнёс:
— Хардову придётся пройти Тёмные шлюзы…
— Понял наконец?
У Фомы забавно дёрнулась щека, он правда был смекалистым и, бросив быстрый взгляд на Станцию, спросил нечто нехарактерное для себя:
— Поэтому ты туда идёшь?
— Кто-то же должен за всеми подчищать, — просто сказал Шатун.
Фома нахмурился, глубокая складка на лбу, видимо, должна была отражать сложную умственную работу:
— Если ты всё знал наперёд…
— Не-а. Это я сейчас такой умник. Задним числом. Но я учусь.
Шатун повернулся и направился к Станции. И уже на ходу бросил Фоме:
— Если через два часа не вернусь, поставьте у входа канистру с питьевой водой.
Странно, но этот разговор его воодушевил. Мысли были ясными. Он чувствовал себя чистым. Каким и должен был предстать перед Станцией.
Хардову придётся пройти Тёмные шлюзы. На это вся надежда. Там власти нет ни у кого. В месте, накрытом туманом, где всегда стоят «плохие» дни, нет власти ни у полиции, ни у гидов. И соваться в эту маленькую, близкую, можно сказать, «домашнюю» версию Ада по собственной воле…
Шатун рассчитывал на помощь. Все его инстинкты, конечно, не помноженные на бабью интуицию, как у Раз-Два-Сникерс, но ничего, Шатун на них не жаловался, подсказывали ему, что пора. Что он готов. Всяким тлеющим искрам рано или поздно приходится выбирать: либо погаснуть, либо уж разгореться на полную катушку. С его искоркой всё было ясно с самого начала. И теперь Шатун готов. Такое всегда случается, если вы на правильном пути.
Правда, те же инстинкты, на которые Шатун не жаловался, сейчас тихонечко и глухо сигналили, что, может статься, обратного хода уже не будет. Но это ничего. Ему и не надо. То, на что Шатун… дерзнул, не предполагало обратный ход.
Шатун шёл к Станции, освещённой по периметру тусклым, словно размазанным электричеством, и вечерние тени играли на его лице. Он улыбался. Он знал, что произойдёт дальше. В какой-то момент бледное размазанное электричество исчезнет. Он пересечёт некую невидимую черту, и там, у границ Станции, всё станет другим. Когда подобное впервые произошло с Фомой, тот сумел убедить себя, что это просто внезапно вырубилось электричество. Просто совпадение, такое бывает, какая-то проблема с энергосбережением, или где-то перебит силовой кабель, или скачок напряжения… Ах ты мой забавный неверующий друг! Сейчас Шатун сделает ещё несколько шагов и скроется из глаз внешнего наблюдателя, например Фомы, хотя периметр для него по-прежнему останется освещён.
Так и произошло. Фома видел это. Не считая основанием для ревизии своего мировоззрения. Просто вот удаляющийся силуэт босса отчётливо различим в бледном электричестве. Миг — и он, приобретя причудливые очертания, растворился в сумеречной игре светотени. Щека у Фомы снова дёрнулась. Он отчаянно напрягал зрение, пытаясь разглядеть хоть что-то. Но тщетно — Шатун исчез. Тьма, исходящая от Станции, словно поглотила его.
4
Едва переступив порог Станции, Шатун убедился, что не ошибается, — на этот раз всё было по-другому.
И всё же по привычке окликнул:
— Парень Боб!
Ответа не последовало. Музыка не стала заполнять пространство. Хотя совершенно очевидно, что всё здесь не спало. В стенах Станции, в перекрытиях, в блестящих поверхностях работающих машин и даже в дверце туалета (особенно в дверце туалета!) словно притаилось множество невидимых глаз, наблюдающих за ним. Сам воздух сделался густым и одновременно необыкновенно прозрачным; всё было проникнуто каким-то нетерпением, даже испуганная балерина на крышке музыкальной шкатулки словно чувствовала, что сегодня ей не придётся станцевать привычный блюз.
— Послушай, один умный чувачок говаривал: каждому празднику готовят своё блюдо, — успокоил её Шатун. — Наш блюз никто не отберёт, мы ещё станцуем.
И усмехнулся, прислушиваясь. Его зрачки застыли, а лицо разгладилось. Музыка была. Там, за мерным гудением электронасосов, почти неуловима, словно за очень толстой стеной, где-то на грани слуха… Как будто ты пробудился после глубокого сна и всё ещё слышишь звуки, приснившиеся тебе. Бодрые торжественные марши. Или эти звонкие, полные радостного энтузиазма голоса — детские, женские, но и мужские тоже, — действительно доносились из-за стены с очень хорошей звукоизоляцией. Вот что напугало нашу балерину (Шатуну показалось, что краем глаза он уловил, как балерина театрально ухватилась за сердце, а потом укрыла лицо в ладонях, но, конечно, такого не могло быть) — чеканная маршевая торжественность. Всё же Шатун решил кое о чём ей сообщить, ещё одну цитатку:
— Как сказал один киношный злодей, это не добро и не зло. Это просто сила.
Шатун чуть склонил голову, прислушиваясь, затем, вроде как увещевая балерину, заговорил:
— Прими её. Растворись в этой утренней свежести мира! Изгони уныние. Этот торжественный огонь мог двигать горы. Сила, основанная на убеждении. Стоит только принять её, и станет ясно — страх был нелеп и напрасен.
Балерина, естественно, не двигалась и, естественно, не отвечала, лишь выглядела совсем поникшей.
— Э-э, так не годится, — сказал ей Шатун. — Я чувствую твоё состояние. Хочу напомнить, что вашему танцующему брату это всё шло на пользу. Сила. Чёткая внятность. Прозрачность форм. Такой вот балет. Вы в ваших белых пачках были как солдаты на передовой. Всесокрушающие побеждающие солдаты — вы проламывали всякий декаданс, проламывали стены для этой маршевой поступи.
Шатун помолчал. Потом всё же решил закончить своё сообщение:
— Но видишь, как вышло. Люди сами не знают, чего хотят. Как говаривал ещё один умный чувачок, люди не хотят знать истинных глубинных мотивов своих поступков. То им подавай то, то подавай это. И они всего боятся. Даже с виду самые храбрые! Но тебе со мной повезло. — Шатун вдруг подмигнул бездвижной фигурке, как несколько минут назад он подмигивал Фоме. — Во мне уживается и то, и это. Вряд ли ты понимаешь, о чём я, поэтому поверь мне на слово. Я как уникальный сосуд, в котором может смешаться несмешиваемое. Я… — Шатун рассмеялся. — Я Тайный Узбек…
Шатун прервал сам себя. Неожиданно захлопал глазами и… Ему пришлось только что отогнать одну внезапную эмоцию. Она его не испугала, но насторожила. На его плечи чуть не накатила абсолютная нелепость происходящего. И от этого внезапного прилива на один короткий миг он почти ощутил весь непередаваемый кошмар своего одиночества, холод полного сиротства, заброшенность, затерянность, открывшиеся ему в непреложной ультимативной ясности.
Что он делает? Чем он тут занимается?! Разговаривает с игрушечной, выпиленной из кости балериной? Трусит, спасается? Посмотри на себя — стоит тут и разговаривает с механической игрушкой…
— Тихо-тихо-тихо, — чётко произнёс Шатун. — Убеждённость тут главное. Убеждённость — главное в нашем деле. Можешь сидеть и ныть, упустив единственный шанс, а можешь делать то, за чем пришёл.
И действительно, в этот короткий миг сомнения он чуть всё не испортил. Шатун почти физически ощутил повисшее в воздухе порицание. Эти невидимые таящиеся повсюду глаза, что с интересом наблюдали за ним, теперь злобно сверкнули и стали закрываться. Станция приготовилась снова уснуть.
Но ничего, Шатун умел брать себя в руки. Он улыбнулся балерине, затем перевёл взгляд на туалетную комнату. Улыбка больше не покидала его лица. Эти бодрые торжественные марши явно звучали оттуда, из-за этой дверцы с табличкой, которая умела меняться. Шатун поставил музыкальную шкатулку на откидной столик из такой же гнутой фанеры, как и кресло, в котором ему суждено будет провести некоторое последующее время (не два часа, поболее), и бросил балерине, указывая на туалетную дверцу:
— Пойду взгляну, что там.
И сделал первый шаг.
Теперь марши зазвучали громче. Сомнения отбрасывались. Только так — с полной верой в душе и с укрепившимся духом — Шатун был готов обратиться за помощью. Был готов совершить то, на что никто не решился бы на канале.
И ему было что предложить взамен.
Шатун сделал следующий шаг, который теперь дался значительно легче.
Вот как: менялась не только табличка с плывущими буквами. Сама дверца сейчас не походила больше на убогий вход в туалет — тёмный морёный дуб, золочёная ручка, появились строгий золочёный декор, круглое окошко иллюминатора. И отражённый от воды солнечный зайчик, словно Шатун оказался на корабле, одном из тех больших пароходов, что ходили когда-то по каналу вверх и вниз.
Шатун кивнул: всё верно, вот и плывущие под иллюминатором буквы наконец стабилизировались, и появилась возможность прочитать «Проход на верхнюю палубу».
На миг его лицо застыло, а взгляд потемнел. Что-то мелькнуло там, в плывущем судорожном дрожании букв, перед тем как они стабилизировались. Нет, конечно, не было шершавых тёмных слов «Кая Везд», не было вовсе! Лишь созвучная им, но совершенно противоположная по смыслу надпись «Тайный Узбек», потому что эта дверь предназначалась для него. Она была здесь с самого начала и ждала, когда он созреет
(как спелое яблоко?)
и сможет, наконец, пройти. И как только понял это, всё пространство вокруг немедленно залили бодрые радостные звуки теперь уж совсем близкого марша. Его играли там, на верхней палубе, где мог рождаться солнечный зайчик, потому что, невзирая на ночь, что рыскала с внешней стороны Станции, там, за дверцей, было светло. Был яркий солнечный день. А точнее, утро, непреходящее, напоенное дивной прозрачностью, вечно юное утро древних строителей канала.
Шатун сделал ещё один шаг к дверце, и тогда её и без того ясные и чёткие контуры словно запылали внутренним огнём. Всё же остальное пространство внутри Станции теперь выглядело тусклым, смазанным, походило на старую декорацию фоном, в котором горел этот драгоценный кристалл. Шатун не понял, когда трепетное благоговение внутри него стало заполняться чистым, как свет, ликованием, потому что никогда ещё прежде его существование не ощущалось им настолько подлинным. Сам того не замечая, он начал подпевать звучащему маршу:
— Нас утро встречает прохладой…
Он уже был готов опустить золочёную ручку, приоткрыть дверцу и шагнуть за неё, пройти на такую уже близкую верхнюю палубу через волшебную дверцу своей судьбы, но вспомнил кое о чём. Балерину, его музыкальную безделицу, ключ от дверцы нельзя было оставлять тут. Шатун обернулся и, обнаружив шкатулку на прежнем месте, на столике из гнутой фанеры, разулыбался в полный рот.
Марши вряд ли годятся для танцев. Даже самые бодрые, исполненные торжественного энтузиазма. Но балерина справилась. Совершая быстрые па и вскидывая руки с какой-то иной грацией, пугающей и очаровывающей одновременно, словно изображая железного лебедя, балерина танцевала. Вовсю.
— Наконец-то ты меня поняла, — ухмыльнулся Шатун.
5
Закрученная винтом лестница того же морёного дуба и с золочёным поручнем перил вела вверх всего на один этаж. И как только Шатун ступил на палубу, ему пришлось невольно зажмуриться. Яркий свет, отражённый от множества блестящих поверхностей, от судового колокола, искрящейся пенными весёлыми брызгами волны, а прежде всего от невообразимой белизны корабля, ослепил его.
Когда Шатун открыл глаза, вздох восхищения сорвался с его губ. Во все стороны от канала простиралась даль, не осквернённая туманом. И дело даже не в том, что зелёные поля дали всходы, изящные берёзки стыдливо склонились к берегу, по воде суетливо шныряло множество катерков, ползли, приветствуя друг друга пароходными гудками, навьюченные, как трудолюбивые муравьи, длинные баржи, и над всем этим неслась песня, а вдали на голубой ленте канала виднелись лёгкие прогулочные парусники с застрявшими в мачтах клочками неба — вовсе не это радостное и весёлое великолепие жизни заставило сердце Шатуна восторженно биться. Или не только оно. Шатун узнал это место: всё ещё старый добрый четвёртый шлюз! Но…
— Сколько же там было солнца, — не в силах сдержаться, прошептал Шатун.
Он стоял на борту белоснежного парохода, настоящего речного лайнера с огромными гребными колёсами по бокам, который только что отшлюзовался и шёл теперь в сторону Икши.
«Нет-нет, — поправил сам себя Шатун, — в сторону Москвы, самого прекрасного города на свете. Словно сотворённого этими всепобеждающими людьми из грёз и навечно».
Музыка, бодрая песня марша о встречающем прохладой угре, стала затихать. Шатун понял, в чём дело, и заулыбался: песня лилась с палубы, наверное, такого же прекрасного пассажирского парохода, прошедшего навстречу. Её исполнял выстроенный на корме хор, и Шатун видел, как медь труб, литавров и музыкальных тарелок плавилась в ослепительном утреннем солнце.
Пели юные строители, которые наследуют эту землю, и на каждой детской шее эмблемой этой победившей юности был повязан пылающе-алый галстук. Но это ещё не всё: на Шатуна смотрело огромное лицо, мудрое и доброе, и он узнал его. Лицо смотрело с кумачёвого, в несколько этажей плаката, в который каким-то образом укутали часть проследовавшего мимо корабля. Да и как было не узнать…
«Вот каким вы видели его, — подумал Шатун. — И ещё при жизни воздвигали памятники».
Сейчас имя второго вождя было написано на множестве праздничных транспарантов по берегам, но прежде всего оно было запечатлено в сердце каждого древнего строителя. Сами же берега канала оказались одеты в полированный гранит такой сияющей чистоты, словно камень сам только что поднялся из дивных сокровенных глубин земли.
«…род празднует эту славную годовщину, — донеслось из стационарной радиоточки, раскрытого чёрным зевом громкоговорителя, установленного на берегу. — И поздравляет нашего дорогого и любимого товарища Сталина, Отца и вдохновителя всех наших побед!»
«Они сказали „род“? Род благодарит отца?» — мелькнула в голове у Шатуна какая-то крамольная мысль. Он крепче сжал в руке свою балерину; если б он приложил ещё усилие, она бы сломалась. И тут же Шатун понял, что просто недослышал слово. Видимо, слово было «народ», и, скорее всего, речь шла о советском народе!
«Двадцать третьего марта тысяча девятьсот тридцать седьмого года, — словно в подтверждение сообщило радио, — по решению партии и правительства впервые в истории была остановлена река Волга! Всего на тринадцать дней. А потом был дан приказ поднять щиты, открыть запорные ворота. И великая матушка-река подчинилась воле советского человека. Волжская вода побежала вверх, к Москве по проложенному для неё искусственному руслу канала…»
«Они могли останавливать реки, — подумал Шатун. — И приказывать воде течь. Как же можно было потерять всё это?! — И тут же он снова поправил себя: — Как же всё это дало себя потерять?»
— Что же вы там стоите, товарищ Шатун?
Голос был мягкий и приветливый. И никакого страха Шатун не почувствовал, хотя он и понял, кого сейчас увидит. Исполинская статуя на гранитном пьедестале, выплывающая из ночи, мелькнула перед внутренним взором; длинная походная шинель вождя, проведшего свои народы сквозь древний мрак, и каменные глаза, хранящие опаливший его мёртвый свет… Но никакого страха он не почувствовал.
Вождь всех народов в простом летнем кителе белого цвета и в тон ему в невысоком картузе восседал за обеденным столом и с весёлым любопытством смотрел на него. Стол, убранный белоснежной скатертью, был сервирован прямо на открытой палубе с изяществом и щедростью. Стульев было несколько, и по правую руку вождя стоял человек, одетый в такой же летний френч, однако сероватого оттенка, и широкополую мягкую шляпу, покрывающую тенью покатый лоб и круглые тонкооправные очки. Сейчас он вскинул на Шатуна глаза, и от дужки его очков отразился солнечный лучик. Точно такой преломился в драгоценном хрустале пока ещё не наполненных бокалов, в других же было вино, красное и густое, как кровь.
— Ну, что стоите? Идите к нам. — Под пышными, с рыжеватым отливом усами вождя пряталась ласковая улыбка, а в мудрых проницательных глазах озорной искрой всё же горела добродушная лукавинка. — И знаете что: не забивайте себе голову всякой ерундой. Вот, вы же здесь… Ну, идите, присаживайтесь. Не укусим.
При последних словах очкарик в мягкой шляпе весело прыснул. Однако взгляд его оставался холодно-бесстрастным. Шатуну были хорошо знакомы подобные взгляды: в любую следующую минуту они, как по запросу, могли выдать абсолютно всякую эмоцию. Талантливый актёр и вероломный охотник, сведущий в мастерстве, извращенец, большая умница и садист-прагматик, так и не утративший мечтаний юности.
Шатун подумал, что обстоятельства требуют от него приветствия, но губы будто слиплись. И потом, он не мог выбрать правильное слово — вроде «здравствуйте» отдавало некоей двусмысленностью.
— Я… не знаю, как себя вести. Извините меня, — попросил Шатун.
— С вождями народов или с покойниками? — весело пожурили его. — Как видите, оба утверждения оказались неверны. Или, если хотите, неполными.
Очкарик снова хмыкнул, но взгляд теперь сделался подбадривающим, и в нём появилось что-то личное. Так обычно смотрят на тех, в ком признали своего.
«Вот комедиант», — мелькнуло в голове у Шатуна.
И тут же хозяин стола добродушно рассмеялся:
— Вы, товарищ Шатун, прямо как раскрытая книга! В которой, однако, есть несколько тайных страничек.
Шатун провёл языком по внутренней стороне плотно сжатых губ: точно так же, как раскрытую книгу, некоторое время назад он читал Юрия Новикова.
— Ну, ладно. — Вождь дружелюбно махнул рукой. У него оказалась некрупная, пухлая, как у ребёнка, ладошка с тонкими пальцами и очень чистыми отполированными ногтями. — Давайте, что там у вас?
Он чуть развёл большой и указательный пальцы, и Шатун с удивлением обнаружил, что последний нацелен на его музыкальную шкатулку, словно это была папка с докладом. Шатун протянул шкатулку, как его и просили, маленькая рука немедленно ухватилась за неё, ощупывая, и Шатун увидел, как в полированном ногте мелькнула капля солнца.
— Присаживайтесь, — бросил вождь, занимаясь шкатулкой. — Выпейте бокал вина!
— Я лучше так, — признался Шатун.
— Вы ставите меня как хозяина в неловкое положение. Прошу! Иначе и мне придётся встать. — Шатун протестующе поднял руки, но вождь, усмехнувшись, уже продолжал: — Вино натуральное, виноградное. У вас такого, х-м-м… не достать.
— Это точно… — согласился Шатун, однако прерывая себя на фразе.
Поступая, как ему велено, он осторожно уселся на краешек отодвинутого для него стула. Прервал же он себя, потому что понял, что совершенно не знает, как ему обращаться к хозяину. «Товарищ Сталин»? Ну, это вроде бы нелепо. «Второй» — как его называли на канале? «Товарищ Второй»? Но это вроде бы ещё нелепей, к тому же какой же он второй?
— Ну что ж. — Хозяин бросил взгляд на стоявшего рядом комедианта-очкарика. — У товарища Шатуна есть несколько дельных предложений. И ему требуется кое-кого найти. Х-м-м… в тумане. История запутанная. Но найти надо. Как думаешь, Лаврентий, сможем помочь?
— Скажи, Иосиф, а есть ли что-то, чего мы не сможем? — откликнулся тот вопросом на вопрос.
«Иосиф, — подумал Шатун. — Его зовут Иосиф! Действительно, как Древнего Праотца».
— Не торопись, — с улыбкой отмахнулся хозяин.
Теперь он смотрел на Шатуна ещё веселей; хитроватоозорные и такие хорошие морщинки разбежались от уголков его глаз, что Шатун испытал нечто, смутившее его. Какую-то смесь признательности и чего-то такого, что ему не хотелось бы анализировать. Чего-то, откликающегося на безграничную ласку, светящуюся из-под этих пушистых бровей.
— Лаврентий Палыч у нас порой бежит впереди паровоза. Вот и приходится за всем приглядывать самому. Ведь так же и у вас, товарищ Шатун, на вашем фронте работы?
Шатун согласно кивнул. С этим не поспоришь. И тогда хозяин сказал:
— Ответьте мне только на один вопрос: кто придумал эту ерунду про мёртвый свет?
Шатун вскинул на хозяина удивлённый взгляд. И… он не знал ответа на этот вопрос. Так повелось. Если только Вождя в действительности интересовал ответ.
— Взгляните вокруг, товарищ Шатун, — продолжал тот. — Взгляните внимательней. Неужели всё это кажется вам более мёртвым жизни у вас? Неужели это незакатное солнце юности и эта песенка, что сейчас затихает вдали, восхитившая вас песня о свежести утра, что пробуждается в крови каждого человека, кажутся вам более мёртвыми, чем жизнь в полном и непроглядном тумане?
6
Шатун не вернулся через два часа. И не вернулся через два дня. К тому моменту, как позвонила Раз-Два-Сникерс и устроила Фоме выволочку, заодно сообщив, что вроде бы вычислила нужную лодку, времени прошло поболее. А потом события начали развиваться, как растущий снежный ком, что они в детстве пускали с горок.
Но Шатун не появлялся, словно его всё это не касалось. Происходящее же всё больше стало походить на панику. По крайней мере, от распоряжений, спускаемых из полицейского департамента, действительно попахивало паническим настроем.
Кто-то разгромил «Лас-Вегас». Прямо под носом у Трофима. Заносчивому жлобу неплохо утёрли нос. Вроде бы никаких следов, хотя становится совершенно очевидным, что полиция неуклюже что-то скрывает. И ещё эта нелепая история с попыткой задержания Хардова, безмятежно прогуливавшегося у третьего шлюза. Над этим потешался весь канал, и Фома даже не знал, какую из двух новостей обсуждают больше.
А потом, как гром среди ясного неба (хотя этот гром давно уже ожидался), пришла весть, что лодка «Скремлин II» с Хардовым на борту действительно появилась. Более того, находится в двух шагах от них: экипаж лодки как ни в чём не бывало проходил шлюз № 4.
Приунывший Фома пошёл посмотреть, как там обстоят дела. Насосную станцию он теперь решил обойти по дуге, нечего туда приближаться лишний раз.
«Надо вытаскивать босса, — думал Фома. — Всё ж пять дней уже там на одной воде. Явно ослаб. Слабеет он после своих этих… визитов. Если навалимся всей кучей — совладаем».
Фома вспомнил эту странно-далёкую, на грани слуха, маршевую музыку, от которой почему-то мурашки бежали по спине, и ещё более невероятные и потому пугающие стоны самого Шатуна, и совсем скис.
«Не знаю, где черти носят Раз-Два-Сникерс, по всем прикидкам ей давно уже было пора появиться, — размышлял Фома, — но босса надо оттуда извлекать. Потом сам спасибо скажет».
Что-то не увязывалось: Шатун заверил, что если сложится какая-то по-настоящему опасная ситуация, то он узнает про это ещё пораньше всех. И вот Хардов здесь. И судя по всему, на всех парах шпарит дальше, но… Дверь насосной станции не открылась, Шатун не появился на пороге, чтобы отдать распоряжения. Они парализованы — и в довершение ко всему Раз-Два-Сникерс, чьи решения сейчас необходимы как воздух, куда-то пропала. Фома поднялся на обзорный мостик диспетчерской башни шлюза № 4 и убедился, что попал на чужой праздник. Гиды приветствовали Хардова как героя. Полицейские угрюмо молчали. С документами полный порядок, оснований для задержания никаких. Фома не знал, как к этому относиться, но усмехнулся и подумал, что на самом деле всегда уважал Хардова. Ну, что ж поделать: с «зелёной» картой от Тихона его лодка не подлежит досмотру. И если на шлюзах Длинного бьёфа, полностью подконтрольных полиции и людям Шатуна, на таком досмотре всё же можно было настоять, то тут… и думать забудьте.
«А ведь он всё знал. Он так об этом и говорил. — Фома вдруг почувствовал какой-то неприятный холодок под ложечкой и, сам того не сознавая, бросил взгляд на станцию „Комсомольская“. — Этот сукин сын Шатун всё знал наперёд. Хардов появился, и всем пришлось только утереться».
Всё же у Фомы был намётан глаз, и он решил зафиксировать свои наблюдения. Помимо самого Хардова, Вани-Подарка на руле и гребцов на баках, ещё в лодке «Скремлин II» находилась красивая рыжеволосая женщина. Фоме хорошо было известно, кто она такая. Когда-то рыжеволосая здорово подцепила его. Не в том смысле, что Фома влюбился, но желал он её сильно. Об этой бывшей танцовщице, а ныне покладистой жёнушке одного из богатейших дмитровских купчишек, каких только слухов не ходило.
Как-то раз Фома слышал совершенно уж безумную версию, что она чуть ли не из бывших гидов. Но как известно, гиды бывшими не бывают. Вон же Шатун продолжает всех величать на старый лад. Шутит, мол, у нас «независимый профсоюз». Да и люди на канале их прозвали «чёрными гидами». Так что насчёт её гидовского прошлого — это явно бредни да враки. Просто певичка сделала себе такую головокружительную карьеру, что позавидуешь, надо же как-то подобное объяснить. Однако рыжеволосая оторва как была, так и осталась дамочкой с сюрпризом. Недаром столько воздыхателей по каналу. Но что делать покладистой купеческой жёнушке в лодке Хардова, направляющегося к Тёмным шлюзам? Решила сгонять на экскурсию? Сбежала от своего купчишки с Хардовым? Будь они полюбовничками, не вели бы себя так открыто, тем более в лодке есть где схорониться.
Фома нахмурился. Эта носовая каюта все более привлекала его внимание. Что-то в ней не нравилось, было неправильным. Ну как же в такое погожее, даже, можно сказать, жарковатое утро дверца в каюту была закрыта, а боковые окошки оказались плотно зашторены. Не то что такого быть не может или запрещено, но… странно.
В голову полезли мысли одна хуже другой. Что там могло быть? Что прячут или кто скрывается в носовой каюте? То, из-за чего такой переполох? Люди Шатуна ни в какие тайные делишки гидов посвящены не были. Любящий пошутить босс, склонный к солёному с издёвкой выраженьицу, здесь становился немногословным. Да Фома и не лез к нему с расспросами, сам был из таких, знал, что бесполезно.
У профессионалов не принято совать нос в чужие дела. Во-первых, не так поймут, а во-вторых, опасно. Фоме, осуществлявшему координацию между различными группами людей Шатуна, было известно поболее остальных. Не всё, конечно, но и того хватало с избытком, чтобы беспокойно спать. Пока всё не закончится.
Однако болтали люди на канале, болтали, слухами и молвой жизнь полнилась. Вот и были у Фомы кое-какие самостоятельные мыслишки. Стучались в голову. И над всем этим довлела одна неясная, давно услышанная история, вызывающая нечто гораздо менее приятное, чем просто холодок в спине. Слышал Фома об одной… странной болезни. И тому, кого охватывает недуг, был противопоказан солнечный свет. Только слышал Фома вещи гораздо хуже. Потому что болезнь эта могла приключиться от укуса… скремлина. И сейчас, глядя на покидающую шлюз через верхние ворота лодку «Скремлин II», Фома мог лишь догадываться, что (или кто?) укрывается там.
— Неизвестное секретное оружие гидов! Чудовище-мутант, боящееся солнечного света, — сплюнув, попытался пошутить Фома.
Но вышло вовсе не весело. Лишь холодная пустота под ложечкой где-то в районе солнечного сплетения чуть расширилась. Ещё и потому, что собственный голос показался сейчас Фоме нарочито бодрым.
— Эх, прошмонать бы сейчас эту лодку, — вздохнул он, — да руки коротки.
«Укушенный, укушенный, двойным мешком придушенный», — вдруг пронеслась в голове у Фомы старая детская считалка. Он растерянно посмотрел по сторонам, и… Далее там, в считалке, речь шла о Короле, Королевиче, Сапожнике, Портном и о тридцати трёх зубах, выпавших изо рта старого нищего бродяги. И о том, как его укусил… скремлин. Но старый пердун вместо того чтобы сдохнуть со своими тридцатью тремя зубами (Фома вообще-то не помнил, сколько их на самом деле, у него давно уже половины не хватало, но вроде у нормального человека зубов должно быть тридцать два!), обернулся юным принцем. Но перед этим он прохворал «сорок сороков». Фома поморщился, пытаясь вспомнить всю считалку — эти ненормальные детские числа, и ещё этот последний тридцать третий зуб, которому требовалось окончательно сгнить, чтобы… Что? Что там со старым пердуном?
…умер, снова появился,
Стал ребёнком, не родился.
Вырос до прекрасных дней
Младой силушки своей.
Зуб последний сгнил, свалился,
И вот юный принц явился!
Внезапно Фоме стало зябко. Эта грёбаная детская считалка пришла на ум не в лучший момент. Можно быть верующим, можно неверующим, но если у тебя мозги вправлены нормально, ты признаёшь, что, конечно, дыма без огня не бывает.
Фома смотрел, как бодро лодка «Скремлин II» взяла курс по направлению к Икше. В какой-то момент в нём зародилась надежда, что Хардов задержится здесь, среди друзей.
И за это время либо Шатун, либо хотя бы Раз-Два-Сникерс успеют появиться. Но Хардов не стал ждать. Фоме даже показалось, что он уловил его быстрый хмурый взгляд, которым тот одарил насосную станцию «Комсомольская», словно знал о том, что там происходит. Знал побольше Фомы да и всех остальных на шлюзе. Фома усмехнулся. Ну что он мог знать? Именно так, от усталости или долгой безнадёги, когда вот так вот нелепо и не по твоей вине не связываются концы с концами, потому что не можешь достучаться, просто не можешь достучаться (!), именно так дают трещины первые кирпичики в несокрушимом здании Веры. Или другой её формы — Неверия.
Хардов не стал ждать. К большому разочарованию гидов, которым не терпелось порасспросить его на предмет подтверждения или опровержения слухов, Хардов сразу же направился дальше, вверх по каналу, в сторону Тёмных шлюзов, и увёз с собой свою тайну. Фома смотрел вслед его лодке, и дурацкая детская считалочка, как назойливая муха, не переставая жужжала в его голове.
7
Раз-Два-Сникерс прикрыла глаза. До шлюза № 4 осталось совсем недалеко. Она не торопилась, хотя знала, что отстаёт от лодки Хардова на полдня.
— Малышка, эти отметинки… Откуда они у тебя, можешь рассказать?
— Не знаю. Родинки. Они были всегда. Но здесь они чуть-чуть… как-то… Давайте уйдём, мне здесь страшно.
Взрослые переглянулись. Это были гиды. И Тихон, на тридцать лет моложе. Но она их сразу не испугалась. Напротив, её сиротское сердечко потянулось к ним, будто она нашла наконец семью. Но сейчас она спросила:
— Зачем вы привели меня сюда? Я как-то раз заблудилась в тумане. Здесь страшно. И вот эти мои родинки, мои пятнышки… они почему-то как бы чуть-чуть… ну, чешутся…
Теперь взрослые выглядели озадаченно. Гиды Тихона. И с ними одна девушка, которая станет ей лучшим другом. Сейчас она спросила:
— Тихон, вы считаете?..
— Не знаю, — задумчиво откликнулся тот. — Всё может быть. Вполне. Стоит поговорить с Учителем.
Девушка склонилась над ней, заботливо посмотрела ей в глаза, улыбнулась не без воодушевления, которое дарят хорошие надежды, промолвила:
— Не бойся, малышка. Мы уже возвращаемся. Всё отлично. Всё очень-очень здорово.
Даже здесь, в тумане, в мужской одежде, штанах и куртке с пятнами, чтобы не выделяться в листве, зеленоглазая девушка показалась ей необычайно красивой. А ещё доброй. Это была она, Лия.
Раз-Два-Сникерс отставала от лодки Хардова на полдня, но вовсе не собиралась нагонять его. Солнце двинулось к закату, и никто не станет проходить Тёмные шлюзы ночью. Даже Хардов. Тем более обременённый очень необычной ношей. Скорее всего, Хардов не решится на это и за завтрашний день. Ему надо ждать. Икшинские шлюзы на всех действовали по-разному. Кто-то был вполне себе ничего, почти как огурчик, а кто-то славливал то, что называли «тёмной икшинской климухой». Раз-Два-Сникерс слышала, что даже опытным гребцам порой требовалось время на адаптацию. Некоторые из них, добравшись до шлюза № 5, первого, считавшегося Тёмным, специально поворачивали назад. Возвращались на резервную линию застав. Так они проходили свою «акклиматизацию» перед окончательным штурмом Тёмных шлюзов. У всех свои хитрости и свои секреты. Хардов бы наплевал на это, но кое-кто на борту его лодки сейчас, мягко говоря, несколько не в форме. Поэтому он вынужден будет ждать. Раз-Два-Сникерс не знала, как долго. Шатун, даже перестав быть гидом, предпочитал не делиться с ней информацией. Иногда ей казалось, что он её дразнил. Развлекаясь, ходил вокруг да около. Когда-то Раз-Два-Сникерс рассчитывала, что они станут ближе друг другу, по-настоящему близкими людьми, и он ей всё расскажет. Очень рассчитывала. И делала всё что могла, чтобы они стали ближе. Она ошиблась. Она сильно ошиблась в своей жизни. Но Шатун разговаривал во сне. И она научилась слушать. И помнить, хотя она никогда и не забывала.
— …и ты не умрёшь, малышка. Есть такая добрая тётя, и тогда ты попадёшь к ней. Как будто вернёшься домой.
— Но я не хочу, я хочу остаться с тобой.
— Если это и случится, то ещё очень-очень не скоро.
Я тебе обещаю. Но я знаю, что ты особенная. Поэтому не надо бояться, если он тебя укусит. Для тебя всё только начнётся.
— Потому что я… другая?
— Нет, конечно. Вовсе нет! Никакая ты не другая. Ты самая лучшая девочка на свете, правда. А для меня — особенная. Как я была в своё время для своих близких.
Это несколько успокаивало. И тогда она спросила:
— Но как же, Лия, от укуса скремлина люди умирают.
— Не все. Некоторым они дарят кое-что.
— Дарят?
Лия кивнула и бережно коснулась пальцами основания девочкиной шеи:
— Вот эти пятнышки.
— Из-за них я не умру? — удивилась она. — Из-за этого?!
Лия улыбнулась и поднесла указательный палец к губам:
— Т-с-с… Учитель считает, что ты ещё не готова к этому разговору. Всё намного сложнее. — Лия посмотрела на неё с любовью и с лёгким, еле уловимым оттенком сострадания, а потом заговорщически ей подмигнула. — Но ведь мы с тобой девочки! Поэтому, в общем, да, из-за этого.
Она помолчала, словно пытаясь нащупать, что её по-настоящему волнует, и вдруг спросила:
— А ты? Ты тоже попадёшь к этой тёте?
— Если найду своего скремлина. Заслужу его любовь. — Лия снова улыбнулась, но теперь как-то чуть-чуть по-другому. Улыбка была светлой, мечтательной, но какой-то более личной. — Тогда может быть. А ты своего уже нашла.
Эти отметинки, пятнышки он оставил тебе, когда ты была совсем маленькой. Он выбрал тебя. И он ещё обязательно появится.
— Я люблю тебя, Лия, — прошептала она.
— Я тоже тебя люблю, малышка. И обещаю, что мы не расстанемся с тобой ещё очень-очень долго.
Лия не смогла сдержать своего обещания. Они расстались навсегда, когда той девочке, которой она когда-то была, исполнилось одиннадцать. И она снова осиротела.
Да только не так, как прежде. Её сердечко, только-только отыскавшее тепло, словно высохло. Что бы там ни говорил Хардов. Они расстались. А скремлин так и не появился.
* * *
— Вон он, Фома, встречает нас у шлюза, — проговорил Колюня-Волнорез.
Раз-Два-Сникерс кивнула. Она его видела:
— Высадите меня. Пройдите шлюз и пришвартуйте лодку. Нечего тратить на это время. Ночуем здесь.
Её парни благодарно разулыбались. Ещё одна короткая передышка. Совсем скоро начнётся закат, а с утра по ясному солнышку идти к Тёмным шлюзам будет веселее. И если уж совсем повезёт, с ними будет Шатун. Шатун и Раз-Два-Сникерс! Тогда уж ничего не страшно — прямо родные мать с отцом. Она усмехнулась: на компанию Шатуна парням не придётся особо рассчитывать. Если она не ошибается, Шатун намерен пробыть на Станции ещё достаточно долго.
8
— Куда ты запропастилась? — говорил ей Фома. — Он заперся и ни в какую. Уже пять дней. А Хардов вот ушёл.
Она пожала плечами:
— Не ушёл. Хардов не станет проходить Тёмные шлюзы ночью. А с утра на электроходу мы его быстро нагоним.
— Что толку-то? Там, на основной линии гидов ещё больше, чем здесь. И ты же сама знаешь: там у них мир да дружба. Говорят, там полиция… в общем, не то, что в других местах. Только на гидов и рассчитывают.
Она согласно кивнула:
— Да, только я не прохлаждалась. Я следила за ним. Он здорово всех провёл. Можно сказать, безупречно. Но Хардов пойдёт за линию застав, а там уж рассчитывать можно только на себя. Ну, или на Господа Бога, если найдётся хоть кто-то из таких… неверующих.
Она ухмыльнулась, впрочем, довольно безобидно: у каждого из «её мальчиков» были свои тайные кнопочки, чтобы их завести.
— При чём тут это? — смутился Фома.
Они стояли на дозорном мостике диспетчерской башни, наблюдая, как тяжёлая лодка на электроходу, что Раз-Два-Сникерс удалось с таким трудом «пробить» у полиции, проходит шлюзование. Солнце село, но летние сумерки ещё даже не начались. Впереди лежала прямая стрела канала, и вдали, почти у самого пятого шлюза, к обоим берегам подступал густой туман.
— Ты же знаешь, — подал голос Фома. — Шатун поменял там дверь, на Станции. Установил с поворотным рычагом, типа как в своём Бункере. Её просто так не вскрыть. А в этот раз босс совсем…
Фома замолчал, снова забавно смущаясь.
«Рехнулся? — подумала Раз-Два-Сникерс. — Совсем рехнулся?»
— В общем, в этот раз он все ключи зачем-то забрал с собой. Даже с красной нашлёпкой, для аварийных ситуаций. Словом, если ты его не дозовёшься, то… ну, я не знаю, останется только взрывать.
Раз-Два-Сникерс вскинула на него взгляд.
— Ну, я имею в виду дверь-то… — пояснил Фома. — Больше её ничем не взять.
«Хорошо, что ты это сам сказал, — подумала она. — Именно это тебе и придётся сделать, дружок. Не сегодня.
И думаю, не завтра. Но уже совсем скоро».
9
— Размести мою группу на ночлег, — велела Раз-Два-Сникерс Фоме. — А я пойду пройдусь.
И она кивнула на насосную станцию «Комсомольская». Фома нехотя спросил:
— Мне с тобой?
— А чем ты мне сможешь помочь? Не беспокойся: неверующему Фоме не придётся подвергать сомнениям своё неверие. — Она насмешливо посмотрела на него. — Пойду попробую достучаться до небес.
— Что?
— Попытаюсь вытащить его оттуда.
— Понимаю. Был звонок из полицейского департамента. Новиков приказал Трофиму преследовать Хардова. Они скоро будут здесь. На двух полицейских лодках.
— Забавно, забавно. Видимо, это наказание за то, что произошло в «Лас-Вегасе».
— Ты думаешь?
— Трофиму крупно повезёт, если на Тёмных шлюзах Хардов сжалится над ним и позволит быть рядом.
— Скажи, — вдруг спросил Фома и впервые взглянул на Раз-Два-Сникерс с какой-то странной испуганной преданностью. — Как ты думаешь, что он там делает?
В глазах Фомы плясали огоньки, отражённые освещённым периметром Станции.
— Шатун? Я думаю, он договаривается.
— С кем? — спросил Фома треснувшим голосом.
— А ты не догадываешься? — Она улыбнулась без своей привычной издёвки. — Ладно, Фома, лучше оставаться неверующим.
— Когда он оттуда выходит, он всегда знает, что надо делать, — сказал Фома.
— Он и так знает, что надо делать. Без всяких видений. А тебе незачем сомневаться в своих взглядах, и так дурдома по горло. Но ты абсолютно прав: его надо оттуда вытаскивать. Любой ценой. И я пойду и займусь этим.
Она резко обернулась и направилась к Станции. Фома благодарно кивнул ей вслед. И остро ощутил, что всё это похоже на какое-то дежавю, история повторяется. Именно в таких же подступающих к шлюзу сумерках, уже глубоких и вязких, ровно пять дней назад он провожал Шатуна. Раз-Два-Сникерс пересекла освещённый периметр Станции и исчезла, растворилась в тенях. И Фома не мог отделаться от мысли, что точно так же, как и Хардов в своей лодке, каждый из них унёс какую-то свою собственную тайну.
10
Это случилось сразу, едва она оказалась на ближних подступах к Станции. Ещё только переступая некую незримую линию и скрываясь из глаз Фомы, она почувствовала, что всё здесь словно пропитано затаённой угрозой. Сейчас это ощущение усилилось. Раз-Два-Сникерс отдавала себе отчёт, что всё это в некоем роде химия, реакция на чуждые вибрации Станции, с которой можно справляться. Что она, её организм с его химией, является своеобразным соавтором этого мутного подступающего чувства страха. И уж чему-чему, а контролю над большинством физиологических процессов она в школе гидов всё же успела научиться. Поэтому Раз-Два-Сникерс остановилась и громко, внятно позвала:
— Шатун!
Ответа, естественно, не последовало. Лишь глухой тихий звук мерно работающих электронасосов, похожий на золотистое рычание хищника, притаившегося в листве.
А за ней наблюдают. Кем бы или чем бы ни был этот хищный зверь, кто бы или что бы это ни было, сейчас из своей темноты оно наблюдало за ней.
— Шатун, — спокойно повторила она.
И на миг впустила в себя светлое радостное воспоминание. О Лии. Косвенным образом оно вышло и о том, кто сейчас закрылся за бункерной дверью Станции. Сквозь кого проходят эти тёмные вибрации и кто, скорее всего, сам о том не догадываясь, является их подлинным детонатором.
Как и его музыкальной шкатулке, полной чудес, нужен был механический ключ, так и Станции требовался ключ, чтоб уж запустить её на полную мощность. Хотя вряд ли не догадывался.
Скорее всего, в глубине души Шатун так и не убил в себе этого испорченного мальчишку, могущественную тайную силу, которая — он верил! — есть в детях и которая с взрослением, к возрасту созревания юношеских прыщей, проходит. Напротив, Шатун пестовал в себе эту детскую магию, скрыв её источник за жестокостью, вполне себе взрослым разгулом и цинизмом, тем, что он именовал своим бронированным нутром. Раз-Два-Сникерс умела слушать. А Шатун разговаривал во сне.
* * *
— А этот мальчик, которого вы нашли зимой в лесу? Он тоже… ну, как я?
— Шатун? О, нет. Он обычный мальчик. Талантливый. Интересный. И потом, он старше тебя, вот и попал сразу в группу Тихона. Но ему надо много учиться, прежде чем он попытается заслужить любовь скремлина.
— Он говорит, что их ловят в тумане. А потом дрессируют.
— Он не прав. Говорит, чего не знает. Любовь скремлина можно только заслужить.
— Я так ему и говорила, — обрадовалась она. — Что он болтун. А он дразнится.
— Дразнится?
— Ну да. Говорит, что на канале и люди-то не особо друг друга любят. А тут какие-то скремлины.
Лия усмехнулась:
— А знаешь, ведь частично в его словах есть правда, и это тебя смущает, так? Но помнишь, мы как-то говорили с тобой о полуправде? И если её придерживаться, то в результате может выйти одна большая неправда?
— Ну да… Вот и я… Я-то понимаю.
— Иногда мне кажется… — Лия одарила девочку любящей улыбкой, но в её глазах мелькнула хитроватая искорка. — Как ты думаешь, что главное, чему учат в нашей школе?
— Читать следы! — тут же отозвалась она.
Ей это очень нравилось, было здорово. Оказалось, что это не только отпечатки на земле, снегу или сломанные травинки, оказалось, что всё на свете оставляет следы и может раскрыть свою тайную суть.
— Ну, конечно, — согласно улыбнулась Лия. — А ещё я слышала о твоих успехах по боевым искусствам.
— Ну да. — Она потупила взор.
— Но мне иногда кажется, что дело не только в этом. Что посредством всех этих искусств и наук они готовят нас к главному. Понимаешь, малышка?
— Лия, я же просила не называть меня так! Мне уже одиннадцать.
— Прости. Никак не свыкнусь с тем, как быстро ты растёшь.
— В чём же главное?
Лия посмотрела на неё. В её весёлых зелёных глазах переливались звонкие искорки.
— Прости ещё раз, я, конечно, не знаю, что главное. Представь, как нелепо, если я тебе скажу, что, например, они учат нас любви. Да этому, наверное, невозможно выучить, лишь указать дорожку. Но готовят они нас к этому: быть в состоянии заслужить любовь скремлина.
— Но как же? Мне ничего такого не говорили.
— Исподволь. Косвенно. Преподавая боевые искусства и всякие древние науки, учат нас, как обращаться с оружием и читать следы. Он большой хитрец — наш Учитель. И он самый мудрый наставник.
Она покраснела. Опустила взгляд. Затем посмотрела исподлобья:
— Это ты меня прости, Лия! Я не знаю, что на меня нашло.
— Ничего. Я в твоём возрасте была ой какой колючей. Так что… наверное, главное, чему в практическом смысле готовят нас — это заслужить любовь скремлина. Хотя и за этим явно стоит что-то большее. Недаром же Посвящение в гиды у всех происходит в разное время. У некоторых даже через много лет после окончания школы.
— Я слышала, да, — задумалась она. И вот решилась: — Знаешь, я давно хотела спросить: а что это за слово такое, знаешь, я иногда его так слышу, джедаи? — Она перешла на заговорщически-понимающий шёпот. — В этом тайна, да? Кто они такие? Я не выдам.
Лия поморгала. Удивлённая. Прыснула и вдруг звонко и весело рассмеялась. Так хорошо, что она сконфузилась, и стало ещё обидней, что так сорвалась на неё.
— Это просто шутка Учителя, малышка. Ой, прости! — Лия замахала руками и засмеялась пуще прежнего. — Был такой старый фильм… В общем, забавно. Давно. «Звёздные войны». И там были такие могущественные воины. Джедаи. Каста воинов. Шутка… Они сражались с… неважно. В общем, да, в чём-то похоже.
Она почувствовала себя разочарованной, сбитой с толку, но и озадаченной — что-то не увязывалось. Она подумала и сказала:
— Лия, помнишь, ты говорила, что Учитель строгий? А я сказала: мне кажется, что он весёлый. А ты согласилась и сказала, что это одно и то же.
Лия улыбнулась, вздохнула:
— Ты и правда выросла.
С интересом вгляделась в неё, словно отыскивая какие-то новые черты, затем кивнула:
— Ну да, ты права — в каждой шутке есть доля шутки. Просто когда Учитель основывал нашу школу, очень давно, воспоминания о мире без тумана не были такими далёкими, как сейчас.
Она снова задумалась и теперь молчала дольше. Наконец спросила:
— Помнишь, ты мне сказала про моего скремлина? Но у нас в школе есть скремлины. Нас учат с ними обращаться, только ведь они — ничьи! А этот Шатун сказал, что они никогда никого не полюбят и что их вообще скоро выпустят…
А потом так и случилось. Как же?
— Твой Шатун — бунтарь, — мягко улыбнулась Лия.
— Вовсе он не мой! — вставила девочка.
— И это хорошо. Он сможет добиться больших успехов, если только… Но послушай: гиды не враги его взглядам. Вовсе нет. Но гидам иногда приходится пользоваться помощью… ничьих или чужих скремлинов. Это правда. По разным причинам, но такое случается довольно часто. Прежде всего потому, что у многих ещё просто нет своего. А без них никак. Они как фонарик в тумане. Без них гид просто не сможет выполнить свою работу. Но только тот, у кого появляется свой скремлин, как бы сам становится фонариком. Понимаешь?
«Нет», — подумала она, продолжая жадно слушать.
— Знаешь, в чём секрет гидовского мастерства? Только тот, кто заслужит любовь скремлина, может считаться настоящим гидом. Это как бы первая, но необходимая ступенька.
— А вторая? А последняя?
Лия рассмеялась и потрепала девочку по волосам, но от неё не скрылось, что украдкой девушка взглянула на пятнышки, которые она считала своими родинками.
— Гиды не говорят «последняя», они говорят «крайняя». Но её, наверное, нет. И наш весёлый Учитель любит повторять: «Не бойся совершенства, оно недостижимо».
— А насчёт фонарика — это как же?
— Образно, конечно, образно, ты права. Просто гид, у которого появляется свой скремлин… Любовь, которой одаривает скремлин, как бы открывает гиду глаза. Только не здесь, — Лия провела рукой перед взором девочки, а потом мягко дотронулась до области сердца, — а здесь. И ему открывается весь свет любви, существующей в мире. И все стены, закрывающие этот свет. Они сразу же становятся видны. Множество стен, тёмных прочных каркасов. Но об этом невозможно рассказать, это нужно пережить самой. А у меня нет своего скремлина. Так что… я такая же ученица, как и ты. Хоть и заканчиваю завтра школу. Стен много, малышка, и они ближе, чем мы думаем.
На сей раз она предпочла пропустить «малышку» мимо ушей и спросила:
— А туман?
— Наверное, — откликнулась Лия. — Наверное, туман — крайнее проявление этих стен. Именно потому, что вроде бы не похож на стену. Но может быть крайнее — потому и последнее? А тот, кто заслуживает любовь скремлина, становится настоящим гидом! И он больше не один. Он как будто находит себе очень близкого друга, с которым у него теперь общая судьба.
Она нахмурилась, поникла головой, размышляя.
— Как твой парень со своим вороном, да? — спросила она и наконец хитровато улыбнулась. — Ему, кстати, нравится этот Шатун.
— Хардов не парень. — Лия весело посмотрела на неё, но щёки девушки слегка порозовели. — Он великий гид. Таких очень мало. Лет ему значительно больше, чем кажется.
— В смысле? Он молодо выглядит?
— Не только.
— Опять ты меня запутываешь, Лия.
— Послушай… Вот эта тётя, о которой я тебе рассказывала, помнишь?
— Добрая тётя?
— Ну да… Я скажу тебе что-то важное и очень серьёзное.
Ты должна меня выслушать, но не страшно, если не сразу поймёшь. Хардов был у неё.
— Был? Ну и что? — Она захлопала глазами. И вдруг начала понимать. — Его укусил скремлин?
Это понимание чем-то холодным и тёмным пронзило её, и испарина выступила на ладонях.
— Да. Его укусил скремлин, и он попал к ней, — подтвердила Лия. — А потом вернулся. Такое может случиться с гидом, достигшим высшего мастерства. Но только однажды. Других нападение скремлина, скорее всего, убьёт. Но это не нападение. В момент укуса… он передаёт кое-что. Это и есть дар скремлина.
— Что? — спросила она испуганно.
— Возможность возвращения. И этого не надо бояться. Возможность стать вернувшимся воином, потому что на самом деле именно это — высшее мастерство.
— Не понимаю. — Она затрясла головой. — А что Хардов делал, когда был, ну… у этой доброй тёти?
Лия молчала. А она вдруг заволновалась. Почему-то ответ на этот вопрос показался ей очень важным.
— Я не знаю, — наконец призналась Лия.
— Ну, он много тренировался, чтобы, ну… Учился читать следы? И всё остальное?
— Не думаю, — тихо произнесла Лия. — Когда он смог вернуться на канал, он ничего о себе не знал. Но гиды уже ждали его.
— Ничего не знал? — спросила она чуть осипшим, словно подстывшим голосом. — Что ж это за дар такой?
Лия взяла девочку за руку.
— Возвращение, — повторила она. — Только один раз такое может случиться и только с теми, кто достиг высшего мастерства. Скремлины передают свой дар лишь тем, кто в состоянии его принять.
— А как же?.. — Она растерянно посмотрела на Лию, затем провела рукой по своим пятнышкам, что когда-то принимала за родинки, и глаза её расширились. — Выходит, что и я… тоже?
— А вот это — главное, о чём я хотела с тобой поговорить. Возможно, ты сейчас действительно не всё поймёшь, но придёт время, и ты получишь ответы на все свои вопросы. Я тебе обещаю. Поэтому сейчас просто запомни: кое в чём вы с Хардовым очень похожи.
— С Хардовым? Но в чём?!
Лия кивнула:
— Вот в этом. — Девушка деликатно провела рукой вдоль её «пятнышек», которые наиболее отчётливо именно в тумане выглядели тем, чем они являлись на самом деле. — Вас обоих выбрали скремлины, когда вы были совсем маленькими. А это большая редкость. Огромная. Правда. Поверь и запомни.
Теперь она думала дольше. Морщась и чувствуя, что неожиданно к глазам собрались подступить слёзы. Потом она попыталась рассортировать в голове вопросы, видя, что Лии пора уходить, и понимая, что этот разговор подходит к финалу. И наконец проговорила:
— Но ведь он не просто сходил прогуляться к ней, к этой тёте? Хардов ведь… Ты хочешь сказать, что он должен был умереть, но не умер?
Лия мягко улыбнулась:
— Мне и так попадёт от Учителя за эти разговоры с тобой.
— Он же ведь позволил тебе быть моим наставником.
— Я ещё сама нуждаюсь в наставнике, — серьёзно сказала Лия. — Он согласился только, что я буду присматривать за тобой. И чуть-чуть помогать. Но мы очень-очень забегаем вперёд.
— А почему один раз? — вдруг спросила она.
— Ты о чём?
— Почему возвращение один раз?
Лия смотрела на неё, склонив голову. Потом обняла девочку и прижала её к себе. И негромко произнесла:
— Потому что даже дар скремлинов не делает никого бессмертным.
Повисло молчание. В объятиях Лии ей стало так хорошо и так страшно. Она начала хлюпать носом и, чтоб справиться с подступающей горечью, громко сказала:
— Тогда я хочу, чтобы нас укусил скремлин в один день! — Слёзы подступили совсем близко, но Лия крепче прижала девочку к себе. — Пусть в один день. Тогда не страшно. И мы снова станем маленькие и будем вместе расти. И будем лучшими друзьями.
— Мы и так лучшие друзья, — отозвалась девушка.
— Ты не понимаешь! — Она отстранилась, не вырвалась из объятий, а именно отстранилась. — Я согласна стать этим вашим воином-джедаем. Но только с тобой. Понимаешь?
— Мы ещё поговорим об этом.
— Ну, понимаешь?! — А слёзы всё-таки потекли.
— Да, — сказала Лия.
И девочка разрыдалась. А Лии осталось только совсем крепко обнять её и тихонечко покачивать из стороны в сторону, как утешают, убаюкивают маленьких детей. Через какое-то время она затихла, уткнулась носом в плечо девушки и лишь иногда поскуливала, как несчастный щенок. И они обе молчали. Потом она попыталась высвободиться, но только снова разревелась. Тогда Лия прошептала:
— Ничего, поплачь. Эти слёзы необходимы. Но когда они пройдут, ты поймёшь, что нет ничего страшного. Поплачь, станет легче.
Она хотела что-то ответить, но словно захлебнулась горечью и опять разревелась в голос. Потом ей и вправду стало легче, и она тихо-тихо сказала:
— Ну почему ты не можешь быть моим Учителем?
Лия попыталась рассмеяться, правда, хотя и в её глазах влага угрожающе блестела.
— К сожалению или к счастью, ты растёшь гораздо быстрее, чем я мудрею, — с шутливой серьёзностью сообщила девушка. — Как же мне быть твоим Учителем? Думаю, им станет Хардов.
Она улыбнулась. Хардов… Ей действительно стало хорошо в эту минуту. И, несмотря на горькие слёзы и всё, что потом произойдёт, она запомнит именно этот миг. Как они сидели тут вдвоём и Лия утешала её, взрослеющую девочку, которую больше вот так никто утешать не станет. Потому что на следующий день Лия с Хардовым и Учителем уйдут в сторону таинственной Москвы, и они расстанутся навсегда.
— А может, даже сам Тихон, — сказала девушка. — И это будет лучший учитель на свете. Честно-честно. И когда придёт срок, он посвятит тебя в гиды, и ты узнаешь всё, что должна знать. И самое главное, твой скремлин вновь разыщет тебя. Я тебе обещаю, моя маленькая. Обещаю. Всё будет очень хорошо.
Она всхлипнула. Ещё раз. Потом спросила:
— Как её хоть зовут?
— Кого? — не поняла Лия.
— Эту… добрую тётю?
Лия погладила девочку по волосам, и та взглянула ей в лицо. Улыбнулась. И Лия сказала:
— Гиды называют её Сестрой.
* * *
Лия погибнет. Они втроём уйдут в сторону Москвы и уже почти выполнят свою миссию. Лию будет ждать посвящение в гиды. Но на обратном пути на них нападут. И Лия вместе с Учителем сорвутся в воду с обрушенного моста. Понимая, что не остаётся выхода, спасая Хардова и оставляя ему шанс довести дело до конца, Учитель пожертвует собой и Лией. Он перережет страховочный трос.
11
Раз-Два-Сникерс уже какое-то время стояла у дверей Станции и молча, затаив дыхание, прислушивалась. Это ощущение настороженной враждебности вовсе не прошло. Напротив, что-то не то было в глухом, мерном гудении машин. Словно оно скрывало какие-то другие звуки, которые идентифицировать никак не удавалось, и вот они были… неправильными. Раз-Два-Сникерс припала ухом к двери, вся превратившись в слух, и снова позвала:
— Шатун! Это я.
Ей приходилось вот так ждать его и прежде. Не раз. Только сейчас всё было по-другому. Там, за бункерной дверью, да и вокруг самой насосной станции всё было по-другому и гораздо хуже. Не проходило чувство, что чьи-то таящиеся во тьме глаза напряжённо и неприязненно разглядывают её, как насекомое через лупу, прикидывая, насколько хлопотным может оказаться визитёр. Она впервые подумала о том, что, возможно, этот мутный страх, пока ещё легким холодком обдувающий спину, — не только реакция её организма на давящие плохие вибрации Станции.
— Это я! Шатун, открой, пожалуйста.
Её голос прозвучал странно. На ум пришёл стеклянный продолговатый предмет, который сломали. Будто вскрывают медицинские ампулы. Потом она поняла, что в её мире давно нет медицинских ампул, и последний раз она слышала этот звук ещё в детстве.
Раз-Два-Сникерс медленно отпрянула от двери, и опять мороз иголочками предательски прошёлся по спине. Она резко обернулась. Никого. Лишь движение теней. Тени в бледном лунном свете, скользящие по стене Станции. Она нахмурилась, поддавшись какой-то неясной печали, затем скидывая с плеч это тошнотворное оцепенение, забарабанила в дверь. Удары прозвучали глухо, так можно было колотить по безмолвному камню. Да только она начала понимать, что привлекло её внимание. Звуки. Звуки, которые прежде не удавалось идентифицировать. Почти неразличимые, но они были. Какие-то невероятно далёкие, будто явившиеся в горячечном бреду, торжественные марши. И, невзирая на весь радостный музыкальный строй, это от них делалось так невыносимо тоскливо.
И снова что-то заставило её обернуться. Потом она перевела взгляд на глубокую угловую нишу в стене насосной станции. Там кто-то стоит? Вроде бы нет. Лишь неверная игра теней. Странно, но Станция торчала на берегу особняком, вся растительность, кроме сорной травы, отступила. Единственный росший неподалёку ясень — сильное дерево — и тот зачах, стоял с поникшими ветвями, из него были выпиты все жизненные соки. Так что вроде бы нечему отбрасывать эти прячущиеся в дальнем углу тени.
Она вспомнила, как Фома, смущаясь, обронил пару скупых слов о какой-то ненормальной маршевой музыке. Теперь и она это расслышала. Её лицо застыло, а губы несколько болезненно скривились. Звуки были нехорошими, неправильными. Только в отличие от Фомы Раз-Два-Сникерс понимала, что они могли означать.
«А Шатун в беде», — вдруг подумала она.
Из-за его ночной, во сне, болтовни она знала о нём побольше, чем кто-либо другой. Больше, чем сам Шатун желал бы допустить. Хорошо, что он об этом не догадывался. Она знала о Парне Бобе и всех остальных. С пониманием смотрела на то, как Шатун носится со своей музыкальной шкатулкой, и на его странную, похожую на одержимость, увлечённость блюзом. На канале к подобному относились с пониманием и даже уважением. К фетишам, заскокам, вере, убежденности, но и к суевериям. Каждый день в тумане и таких местах, как, к примеру, Станция, оживали не только потаённые страхи. Люди встречались с вещами и похуже. И самым плохим, на её взгляд, были потаённые мечты. Раз-Два-Сникерс даже как-то пыталась заговорить с Шатуном об этом.
— Нет, моя дорогая, — прервал он её. — Это совсем не так. Станция… Я понимаю, о чём ты, но это вовсе не наши проекции. Это всё существует на самом деле и гораздо более реально. И уж если на то пошло, я готов допустить, что это мы, мы все, являемся проекцией того, что находится в Станции. — Он помолчал и усмехнулся. — Так что никакого Соляриса. Там всё реальней нас всех.
Шатун, конечно, шутил. Занимался самолюбованием. Его эффектные речи пользовались определённым спросом у окружающих. Самодельные, грубо склёпанные ликбез-откровения, от которых в ужас и уныние пришёл бы любой учёный и посмеялся бы любой гид, в дремучем мире канала снискали себе неплохую цену. Вооружённый до зубов проповедник с несомненным даром влияния на людей и берущий на себя ответственность за самые безумные решения пришёлся очень кстати. Раз-Два-Сникерс была уверена, что в глубине души очень неглупый Шатун и сам потешался над созданным образом. Она ему не мешала. «Мальчики» должны забавляться, тем более если это позволяет им доминировать.
Сейчас Шатун перестал забавляться. Сейчас, с каким-то неприятно-посасывающим, мутноватым чувством Раз-Два-Сникерс подумала, что, возможно, шутливая маска скомороха оказалась необходимой прежде всего ему самому. Скрывая очень серьёзные и очень опасные намерения. Тогда он действительно в большой беде.
— Шатун, открой! Пора бы нам уже поговорить.
Лёгкие, как пёрышки, ночные облака расчистили проём, и в нём проступил неполный бледный диск, плывущий в ночном небе. Размазанный лунный свет упал на её лицо. И что-то тупой занозой кольнуло в сердце, вызвав глухую, болезненную тоску. Снова она посмотрела на скользящее движение теней. Непроизвольно передёрнула плечами. Страх вернулся, но теперь засел значительно глубже. И словно в насмешку эти невозможные марши зазвучали отчётливей.
Незнакомая ей самой, чуть затравленная улыбка начала растягивать её плотно сжатые губы. Похоже, теперь там, за бункерной дверью с засовами собеседником Шатуна, неважно, мысленным или реальным, — чувствуя эту непреходящую занозу в сердце, она подумала, что всё более склоняется к последнему, — был вовсе не Парень Боб. Не гениальные фрики, создатели блюза.
Она провела языком по высохшим губам; во рту появился незнакомый кисловатый привкус меди.
— Лия! — сама не ожидая, вдруг вымолвила она.
Подчиняясь прозвучавшему внутри неё требованию, повелению защититься, как детским оберегом, дорогим именем в этом скверном месте. Быстро отошла на несколько шагов от насосной станции. Затем немного склонила голову набок. Возможно, её взгляд, сверлящий бункерные засовы, чуть потемнел.
— Значит, ты всё-таки нашёл туда дорогу, — надтреснуто и глухо проронила Раз-Два-Сникерс.
И тут же поняла, что ей надо немедленно отсюда уходить. Потому что издевательски-приглушённый марш зазвучал совсем рядом.
— Лия, — прошептала Раз-Два-Сникерс.
Но имя её детской подруги, светлого Божества, сказавшего ей о любви, наверное, глупо и невозможно было противопоставлять голосу мёртвого мира. Она могла попытаться спасти лишь себя. Это была её вера. Её маленькое тайное оружие. Раз-Два-Сникерс не ошиблась насчёт намерений Шатуна. А теперь пора отсюда уходить. Бежать, если у неё осталась такая возможность.
Что-то протяжно ухнуло: стон, выдох? Тёмный воздух вокруг затрепетал, обдав её шершавой волной. Краешком глаза, боковым зрением она уловила какое-то движение в углу. Надо уходить, бежать. Только какая-то ватная усталость разлилась по телу, и она снова обернулась к дальней угловой нише. И поняла, что стонала, скорее всего, сама.
Это на стене было не совсем тенью. И Раз-Два-Сникерс, конечно, какое-то время видела это. Её сознание игнорировало происходящее как невозможное, да только она видела с самого начала, пока пыталась дозваться Шатуна. Похоже, но не совсем тень. И не нужно, невозможно туда смотреть. Главное — не смотреть!
Однако парализованная страхом, она впервые, как завороженная, оказалась не в силах отвести взгляд. Её зрачки расширились, и если б она смогла, то с изумлением обнаружила, что продолжает издавать эти постанывающие звуки. Но видела она с самого начала! Как медленно увеличивалась тень на стене. Которую здесь нечему отбрасывать. Как она, густея, уплотнялась в бледном лунном свете, вырастала из дальней угловой ниши. И как сначала незаметно, однако с каждой уродливой метаморфозой всё больше становилась похожей на человеческий силуэт, превращаясь в человеческую фигуру.
Да только на самом деле всё обстояло гораздо менее приятно: там, на стене рос и превращался в силуэт всего лишь изображения человека, каменного изображения. Исполинской статуи.
«Не надо смотреть, — попыталась она сказать себе, включиться, начать действовать и отогнать эту высасывающую её тоску. — Просто уходи».
И почувствовала, как что-то заставило её плотно свести ягодицы. Размеры Станции уже не вмещали тень каменного изваяния, но она продолжала увеличиваться. Будто каким-то непостижимым образом отделилась от стены и теперь росла угрожающей чернотой на и без того тёмном ночном небе. А потом эта тень двинулась, поползла прямо на неё. Раз-Два-Сникерс почти беззвучно заскулила.
Теперь это уже был не страх. Тёмный металлический ужас сковал все её внутренности. И она уже не могла рассуждать, химия ли это или что-то ещё. Осталось одно: бежать. На слабеющих, подкашивающихся ногах она попятилась, сделала несколько шагов назад. И остановилась.
Он приближался; он был из камня, но его шинель каким-то невероятным образом развевалась, а пустые каменные глаза, казалось, видели её, изливаясь молчаливой, жуткой, но живой тьмой.
«Вот кто теперь стережёт Шатуна, — мелькнула слабая, липкая, как кисель, и похожая на капитуляцию мысль. — Он пришёл. Страж канала. Каменный призрак Второго вождя».
Всё же она смогла выдохнуть:
— Лия!
И уже значительно громче:
— Лия.
И увидела, как на короткое мгновение между нею и наваливающейся на неё чудовищной тенью мелькнул образ, которого она не забывала. Зелёные глаза, улыбка, весёлые морщинки, волосы, пахнущие одновременно свежестью и теплом, и забота слов, в которые теперь почти невозможно поверить: «Я буду всегда с тобой, моя маленькая». Но почти — не в счёт. И этого короткого мгновения хватило, чтобы вспомнить, что в её жизни давно уже всё переменилось и она так же давно уже ничего не боится. Раз-Два-Сникерс подняла голову, чтобы взглянуть прямо в каменное лицо Вождя.
— Я ухожу и не буду беспокоить тебя больше, — со спокойным достоинством произнесла Ра-Два-Сникерс.
Она не знала, что произойдёт дальше, но не стала дожидаться, какую реакцию вызовут её слова. Не глядя больше на каменный призрак, она развернулась и двинулась в сторону казарм, где Фома расположил на ночлег её людей. Сердце бешено колотилось, и в какой-то момент ей показалось, что каменная рука тянется к ней, что она совсем рядом. Тогда Раз-Два-Сникерс остановилась, сделала глубокий вдох и, не поворачивая головы, повторила спокойным и сильным голосом:
— Я ухожу. И тебе нечего здесь шастать. Возвращайся в туман.
Она пошла дальше. И чувствуя затылком жалящее дыхание холода, не позволила себе перейти на бег. Не позволила панике вновь одолеть себя и сделать уязвимой.
Однако добравшись до освещённого электричеством периметра, она всё же остановилась и обернулась. Не было больше каменного призрака. Не плыла хищной тенью в ночном небе исполинская статуя. Лишь в глухой угловой нише Станции таилось нечто, напоминавшее съёжившуюся до обычных размеров человеческую тень.
Ей не захотелось больше здесь задерживаться. И всё же у неё осталось одно незаконченное дело. Бросив прощальный взгляд на бункерную дверь, она произнесла достаточно громко, и голос её больше не дрожал:
— Ну что ж, Шатун, ты заставил меня вспомнить о самом прекрасном и самом тяжёлом, что было в моей жизни. — Помолчала. Никаких сомнений у неё больше не осталось. Лишь еле уловимая горькая нотка сожаления прокралась в голос, когда она добавила: — Я хочу, чтобы ты знал, и уверена, что здесь найдётся кому тебе об этом сообщить: я не предавала тебя. Я только хочу исправить то, что ещё можно исправить.
И уже не тратя времени попусту, она направилась от Станции прочь. Она понимала, что, скорее всего, никогда больше сюда не вернётся. Эта страница её жизни только что была перевёрнута.
«Хорошо, что есть Неверующий Фома», — вдруг подумала Раз-Два-Сникерс. С этим действительно маленько повезло. Из всех её храбрых мальчиков только Фома с его неверием сможет сделать то, что теперь понадобится. Да и то только при ярком свете дня.
* * *
А Шатун был уже очень далеко от этого места. Хотя пароход Вождя всех народов, несший надпись «Октябрьская звезда» — а именно так звался этот недавно спущенный на воду пассажирский лайнер, — только что прошёл соседний шлюз № 5. Поднявшись в верхний бьёф и весело загребая колёсами волну, пароход направился дальше, в сторону гостеприимной Москвы, о которой Шатун боялся даже мечтать. Теперь он был убеждён, что именно там, где-то в самой сути этого солнечного города, в его потаённом сердце, открытом северному ветру, находился угаданный Парнем Бобом Архангельск. И Шатун там ещё окажется. Непременно окажется. Как только покончит с некоторыми неотложными делами.
На выходе из верхней головы пятого шлюза их пароход встретила восхитительной белизны и пропорций скульптура морячки с парусным корабликом в руках. Барышню явно лепили с писаной красавицы, и, наверное, те маменькины сынки, что валялись у её ног, звали её богиней. Но стоило признать, что Морячка впечатляет. «Интересно, из чего она сделана? — подумал Шатун. — Прямо светится изнутри, как фарфоровая. И ни одной щербинки. Очень сильный материал». Шатун всегда ценил тех, кто был сделан из сильного материала.
— Ну что, всё ещё мёртвый свет? — услышал он добродушный вопрос. Вождь приветливо улыбался и со своей непередаваемой лукавинкой в глазах посматривал на него.
— Это великолепно, — честно признался Шатун. У него немного пересохло в горле.
— Видите ли, в чём дело. — Вождь улыбнулся ещё шире. — Каждый из нас владеет своим царством. И вы, и я — любой! И то, насколько вы в нём уверены внутри себя, позволяет ему, так сказать, распространиться «вовне». Вы в своём вполне уверены, судя по тому, что оказались здесь. — Лукавинка превратилась в озорную искру. Хозяин гостеприимным жестом обвёл берег канала. — Это моё царство. Вы видите, конечно, не всё. Надеюсь, оно значительно обширней, и некоторые его границы скрыты даже от меня.
«Именно поэтому вы приняли моё предложение», — пронеслось в голове у Шатуна.
Последовал лёгкий смешок.
— Вы, товарищ Шатун, и впрямь как раскрытая книга, — столь же добродушно заметил хозяин. — Да, вы правы, и поэтому тоже. Однако ж, возвращаясь к нашей теме, это не «мёртвый свет». Здесь всё живо. А мёртвые там, — он как-то неопределённо махнул рукой, — где этот пьяница-паромщик перевозит через реку. Кстати, там его царство. И уверяю вас, оттуда нет возврата.
«Но ведь они как-то возвращаются», — эта мысль родилась прежде, чем Шатун успел спохватиться, но Вождь лишь с интересом посмотрел на него и ничего не сказал.
Корабль шёл вверх по каналу. До шлюза № 6 оставалось два километра. Шатун смутно помнил, что где-то эти места прозвали Тёмными шлюзами, и, вероятней всего, неотложные дела ждут его здесь. Что ж, Хардов, почти брат, перехитрил всех: аплодисменты. Всех, кроме Шатуна: бурные продолжительные аплодисменты!
— Хотите услышать, о чём она поёт? — Вождь указывал на скульптуру Морячки, глаза его весело блестели. — Хотите? Возьмите меня за руку. Ну, берите, не бойтесь. Сказал же, не укушу.
В горле пересохло ещё больше. Шатун был готов зайти очень далеко, однако… В этом было что-то беспощадно-интимное, смущающее до слабости в паху. Очкарик в мягкой шляпе, Лаврентий, не присоединился к ним на открытой палубе, по-прежнему восседая за обеденным столом под навесом и пристально поглядывал на Шатуна из своей тени. При словах «не укушу» он выдал свой привычный заливистый смешок. Шатун подумал, что если у него сейчас будут дрожать пальцы, это станет верхом бестактности. Но ничего, если всё сделать быстро… Шатун ухватился за край рукава.
— Не за китель, — рассмеялся хозяин. — За руку.
Шатун посмотрел на обнажённую кожу. Он нашёл её такой же, словно светящейся изнутри, и белизны то ли восковой, то ли фарфоровой. Перед глазами поплыли круги. Шатун взял Вождя за руку. С губ сорвался лёгкий стон. Вопреки ожиданиям рука не оказалась до ледяного холодной. Шатун поднял голову и с изумлением посмотрел в лицо гостеприимного хозяина.
— Что же вы смотрите на меня, товарищ Шатун? — ласково улыбнулся хозяин. — Смотрите на морячку.
Шатун поступил, как ему велели. И тут же услышал нежное, уколовшее прямо в сердце, чарующее и бесконечно желанное пение:
— Бон вояж! Bon voyage!
— Слышали? — поинтересовался хозяин. — Она провожает нас. Желает счастливого пути. Bon voyage! Так говорят тем, кто отправляется по воде.
Шатун молчал. Только что с ним стряслось нечто, озадачившее его. Когда он смотрел в увенчанные кустистыми бровями глаза своего хозяина и на один короткий миг увидел в них нечто ошеломляющее. Восхитительное, пронзительное. То, что способно было сокрушить, чего ему всегда не хватало, что, сам не зная, он, оказывается, тихо и тайно искал. Избавление от сиротства. Такого не приносили даже минуты, когда он занимался любовью с Раз-Два-Сникерс. И озорные лукавинки, что плавали в целом море заботы, выплёскивающемся из этих глаз, вдруг показались ему такими… родными, что он на тот же миг почувствовал себя беззащитным, как ребёнок, почти обнажённым.
«Вот почему они все так боготворили его. Ради него они готовы были жить и ещё больше умирать».
И слова, все слова, правдивые и долго утаиваемые в его бронированном нутре, готовы были начать изливаться из него. Он чуть не пожаловался, что она их возвращает. Старая уродливая ведьма Сестра (уж Шатун-то видел!), которую Хардов принимает чуть ли не за прекрасную фею или кого там… Это всё из-за неё. Но… Короткий миг прошёл. Шатун смущённо молчал. Лишь горло высохло совсем.
— Что же вы всё не отпускаете меня? — весело полюбопытствовал хозяин. — Ну же!
Шатуну потребовалось усилие, чтобы разжать пальцы:
— Простите…
Вождь с улыбкой кивнул.
— Но хочу вам кое-что сказать, — сообщил он. — Знаете, вы не правы. Она вовсе не ведьма.
— Что? — не понял Шатун. Звук вышел сухим.
— Товарищ Сестра — опасный противник. И это ещё одна причина, по которой мы сочли ваше предложение дельным. Очень опасный. Но она не ведьма.
Шатун не знал, что возразить, и молчал.
— Хотя кое в чём вы верно информированы, — похвалил хозяин. — Она их возвращает. Точнее, даже не так. Нельзя вернуть то, что утеряно безвозвратно. Но, памятуя наш разговор, она помогает им избежать царства Харона.
На одно короткое мгновение холодный ветерок заструился по лицу Шатуна, но вот всё прошло.
— Бессмертие? — сипло выдавил он.
— О-о, вы уже на миг пожалели, что не остались с вашими друзьями, — усмехнулся Вождь. — Нет, конечно. Человеческий удел неизменим. Бессмертны другие. Скремлины.
— Но… как же, — промолвил Шатун. Удивление чем-то шероховатым прошлось по его гортани. — Ведь скремлина очень легко убить. И нам не раз приходилось… бешеных…
— Совершенно верно, легко. Но в тумане, где им ничего не угрожает, скремлин может жить сколь угодно долго. Сильное создание. Там, в тумане… в них изначальная сила вечно возрождающегося мира. Это древняя история. — На секунду лукавинка в глазах Вождя уступила место чему-то другому, что Шатун не посмел бы определить. — В этом смысле можно говорить о бессмертии. И знаете, что нарушает его, почему скремлина становится легко убить?
— Что? — хрипло сказал Шатун. В его горле теперь образовалась твёрдая корочка.
— Любовь. Да-да, не смотрите на меня так. Именно это! Такой они делают выбор. Любовь лишает их чистоты, — короткая усмешка, — непорочности бессмертия.
— Но… как?
— Что «как»? Ну, например, когда наносят укус. Делятся своим бессмертием. Вы же умный человек, товарищ Шатун, и много читали, но ещё больше посмотрели, походили по свету. Где вы видели по-другому? Как говорится, за любовью — неизбежность смерти.
Шатун разлепил ссохшиеся губы.
— За возможность возвращения для гида они жертвуют своим бессмертием?
— Скажите, а вы знаете хоть кого-нибудь, кому не пришлось бы расплачиваться из-за любви? — Лукавая искорка переросла в пляшущие насмешливые огоньки. — И не смотрите на меня так, умоляю, пожалейте Лаврентия Палыча!
У него из-за смеха раз выпала грыжа… Но не будем им завидовать, товарищ Шатун. Тем более что это всё равно не для вас. Вы уже давно выбрали другой путь.
— Ну, хорошо, пусть так, — задумчиво протянул Шатун. — Это действительно хорошо! Скажи вы мне о чём-то типа реинкарнации или прочей восточной дребедени… ой, простите… я бы решил…
— Зачем мне водить вас за нос? — запротестовал хозяин, впрочем, вполне дружелюбно. — В данных обстоятельствах это неуместно. Это за рамками наших отношений.
— Да, — согласился Шатун. — Но… я всё равно не могу понять… Ведь они начинают всё сначала?! Я… не могу понять, как она…
— Как она возвращает их детьми? — задорно рассмеялся хозяин. — Такой был вопрос? Как и почему?
Мимо проплывала Икша. Нарядная, чистенькая, торжествующая. Может, в мире древних строителей действительно не существовало смерти? А вся пролитая кровь лишь кормила это юное Солнце?
И тогда вдруг подал голос упомянутый Лаврентий Палыч:
— Как она возвращает их детьми, товарищ Шатун, вопрос, конечно, важный. — Он поднялся из-за стола, и теперь половина его фигуры оказалась на солнце, а другая, словно прочерченная перпендикуляром, оставалась в тени. — Но вы ведь и сами кое-что смыслите в мистификациях, правда? — Вождь изобразил на лице шутливый укор, и Лаврентий Палыч, как бы оправдываясь, добавил: — И правильно, следует защищать своё царство!
— Ох, Лаврентий, ты у нас и вправду впереди паровоза, — добродушно пожурил его хозяин. — В принципе, всё верно. Однако главная мистификация — это та, которая ничем на себя не указывает. Древние строители живут в полном счастье, как видите. Или, к примеру, что может быть естественней детей? Подумайте об этом.
Шатун кивнул. Лицо хозяина оставалось безмятежно доброжелательным. Комедиант Лаврентий изображал торжественность, но, казалось, с трудом сдерживал приступы смеха.
— Всё это отвечает на вопрос «почему», — сказал Шатун. — Но не отвечает на вопрос «как».
Хозяин не поменялся в лице, когда произнёс:
— Что ж, рад, что мы в вас не ошиблись, товарищ Шатун. Вы действительно умны. И почти всё поняли сами. Осталось только правильно сформулировать конечный вопрос.
— Конечный вопрос?
Хозяин ободряюще кивнул.
— Но… это он и есть. Ведь если мы отметём всякие фокусы и эти байки про омоложение, то… ведь…
— Ну, что же вы растерялись? — с прежней добродушной миной поинтересовался хозяин. — Почти сами на всё и ответили.
— Я… не… — хрипло начал Шатун. И впервые усмехнулся, даже не осознав, что усмешка вышла несколько затравленной.
Хозяин вздохнул, словно ему всё же пришлось выполнить за визитёра часть работы, и с очень вежливой улыбкой спросил:
— А вы уверены, что они дети?
12
Утром, наблюдая, как заканчивается погрузка в её лодку, она была бодра, собранна и много шутила. Тяжёлый отблеск ночи и огромные круги под глазами, которые Фома заметил на её лице, когда она вернулась вчера от Станции, прошли, как отступает дурная болезнь, которая не смогла одолеть.
«Как и не на Тёмные шлюзы идёт, — подумал о ней Фома. — А ведь там всяко может случиться».
Когда Колюня-Волнорез принял на борт выкрашенный красным запечатанный ящик, словно там хранился противопожарный инвентарь, она спросила у Фомы:
— Ракетницы в порядке? Проверил?
— Боеспособны, — доложил тот. — Всё, как ты просила.
— Спасибо.
Она улыбнулась. Фома молчал.
— Смотри, не переборщи с зарядом, — сказала Раз-Два-Сникерс. — А то покалечим босса.
Фома кашлянул, мол, своё дело знает. Его всегда удивляла способность Раз-Два-Сникерс говорить о Шатуне как о ком-то постороннем. Поди их, баб, разбери, но кое-что в ней явно заслуживает восхищения.
На борт лодки Раз-Два-Сникерс взошла последней. Принимая от Фомы швартовый, она склонилась к нему и негромко сказала:
— Не проспи. Будь очень внимателен.
— В этом можешь на меня положиться, — угрюмо кивнул Фома.
И лодка отчалила.
Глава 15
Линия застав и решение Хардова
1
Ещё до подхода к Тёмным шлюзам им впервые пришлось воспользоваться помощью скремлинов, взятых на борт у Ступеней, и капитан Кальян увидел то, чего за всю карьеру гребца ему прежде видеть не доводилось.
Туман появился там, где его никто не ждал. Старый Дмитровский тракт, обезлюдевший ещё у четвёртого шлюза, был пока чист, однако ответвления от него, давно взломанные корнями деревьев и поросшие сорняком, всё чаще ныряли в узкие пока полоски сероватой дымки. По мере продвижения от Деденёва дорога совсем пришла в запустение. Вспомогательный обводной канал здесь кое-где совпадал с естественным течением речушек Яхромы, Волгуши, Икшенки, но всё больше прижимался к основному руслу, сходясь клином у линии застав. Пару раз они встречали одиноких путников, провожавших лодку хмурыми взглядами. Таких подозрительных личностей, промышлявших по краям обжитых территорий мелким разбоем, Матвею приходилось встречать и раньше. На крупный купеческий караван они напасть не решились бы, их поживой были небольшие лодки, ушедшие в рейс на свой страх и риск. Про них говорили, что они живут в землянках на месте деградировавших деревень и убеждены, что под землёй им удастся уберечься, если придёт туман.
Последнюю попытку объединённой шайки напасть на купеческую флотилию дмитровские полицейские пресекли довольно жёстко, и, в общем-то, люди были благодарны им за это. А купцы ходили за Тёмные шлюзы. И нанимали капитанов. В том числе и Кальяна. От них Матвей и получил своё прозвище: любил он одно время мастерить самодельные кальяны, разбирался в табачных смесях, колдовал с водными добавками и устраивал курительные церемонии. Правда, давно это было.
— Передашь своим: при попытке напасть открываю огонь без предупреждения! — крикнул Хардов человеку на берегу.
— Я здесь не для этого, — угрюмо откликнулся тот. Потом его взгляд быстро и как бы против воли скользнул вперёд по течению канала на мост, перекинутый от тракта на левый берег. Это и ещё масляный блеск, мелькнувший в глазах, и выдали его намерения.
— И не надейся, — бросил ему Хардов.
В ответ тот лишь продемонстрировал нагловатую ухмылку человека, которого застукали за непристойностью, обнажив ряд чёрных, полусгнивших зубов.
— Проклятый мародёр, — тихо, сквозь зубы процедил Хардов. — Хочет поживиться за наш счёт. Пристрелил бы, да пули жалко.
— Не жалей. — Из носовой каюты показалась Рыжая Анна. В руках влажное полотенце, на лбу обеспокоенная складка. Анна макнула полотенце за борт, выжала его.
— Как он? — тут же спросила Ева.
— Плохо. — Рыжая Анна поморщилась. — Жар не спадает. Горит весь.
— Он зовёт кого-то. — Девушка казалась очень бледной, и голос её совсем упал. — И меня называл… путал с кем-то…
— Он бредит, — перебила её Анна с непонятной твёрдостью в голосе. — Но уже меньше.
— Ну что же с ним?! Пожалуйста, позвольте, я могу помочь. Я ухаживала за папой, когда он болел.
Анна ничего не ответила, только пристально посмотрела на Хардова. Кальян так и не понял, действительно ли на лице гида мелькнула еле уловимая болезненная гримаса.
— Не в этот раз, — сказал ей Хардов. Он разглядывал приближающийся мост. Потом более мягко добавил: — Мы делаем всё возможное, милая.
Анна вздохнула. Хардов указал на её полотенце:
— Там, под мостом, будет подходящая вода.
Рыжая кивнула. На мгновение её взгляд задержался на том месте, куда смотрел Хардов, и она снова скрылась в каюте.
Матвей Кальян не лез в чужие дела. Хотя всё больше вопросов стучалось в его голову, и на некоторые из них он как капитан должен получить ответы. Хардов, Ева, макаровский мальчишка Фёдор, вот ещё и рыжая красотка… Матвей неплохо разбирался в людях и понимал, что всё несколько не так, как виделось вначале. Да что там, его прямо-таки распирало любопытство. Но, наверное, у них у всех сейчас найдутся заботы посерьёзней. Мост… И Хардов словно подтвердил его мысли.
— Подарок, ты можешь припомнить подобное в дни летнего солнцестояния? — спокойным голосом поинтересовался он.
— Ни разу не видел, — быстро согласился альбинос.
— Да вот и я, — кивнул Хардов. Он смотрел на мост. — Это не простой туман.
* * *
Неприветливый пейзаж по правой стороне и сероватые дымчатые языки, выползающие на Дмитровский тракт, гребцов никогда особо не беспокоили. Другое дело — противоположный берег. Этот мост впереди, последний перед Тёмными шлюзами, прозвали Зубным. Так же, как и Ступени, он считался скверным местом, и люди предпочитали здесь не задерживаться. Вроде бы на него с далёких Сорочанских курганов и с ядовитых болот, что затянули низины между ними, иногда приходил туман, нависая плотными клубами над левым берегом. Говорили, что в особо плохие дни туман мог даже продвинуться дальше по мосту, хотя вода канала всегда его отпугивала.
Правда, за всю свою бытность капитаном Матвей Кальян никакого тумана здесь не видел и обычно проходил это место без особых проблем. Днём. А болтаться по ночам вблизи Тёмных шлюзов, наверное, даже Хардову не взбрело бы в голову. Матвей полагал, что эта местная деревенщина (Хардов только что назвал его мародёром) с наступлением заката пряталась по своим землянкам и до следующего утра, до полного восхода солнца даже носу не показывала. Так или иначе, но туман отравил воду под мостом у левого берега, и теперь она убивает всякую хворь. Сразу после новолуния. Так говорили.
Насчёт любой болячки Матвей судить бы не брался, но вот по поводу целебного воздействия местной водицы на дёсны было широко известно. Смекалистые люди даже организовали её доставку в Дмитров. Отсюда, кстати, у купчишек с домочадцами и прочих зажиточных горожан их белоснежные улыбки. Теперь вот Хардов сказал про отравленную водицу своей рыжей подруге, а мальчишка, Фёдор, явно не зубами маялся.
Когда его привели вчера в потёмках, он был очень плох, еле на ногах держался, и, судя по всему, ночью его состояние не улучшилось. Гиды, как всегда, были скупы на объяснения, лишь обменялись тревожными и маловразумительными репликами. Очень тихо. Вроде бы Рыжая сказала: «Это случилось там». «Не может быть. — Голос Хардова будто треснул, будто прозвучал из-под земли. — Ещё слишком рано».
А потом Рыжая сказала что-то странное, и Кальян бы не смог поручиться за достоверность. Но она упомянула какой-то манок. Вроде бы «манок снова светится». Дальше они перешли на шёпот, и Матвей по профессиональной привычке не стал вслушиваться. Ваня-Подарок был хмур, пока вёл мальчишку в каюту, а Еве (и вот это оказалось самым неожиданным!) пришлось провести остаток ночи, досыпать под открытым небом. Матвей укрыл её дополнительным одеялом, но Хардов сел рядом с девушкой, давая понять, что присмотрит за ней. Вахту несли по очереди, Фёдор всю ночь простонал, но, как выяснилось, гид так и не сомкнул глаз.
А вот утром, когда проходили шлюз № 4, сорока донесла, что вчера случилась большая буча в «Лас-Вегасе». И Кальян даже подумал, уж не там ли мальчишке намяли бока, — судя по всему, досталось ему здорово. Этот вопрос потянул за собой другой, вопросы ветвились, множились, и Матвей обязательно задаст их. Но позже. Когда они пройдут Зубной мост. Потому что никогда прежде капитан Кальян такого не видел.
Туман двигался. Теперь Кальян мог утверждать это наверняка. Узкая белёсая стрелка протянулась по разбитым остаткам дороги, вполне возможно, что и от самих Сорочан. Но она густела и ширилась. Вначале, желая снять напряжение, что плохо действовало на команду, капитан Кальян спокойно произнёс:
— Это Зубной мост. Я частенько ходил тут.
Хардов кивнул.
— Как ты думаешь, — Матвей говорил тоном бывалого человека, оказавшегося во вполне штатной ситуации, хотя от этого странного движения тумана ему и было не по себе, — почему они не пользуются живой водой? — Хардов чуть удивлённо повёл бровью, и Матвей тут же пояснил: — У этого, на берегу, рот совсем сгнил. А они живут тут в двух шагах от целебного источника.
— Это не живая вода, а, скорее, мёртвая, — сказал Хардов. — Эти мародёры полагают туман абсолютным злом и не желают получать от него никаких милостей. Даже ценой убийственного кариеса. Наверное, мозги ублюдков настолько сгнили, что они считают зубную боль чем-то вроде очищающего страдания.
«А ты? — хотел было спросить Кальян. — Чем полагаешь туман ты?» Но понял, что это не улучшит положения. Узкая прежде белая полоса расширилась, сожрала остатки дороги и, клубясь, ползла к левому берегу, а передний край тумана уже почти достиг моста.
Гребцы понуро молчали, работая вёслами, но напряжение нарастало с каждой секундой. Если бы Кальян не знал наверняка, что это не так, он счёл бы туман разумным существом, спешащим к мосту вслед за их лодкой. А ещё он понял, что слово «мародёры» не было простым ругательством. Матвей поначалу заметил лишь одного, Хардов же сразу обнаружил их всех. Они прятались на безопасном берегу (если в этих краях уместно само понятие безопасности), между давно ржавеющими железнодорожными цистернами и с суеверным ужасом наблюдали за приближением тумана. Но при этом не разбегались прочь, и в их глазах застыл не только страх, а ещё какое-то очень недоброе ожидание.
«Значит, про Зубной мост всё-таки не брехня. — Мысль оказалась неприятной, и от неё во рту Кальяна начало пересыхать. — И про лодки, пропавшие под ним…»
А потом со смешанным чувством неприязни, возмущения и брезгливости к горлу подкатила тошнота: «Мерзкое отребье! Они, как падальщики, уже похоронили нас и ждут, чем можно будет поживиться, когда уйдёт туман».
— Никаких милостей, говоришь, — хрипло выдавил Кальян, глядя на Хардова. От напряжения липкая испарина выступила на его лбу.
— Не пытайся понять тех, кто пал столь низко. У них свои трофеи, — сказал Хардов. И вдруг улыбнулся.
Кальян помолчал. Но от этой улыбки, возможно и не вполне своевременной, ему стало легче. Она подействовала лучше любых увещеваний. Морок тяжких сомнений и липкость страха, что всегда таила в себе активность тумана, несколько развеялся. И Матвей вспомнил, как в момент знакомства мысленно назвал Хардова гипнотизёром. Сейчас он знал, что это не так. Но вот ведь интересно выходило: разгадав какой-нибудь один секретик Хардова, тут же получаешь два новых. Сам того не замечая, Матвей даже готов был позволить себе ответную эмоцию, слегка растянув губы. А потом он увидел, что творится впереди, и его короткая улыбка поблекла.
Туман достиг моста. Но это не задержало его. Всё более прибывая и густея, непроницаемо-белая, пульсирующая масса двинулась дальше, обволакивая собой весь пролёт и свисая с нижней кромки моста рыхлыми рваными клочьями. Весь левый берег под опорой уже был затянут плотной стеной, сползшей прямо к воде. И она росла вширь.
«Никогда здесь такого не видел», — подумал Кальян и передёрнул плечами. Опять в его груди засел какой-то холодок.
— Думаешь, успеем проскочить? — с надеждой спросил он Хардова. — Прижмёмся к правому берегу?
— Нет, — гид покачал головой. — Туман придёт туда быстрее.
— А если взять ровно посередине? Высота-то пролёта приличная, ему нас не достать.
— Под мостом всё может стать по-другому, — непонятно отозвался Хардов. — Тогда потерь не избежать. — Кальян как-то зябко взглянул на него, и гид тут же пояснил: — Вспомни своего рулевого. Только тут всё намного хуже. Тёмные шлюзы совсем близко.
— Да, от этого тумана становится тоскливо, — согласился Матвей. — Словно он разговаривает с тобой.
— Я думаю, самое время остановиться, капитан. Прикажи сушить вёсла.
Матвей отдал распоряжение, и эту команду гребцы тут же и с энтузиазмом выполнили. Вёсла снова легли в воду, работая теперь в противоположном направлении, чтобы инерция и течение канала не сносили лодку к мосту.
— Что дальше? Поворачивать обратно? — спросил Кальян. — Переждём?
— Бесполезно, — хмуро сообщил Хардов. — Я не знаю, что именно скрывает туман. Но он здесь из-за нас. И нам всё равно необходимо пройти. Боюсь, в следующий раз может быть только хуже.
Кальян склонился к Хардову и тихо произнёс:
— Я обещал следовать за тобой, и это так. Но лодка полностью на моей ответственности. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь.
Хардов быстро кивнул. Посмотрел на мост. Туман достиг правого берега и теперь стелился по старым железнодорожным путям, подползая к вагонам-цистернам. Казалось, что железная дорога уходила не под мост, а просто ныряла в молоко, чтоб исчезнуть там.
— Уходите! — вдруг крикнул Хардов людям, которых совсем недавно назвал мародёрами. — Бегите оттуда, если жизнь дорога.
А потом всё очень быстро начало меняться. Туман уже затянул оба берега и всё прибывал. Но даже не это заставило гребцов обмениваться тревожными взглядами. Туман стал темнеть, свет покидал это место прямо на глазах. И всё большая тяжесть ложилась на сердце…
— Надо уходить отсюда, — обронил Кальян. Он снова подумал о рулевом. Как скоро тревога, мелькающая в глазах гребцов, перерастёт в отчаяние? Он этого не знал. Но взглянув на мост, почувствовал, как холодные иголочки пробежались по спине.
Туман достиг железнодорожных цистерн. И на какое-то время пала глухая и тревожная тишина. А потом оттуда донёсся душераздирающий вопль, от которого кровь застыла в жилах. Кальян услышал, как сам скрипнул зубами и как кто-то из гребцов тихо застонал. Раздался ещё один леденящий вопль. И тут же ещё. Матвей Кальян успел подумать, что никогда ему не доводилось слышать в криках людей такой непереносимой муки, ужаса и боли. Словно их раздирали, ещё живых, на части. И мука эта длилась. Какие-то секунды, может быть, мгновения, но длилась.
И снова всё стихло.
«Три, — с каким-то странным отстранением подумал Кальян. — Значит, вот что нам уготовано. Видимо, остальные вняли Хардову, и им удалось спастись. Или их убили более милосердно».
Нет-нет. Нет там ничего милосердного, в этой хищной мгле. Возможно, туман и пришёл сюда из-за них. Но он привёл с собой какое-то слепое беспощадное чудовище, не принадлежащее миру, где существует милосердие. И ему всё равно на кого нападать. Оно не может сдержать себя и не щадит никого. Вот в чём дело. Так кто же в состоянии управиться с этим чуждым равнодушием? Простым, ясным, безжалостным, словно поднявшимся из древней Тьмы? И есть ли смысл сопротивляться такому могуществу? Не проще ли…
— Спокойно, капитан, — послышался голос Хардова.
Матвей вздрогнул и понял, что гид только что провёл рукой у него перед глазами.
— Спокойно, сейчас будет легче.
Матвей тихо выдохнул, и Хардов быстро отклонился от него.
— Анна, мне нужна твоя помощь! — позвал он. — Срочно.
Рыжая Анна тут же появилась в проёме каюты. Бросила короткий взгляд на темнеющий по берегам туман. Она была сосредоточена, но в глазах её читался вопрос.
— Думаю, белая зайчиха, — кивнул ей Хардов на плетёные клетки со скремлинами.
Глаза Анны чуть сузились:
— Хардов, они нам ещё понадобятся. На Тёмных шлюзах.
— Знаю. Но так надо.
— А почему не ты сам? Мунир вполне оправился и уже в состоянии…
— Позже. Потом поговорим. Сейчас — быстрее.
Анна быстро сдула со щеки прядь волос. Однако вопрос так и не ушёл из её взгляда. Сказала:
— Я давно этого не делала.
— И это я знаю. — Хардов с терпеливой просьбой смотрел на неё. — Пожалуйста.
Рыжая помедлила долю секунды и двинулась к клеткам со скремлинами.
— Хорошо, — обронила она. — Но ты мне скажешь, почему не ты.
И опять Матвей Кальян успел уловить быстрые болезненные морщинки на лбу гида.
Ваня-Подарок поднял оружие.
— Мост под прицелом, — доложил он.
— Хорошо. — Хардов кивнул. — Капитан, сейчас надо будет дать полный вперёд. Я скажу, когда пора.
— Все готовы, — откликнулся Матвей Кальян.
Рыжая Анна присела на борт лодки и деликатно коснулась клетки. Словно явилась на порог дома с вежливой просьбой. Открыла плетёную крышку и бережно, как ребёнка, взяла на руки молодую пушистую зайчиху. Казалось, зверёк с любопытством посмотрел на неё, а потом прижал уши к голове. Когда Анна разогнулась, Матвей увидел, что из разреза её платья на груди, свисая, показалось занятное украшение — изогнутая клыком костяная поделка с орнаментом, какой-то трубочкой и кусочком меха. Вроде шаманской побрякушки, что в моде у дмитровских бездельниц.
А мех похож на шёрстку хорька.
«Вот оно в чём дело, — подумал Кальян. — Вот как открывается ларчик: купеческая жёнушка-то у нас, оказывается…» Кальян усмехнулся. Точно такое украшение, только с пером, было у Хардова. И у Вани-Подарка. Правда, у того без каких-либо перьев и шерсти. Но не потому ли, что Иван признавался, мол, его скремлин погиб? «Она гид, — улыбнулся Кальян, глядя, как Анна что-то шепчет ушастому зверьку. — Давно мог бы догадаться. Однако сюрприз за сюрпризом…»
А ещё он понял, где видел похожий орнамент. Все концы сплелись: подобные знаки (руны, иероглифы, что-то ещё?) были нанесены на большой бумеранг Вани-Подарка.
Зайчиха смотрела Анне прямо в глаза, верхняя губа у неё зашевелилась, и… Нет, это невозможно. Зверьё не умеет улыбаться. Кальян был убеждён, что это так. Но если бы не это убеждение, Матвей сказал бы, что видел на умиротворенной мордочке зверька некое подобие улыбки. И что-то было в больших круглых глазах, что-то, от чего Матвей то ли смутился, то ли обрадовался. И стихли все звуки.
— Белая зайчиха, — нежно позвала Анна. — Я слышу твоё сердце!
Губы зверька ещё раскрылись, зайчиха моргнула, и Кальян почувствовал и в своём сердце какую-то непереносимо-пронзительную нежность. Здоровяк замер, руки его обмякли, а потом Матвей увидел, как от мордочки зайчихи залучилась голубоватая сияющая струйка. Такие же искорки осыпались с украшения Анны.
— Слышу твоё сердце, — прошептала Анна, и всё лицо её будто было омыто, купалось в этом сиянии.
— Пора! — скомандовал Хардов.
Кальян не пошевелился. Где-то между лицом Анны и мордочкой белой зайчихи родился яркий огонёк, капелька света. Сначала огонёк беззащитно вздрогнул, пошевелился, словно обнаружив факт своего существования, и весело поплыл, наслаждаясь бытием и оставляя в воздухе весёлые спиральки голубоватых завихрений. Затем, угнездившись в одному ему ведомой точке пространства, остановился. И стал насыщаться светом, расти, распускаться, как диковинный сияющий цветок.
— Пора, капитан! — жёстко прокричал Хардов.
Кальян моргнул.
— Вёсла на воду! — услышал он свой собственный голос. — Полный вперёд!
2
Ева выглянула из-за плеча Вани-Подарка. Она смотрела на капитана Кальяна. И на Рыжую Анну. И на то удивительное, что сейчас происходило. Она видела такое второй раз в жизни: Хардов на гиблых болотах слышал сердце своего ворона, хотя связь тех двоих была гораздо тоньше, глубже, интимнее. И Ева знала, что тоже так может. И может намного больше.
«Я тоже слышу твоё сердце, — мысленно произнесла она. — Спасибо тебе». И девушка с трудом сдержала собственную руку, чтобы не погладить зайчиху по пушистой, переливающейся чистой белой шёрстке.
Капитан Кальян уже отдал свои распоряжения. Лодка снова двигалась вперёд. Зубной мост приближался.
3
Фёдор открыл глаза. Там, снаружи, за пределами его сумрачной каюты что-то происходило. Перед мысленным взором он опять, как в доме Сестры, видел полёт бумеранга. Она что-то сделала с ним. Ясно, что так. И вот теперь он лежит здесь без сил. Только это ошибка. Они все принимают его за кого-то другого. Но… Не только это. Там, снаружи, происходит что-то ещё. Какой-то обман. Какой-то…
Фёдор попытался приподняться. Голова кружилась, и перед глазами тут же всё поплыло. Фёдор беспомощно откинулся на своей лежанке. Повернул голову в сторону узких прорезей окошек. Там был туман снаружи лодки, так? И ещё этот голос, который он раньше принимал за отцовский. Издевательский, насмешливый, но и твёрдый, иногда даже не дружественный, а бесконечно близкий, родной. И вот он твердит сейчас о каком-то обмане. Голос или голоса… Может, Фёдор заслуживает насмешки?
Резкая мысль, словно резкие телодвижения, вызвала слабость и новый до дурноты приступ головокружения. Фёдор отвернулся от окошек.
Ничего. Сейчас, сейчас он соберёт силы и снова попробует подняться. Он сможет. Он не знает, о чём должен предупредить, но постарается. Только чуть-чуть передохнёт и повторит попытку. Он постарается.
4
«Очень ярко», — вдруг подумал Хардов. Боковым зрением он видел, как росло и сиядо то, что Матвей Кальян принял за распускающийся цветок, и вроде бы такая сила скремлина должна только радовать, но…
«Давай, Рыжая, ещё немного и отпускай его. — Туман серой тяжестью лежал по берегам, а по центру моста набух и почернел, как грозовая туча. — Посмотрим, что там для нас приготовили. Но почему так ярко?»
Хардов уже забралу Вани-Подарка бумеранг и уже отвёл руку для замаха. Штурмовой ВСК, переведённый в режим стрельбы одиночными, он переложил в левую руку, но собирался успеть сделать несколько выстрелов прежде, чем бумеранг вернётся. Зарок, данный им на гиблых болотах, запрещал Хардову прибегнуть к помощи Мунира, а также пользоваться помощью каких-либо других скремлинов, — отныне он слеп и беззащитен в тумане, можно сказать, обнажён, — но он не запрещал ему пользоваться оружием. И нет такого зарока, который бы запретил Хардову оставаться гидом. Пусть слепым и обнажённым. Он исполнит что должно, он войдёт в туман без защиты, самим собой, таким, каков он есть, но…
«Запомни, малец, дважды достоин уважения тот, кто способен сражаться голым». Хардов усмехнулся, а рука его, сжимающая бумеранг, начала замах. Никакой зарок не заставит его перестать быть гидом. И он чувствовал, что Анна сейчас отпустит свет, чувствовал, как сосредоточен Ваня-Подарок, который теперь смотрел на мир через прицел автомата; он хранил в сердце слова Учителя, сказанные ему давно, на заре юности о том, кто способен сражаться голым.
А потом, как обычно перед схваткой, мир на несколько мгновений остановился. С левой стороны, там, где плыл огонёк, созданный Анной и белой зайчихой, стала медленно рождаться ярчайшая вспышка, и она тут же вытянулась лучом, столпом света, который устремился в сторону мглы, пожравшей мост. И одновременно так же медленно, плавно вращаясь в воздухе, к мосту полетел бумеранг, пущенный всей силой сердца гида Хардова. Впрочем, о сердце он уже больше не думал. Оружие было взято им наизготовку, и указательный палец лёг на спусковой крючок. Хардов знал, что первый выстрел сделает Ваня-Подарок. Бумеранг, пролетевший через столп света, сейчас вскроет брюхо тумана, и тут уж Ваня-Подарок не подведёт. Ещё он успел увидеть, что альбинос позаботился о Еве, предупредил её заткнуть уши и широко раскрыть рот, чтобы не оглушило.
А следующая мысль была совсем уж забавной: ведь на самом деле бумеранг, вопреки общему мнению, не является оружием. И точно так же, как сейчас действуют гиды, действовали когда-то австралийские аборигены: бумеранг, пролетая по зарослям и густой листве, лишь вспугивал птиц и прочую живность, а оружием были лук, стрелы да отравленные дротики. А потом бумеранг вошёл в туман, и внутри Хардова стала белая ослепительная тишина.
5
Когда они закончили стрельбу, в ушах Матвея Кальяна ещё стоял звон. Он сглотнул, широко раскрыв рот, и с удивлением посмотрел на берег, уже почти чистый. Лишь по разбитой сорочанской дороге, низко стелясь, отползали клочья тумана.
«Эти скремлины — просто диво, — ошеломлённо подумал Кальян. — И гиды тоже. Будет что рассказать».
Не прошло и нескольких минут с тех пор, как на мосту и по обоим берегам вблизи него стояла чёрная непроницаемая мгла. И было темно, как в сумерках. Но как только луч упал на туман, тот сразу же в месте соприкосновения начал светлеть. Это белёсое пятно поплыло, увеличиваясь концентрическими кругами и принуждая туман менять цвет от чёрного через серый к белому. Но не только.
Луч будто прожёг туман, взрезал его пополам, и тот начал расползаться в стороны, рваться на части, образуя по центру моста расширяющийся просвет. И тогда Матвей Кальян увидел, как в стенке просвета мелькнуло какое-то чудовищное перепончатое крыло, тут же скрывшееся обратно в туман. Бумеранг, брошенный Хардовым, пролетел через столп света и теперь разрезал мглу, раскрывшуюся рваной раной.
Возможно, Матвею это только показалось, но бумеранг будто сам светился, обнажая не только движение теней, прячущихся в тумане, но и какие-то вполне осязаемые тёмные скользкие пятна. По ним гиды и открыли огонь. Матвей Кальян так и не сообразил, когда Анна успела отпустить зайчиху. Но теперь она сжимала двумя руками небольшой никелированный револьвер, из дула которого поднималась тоненькая струйка дыма.
Бумеранг вернулся. Кальян даже не удивился, что снаряд почти сам лёг Хардову в руку. Подарок и Рыжая также прекратили стрельбу. Мост надвигался, и гиды выжидали. Столп света всё ещё бил по мосту, но его интенсивность начала иссякать.
— А ну, шевелись, парни! — вдруг закричал Кальян, словно почувствовав, что такое не может продолжаться долго, а ещё ощутив, что с угасанием этого света уходит какая-то нежная радость, которую он видел лишь краем, но так и не понял. — Поднажмите, как будто черти жгут нам пятки!
Но это оказалось излишним. Туман отпрянул, быстренько подбираясь, раздвигался по мосту, как сценический занавес. Но если на правом берегу остался лишь скукожившийся островок, накрывший цистерны, по левому берегу туман отползал, как раненое животное. Матвей услышал жалобные хрипы, перемежаемые хищным шипением, но, возможно, это ему только показалось. Туман уходил, пятился по левому берегу обратно, к болотам, из которых пришёл. Последние его клочки редели и развеивались, как будто их раздувало ветром, которого здесь не было.
— Всё, — сказал Хардов, ставя оружие на предохранитель. С края моста свисало какое-то студенистое тело, и оно с шипением испарялось на солнце. Хардов посмотрел, как уходит туман, пожал плечами. — Нелепо.
— Ты словно сожалеешь, — усмехнулась Рыжая Анна, — что всё закончилось так быстро.
— Какое-то нелепое нападение, — подтвердил гид.
— Хардов, — Анна посмотрела на зайчиху, забившуюся в тень под лавку (но такое с молоденькими скремлинами после их первых визитов в туман случалось часто). — А может, белая зайчиха просто оказалась очень сильной?
— Может быть, — нехотя согласился гид. — Ладно… Капитан, правь под мост к левому берегу. Наберём для Фёдора зубной воды.
Тогда Ева вскрикнула. Островок тумана на правом берегу стелился уже по самой земле, будто впитывался ею. Один из тех мародёров лежал, перекинувшись, на сцепке вагонов и был похож на нелепую тряпичную куклу, мешок с костями. Из него словно высосали, моментально выпили всю влагу, превратив в сморщенную мумию. Свисающие плетьми руки оказались почему-то тёмно-коричневого цвета.
— Не смотри туда, дочка, — сказал Еве Матвей Кальян и понял, что впервые так назвал девушку за всё время рейса. — Не стоит.
— Это… Как?.. Это…
— Не надо. Бедняге уже не помочь.
Лодка, не задерживаясь, прошла под левой опорой, и Хардов зачерпнул ведро воды.
— Этого хватит, — пояснил гид.
Гребцы, как и требовал капитан, изо всех сил налегли на вёсла, спеша поскорее покинуть это место.
Матвей Кальян только начал поворачиваться, чтобы лишний раз приободрить девушку. Движение тени оказалось очень быстрым. Что-то достаточно тяжёлое прыгнуло Кальяну на грудь, вцепившись когтями в ворот шкиперской куртки. Мелькнула уродливая взлохмаченная морда, налитые тёмно-красным злобные глаза без зрачков, и Матвей успел уловить запах чего-то подгнившего, какой-то болезни, и услышать, как визг прыгнувшей на него неведомой твари сменился шипением.
— Что?! — с отвращением вымолвил Кальян, поднимая руки.
— Господи, Хардов, она взбесилась! — непривычным, похожим на стон голосом воскликнул Ваня-Подарок. — Так быстро.
— Не двигайся! — немедленно приказал Хардов Кальяну. — Стой, не шелохнись!
— Не может быть, — обескураженно произнесла Рыжая Анна. — Ведь всего-то один раз… бедная.
— Подарок, стреляй, — быстро сказал гид. — Она твоя.
— Я… я… — Альбинос чуть отступил назад, через силу поднимая оружие.
Молодая белая зайчиха, чьё сердце несколько минут назад слышала Рыжая Анна, висела на Матвее Кальяне, и ни за что на свете капитан не смог бы предположить, что это существо способно улыбаться. Взъерошенная торчком шерсть обнажила желтоватые подпалины, тело зайчихи трансформировалось, распухая прямо на глазах, и присутствовало в этом внезапном ожирении что-то непристойное. Зайчиха хищно повернула голову, зашипев и демонстрируя ряд зубов с небольшими, похожими на кошачьи, клыками, которых не может быть у грызунов, затем несколько подтянулась по телу своей жертвы вверх. Широкая, уродливо-квадратная морда целила капитану Кальяну прямо в горло.
— Сейчас укусит, — быстро сказала Анна.
Бесшумно большим пальцем она уже взвела курок, но грузное тело здоровяка Матвея закрывало собой взбесившегося скремлина. Выстрели Анна сейчас, она бы оторвала Матвею часть уха, в лучшем случае опалив его пороховыми газами, да только укус так внезапно заболевшего скремлина станет, скорее всего, смертельным.
Анна такого никогда не видела. Обычно первые признаки проявлялись задолго до той острой стадии, которую нарекли «бешенством», и при появлении таковых скремлинов отпускали. Обычно чужие скремлины выдерживали без нанесения ущерба их здоровью до десяти-пятнадцати визитов с гидом в туман. Анна знала, что чёрные гиды, ушедшие с Шатуном, ценили, не обладая своими, скремлинов на вес золота, держали их в железных клетках и использовали по полной, даже бешеных, а потом убивали. Шатун бахвалился, что они это делают из милосердия, и Рыжая Анна даже представить не могла, как подобный человек почитался когда-то Хардовым за брата. Но сейчас всё это не имело значения. Сейчас происходило что-то другое. К тому, что белую зайчиху добьёт первый же визит, никто оказался не готов.
Анна чуть пошевелилась, пытаясь расширить себе поле обстрела. Скосила глаза на Ваню-Подарка. Она знала, что тот замешкается. После гибели своего скремлина, чью потерю он переживал очень остро, даже болезненно, Подарок замешкается. Наверное, в итоге он выстрелит, но не сразу. И Хардов словно прочитал её мысли.
— Подарок… — негромко позвал он, — ладно, отойди, я сам.
Губа зайчихи волнисто зашевелилась, опять приоткрывая эти её странные зубы. Хардов передёрнул затвор. Зайчиха напряглась и снова зашипела. Лицо капитана Кальяна сделалось очень бледным. Хардов совершил плавный и почти незаметный шаг вперёд, но ответом на его приближение стало ещё более злобное шипение. С губы зайчихи свисала ниточка слюны.
«Он провоцирует её. — Анна так же медленно двинулась по кругу, благо гребцам уже открылось происходящее и они подняли вёсла. Все ошеломлённо молчали. — Хочет, чтобы оставила капитана и бросилась на него. Опасное занятие — скремлины очень быстрые».
Однако зайчиха вдруг тряхнула мордочкой, и на мгновение в её взгляд вернулась осмысленность. Подарок выдохнул; он действительно стонал, в его голосе застыли боль, страдание. Зайчиха моргнула, словно не понимая, что с ней произошло, а потом беззащитно и доверчиво посмотрела на приближающегося Хардова. Гид поднял ствол, направляя его на тело скремлина. Всё висело на волоске. Анна сжала губы: зайчиха посмотрела на автомат Хардова и будто всё поняла. В глазах её были страдание, осмысленная покорность, страх и печаль. Она на мгновение прикрыла веки, вжав голову в плечи, и стала похожа на перепуганного ребёнка.
«Это уникальное существо может быть бесконечно нежным, а мы сделали его больным, — подумала Анна. — Вот почему Подарок не может стрелять».
Но Хардов мог. Гид ещё чуть отклонился, чтобы не задеть Матвея, и его указательный палец лёг на спусковой крючок. Зайчиха подняла голову и посмотрела на Хардова. И Рыжая Анна увидела, как она снова моргнула и какая боль была в её взгляде.
«Ну, вот и всё. Сейчас он выстрелит. Прости, белая зайчиха».
— Пожалуйста, не делайте этого! — вдруг закричала Ева.
Щека Хардова дёрнулась. Он быстро отвёл ствол в сторону, потому что девушка оказалась на линии огня, встав между ним и зайчихой.
— Не надо!
— Ева, — изумлённо произнёс Хардов. — Что ты делаешь?
Кальян пошевелился. Зайчиха снова зашипела, её шерсть встала дыбом, а глаза налились этим тёмным вишнёвым глянцем.
Хардов мгновенно взял автомат наизготовку.
— Просто отойди, — успокаивающе попросил он Еву. — Медленно, спокойно.
Но девушка, не слушая, обернулась к капитану Кальяну и потянулась к белой зайчихе обеими руками.
— Нет, Ева! — в ужасе закричала Рыжая Анна. — Не делай этого! Она больна!
Зайчиха никак не отреагировала на прикосновение Евы.
— Не бойся, — произнесла девушка.
— Осторожно, Ева, она… — начала Рыжая Анна и осеклась на полуслове.
— Не бойся, — мягко повторила Ева и потянула зайчиху на себя. — И вы все не бойтесь.
Взгляд капитана Кальяна застыл. Он видел, как белая зайчиха ослабила хватку и как её шёрстка постепенно улеглась. Мордочка зверька приобрела прежние очертания, большие круглые глаза стали нормальными, вот только страх не до конца покинул их.
Она отпустила Кальяна. И вдруг скользнула к Еве на руки. Забралась к девушке повыше, ткнулась мордочкой в шею и застыла, укрывшись в распущенных Евиных волосах.
Все поражённо молчали.
— Ну, вот и всё, всё. — Ева гладила зайчиху по белой шелковистой шёрстке. — Напугалась, бедная, но уже всё.
— Не может быть, — первым нарушил молчание Ваня-Подарок. Говорил он хриплым шёпотом, хотя так же держал оружие наизготовку и, наверное, был уже готов пустить его в дело. — Такого не бывает. Это… нет.
Анна знала, о чём он. Даже здоровый скремлин крайне опасен. Бешеный же скремлин накидывается на всё живое. В обострённой стадии может даже не разобрать своих сородичей. Хотя Анна ни разу не слышала, чтобы один скремлин причинил вред другому.
— Как же так? — Ева посмотрела на Хардова. В глазах стояли слёзы, наверное, потому, что напряжение стало отпускать девушку. — Она только что спасла нас, и в благодарность вы хотели её убить?!
— Она… была больна, — сказал Хардов. Повернул оружие стволом вверх, поставил автомат на предохранитель.
Это движение не укрылось от Анны, она отпускать курок совсем не торопилась.
— Вовсе нет, — возразила Ева. — Она была напугана. Как и вы все. — Девушка погладила зайчиху по голове, и та прижала уши к спине. — Как и я.
Никто не видел, как Фёдор появился на пороге каюты. Обессилевшие ноги не слушались его, и чтобы не упасть, ему пришлось взяться руками за проём. Но он также напряжённо смотрел на Еву. А потом перед глазами всё поплыло, и Фёдор только успел отступить внутрь и повалиться на свою лежанку.
— Давайте просто отпустим её, — попросила Ева. — Пожалуйста, пусть живёт.
Хардов взглянул на берег, по которому стелились последние остатки тумана.
— Она больна. — Гид пожал плечами. — Но, наверное, там ей станет легче.
Потом он несколько виновато посмотрел на Матвея Кальяна:
— Прости, капитан. Этого не должно было случиться.
Но Матвей не отводил взгляда от Евы.
— Давайте отпустим скремлина, — лишь сказал он.
6
— Кто она? — спросила Рыжая Анна.
— В смысле? — Хардов поморщился. Он в задумчивости смотрел на берег, где они только что выпустили белую зайчиху. Он ни разу не встречал прежде столь яркого интенсивного света. Даже Мунир был не способен на такое. А Мунир мог многое. Только Анна ошибается. Сильной оказалась не белая зайчиха. Сильным было что-то в тумане.
— Как ей это удалось? С зайчихой? Никогда такого не видела.
— Я не знаю. Может, хм-м-м… Всякое бывает.
— Хардов!
— Тише, Анна. Перепугаешь команду.
Она помолчала. Затем заговорила с нажимом:
— Послушай, там, в Дмитрове у меня, возможно, осталась разрушенная жизнь.
— Я очень сожалею, Анна.
— Правда? А я нет. Хочу, чтобы ты знал: когда Тихон попросил тебе помочь, я с радостью согласилась. Он не просил меня идти за Тёмные шлюзы. Но я пойду. И пробуду с тобой столько, сколько будет нужно.
— Анна, милая, я очень благодарен тебе. Даже больше…
— Не пытайся быть галантным. — Она усмехнулась. — Не всегда получается.
— Когда-то ты так не думала.
— Прекрати! А то сам пожалеешь. — Она взяла и несильно толкнула его в грудь. — Он хороший человек, мой муж… — Вздохнула. Лёгкий румянец ещё играл на её щеках, но Рыжая Анна уже не улыбалась. — Вижу, что нужна помощь. Но я должна знать, что происходит. Так кто она?
— Ева? Ну, она… очень необычная девушка.
— Угу, понимаю. Только я не верю историям про детей природы. Девушки в цветочных венках, которые бегают по лесу босиком, дружат с каждой травинкой и знают всех птичек по именам… — Анна покачала головой. — Так тебе не отделаться. Так что выкладывай.
— Анна, это не мой секрет, — серьёзно сказал Хардов.
Рыжая понимающе кивнула, но явно ожидала продолжения.
— Хорошо, — сдался Хардов. — Ты права. Обещаю обо всём с тобой поговорить.
Анна затрясла головой, но гид поднял раскрытую ладонь, призывая её дослушать.
— Ты действительно права, и мы поговорим. Ещё до Тёмных шлюзов. Мне только надо самому… кое в чём разобраться. Думаю, на линии застав и поговорим.
Анна вздохнула:
— Только не тяни с этим.
Она неожиданно и посмотрела Хардову в глаза:
— Ты очень напугал меня сегодня. Почему ты попросил меня работать со скремлином? Почему не сам?
Хардов молчал. Анна накрыла его ладонь своею, сжала её:
— Ведь это не…
Хардов ответил ей пронзительным взглядом, но в рисунке его плотно сжатых губ на миг проступило что-то горько-беспомощное, и отвёл глаза.
— Хардов, почему ты сам не воспользовался помощью Мунира? Или хоть бы той же белой зайчихи?
— Я не могу, — глухо отозвался он.
— Не могу?!
— Я дал зарок.
Глаза Анны расширились. Казалось, она на миг потеряла дар речи. Начала отрицательно мотать головой, выдохнула:
— Не-е-ет!
— Мне пришлось.
— Хардов, но ведь ты…
— На гиблых болотах. Иначе бы мы не вышли.
— Бог мой…
— За нами следили уже там. Я понял это на Лысом дозоре. Кто-то пробудил старые кости. Я слышал их. Да и бледные огни рыскали по туману не сами по себе.
— Я так и знала. Надеялась, что не это… О, чёрт. Чёрт!
— Такие дела, Рыжая. Так что я теперь… — И опять эта горько-беспомощная усмешка.
Рыжая Анна вдруг подалась к Хардову, обняла его и привлекла к себе.
— Анна, ну что ты? Команда…
Только она его не слушала.
— Господи… Но… Ты понимаешь, что теперь тебе нужно держаться подальше от тумана?
— Ты уж определись: бог или чёрт? — попробовал шутить Хардов.
Но она перебила:
— Это-то ты понимаешь?!
— Анна, мне пришлось. Разве поступил бы так, если б мог по-другому?
— Нет-нет. — Она согласно закивала.
— Сам не ожидал, что так… Не вовремя.
— Бедный ты мой… А на Тёмных шлюзах это равносильно как самому подписать себе смертный приговор. Чёрт! Хардов, как же так?..
Он всё же отстранился от неё.
— Анна, команда, люди. На нас смотрят. Нельзя сейчас раскисать.
— Я не раскисаю.
— Не здесь. Улыбнись. Всегда любил твою улыбку… Пожалуйста.
— Хорошо. — Она натянуто улыбнулась. — Так лучше? Ох. Как же так…
— Думаю, мы найдём выход.
— Тебе нельзя в туман! — упрямо отрезала она.
— На это и был расчёт.
— Чей? Чей расчёт?! Это туман!
Хардов неопределённо пожал плечами.
— Как собираешься проходить Тёмные шлюзы?
— Анна. — Он мягко посмотрел на неё и сам попытался улыбнуться, только вышло довольно кисло. — У меня по-прежнему в лодке два первоклассных гида. Я о тебе и о Подарке. И крепкие молодые скремлины. Придётся Ивану справиться со своей травмой. Пора, только на пользу. Выберемся.
— Ну да, конечно… О, чёрт!
— Рыжая, я молчал, потому что не хотел тебя расстраивать.
Она невесело усмехнулась. Вздохнула тяжело:
— Что ещё я должна знать?
— Ну, прости…
— Я не об этом. Ты постоянно смотришь на берег. Не знал? На остатки тумана. И зайчиху. — Анна обернулась: белая зайчиха какое-то время стояла на задних лапках, как будто провожая уходящую лодку, но теперь она опустилась и нырнула в густую траву. — Что ещё тебя тревожит? Я же вижу, что тревожит.
— Ах, это… Да. Но сам не могу понять. Слишком яркий свет, и… Понимаешь, будто за этим нападением кто-то стоит. Как-то всё…
— Хардов, кто может стоять за действиями тумана? — Анна посмотрела на него с искренним удивлением и наконец улыбнулась. Так обычно взрослые воспринимают детский лепет. Ей всё же удалось взять себя в руки. — Это хищная мгла. Ты сам всегда учил, что не следует искать в поведении тумана разумных объяснений.
— Угу. Иногда приходится менять свои взгляды.
Она с недоверием усмехнулась:
— Что ты имеешь в виду?
— Пока сам не разобрался. Только… Понимаешь, это нелепое нападение словно не совсем то, чем выглядело. Не просто бессмысленная агрессия. Хотя мародёры и попали под раздачу. Но… Больше похоже на проверку.
— Проверку?
— Ну, да. Проверку. Разведку боем.
7
Матвей Кальян не лез в чужие дела. Любопытство-то его одолевало, но одним из важных аспектов профессионального мастерства являлось умение ценить, уважать и охранять интересы клиентов. Историями гребцов все заслушивались, особенно после таких рейсов, но знали, что по части тайн на них можно положиться. Пусти кто слух, мол, капитан Кальян болтливый — не поверят; но подтвердись слух — и всё, на профессии можно ставить крест. Однако вопросов к Хардову набралось не только у Рыжей Анны. Сегодня их сильно прибавилось.
Из всех манящих тайн канала больше всего Матвея интересовали скремлины. В ответе на вопрос, божьи ли они твари или порождения тьмы, он всё же склонялся к первому. Но у многих был свой взгляд на вещи. Сегодня Ева спасла Матвея, отвела беду. Девчонка не только взяла скремлина на руки, что само по себе невероятно, она излечила его. Но как? Почему? Кто она такая? Даже гиды были изумлены. Кальян видел это.
И видел кое-что другое: всё больше задумчивых взглядов были как бы украдкой обращены к Еве. Плохой симптом. Ева — удивительная, восхитительная девушка, и Матвей Кальян никогда не забудет того, что произошло сегодня. Но… команда. Те, кто в лодке. Первое ошеломление и восторг от того, что совершила Ева, прошли. Как скоро появятся те же недоверие, подозрительность и опаска? И хоть команду набирал сам Тихон и вроде бы «своих» гребцов, что давно работали с гидами, всё же… Матвей Кальян прекрасно разбирался в людях, он чувствовал гребцов и знал, как управляться с любой командой. А сейчас он чувствовал, что это уже начинает происходить. Червячок сомнений зашевелился в головах многих, а когда он пролезет в сердца, справиться с этим станет почти невозможно. Боязливая подозрительность, страх чуждого, недоверие не могут быть внутри лодки.
Итак, впереди всем хватит по полной. Недоверие — не лучшая атмосфера, чтобы соваться в пекло, которое их ждёт за линией застав. Матвей ходил туда. Знал, что голоса канала там настолько сильны, что гребцы прозвали их «сиренами». И главная сирена — скульптура морячки с корабликом в руках, что стоит сразу на выходе из пятого шлюза. Она очень сильна, иногда добра к гребцам, но чаще чрезвычайно опасна. Она умеет показывать «картины», и вот это самое плохое. Однако Матвей Кальян считался везучим капитаном, поэтому его услуги и стоили так дорого. За всё время только лишь раз она показала что-то по-настоящему плохое, но Матвей Кальян говорил с ней, шептал, упрашивал прекратить, пока купцы обливались потом, воняющим страхом, и морячка вняла ему, послушалась.
В тот рейс купцы из благодарности и с перепугу даже добавили ему гонорара. А рейс был хлебным. От дальнего водохранилища, от Пироговского речного братства купцы везли в Дмитров дефицитные товары — настоящий чай, драгоценнейший кофе и натуральное виноградное вино и кое-что ещё. Матвей не совал своего носа, но давно полагал, что слухи о каких-то действующих складах с несметными богатствами, что контролируют пироговские, — не пустая брехня, и артефакты ушедшего мира попадают на канал именно оттуда. Да только вести дела с братством, особенно после раскола, было крайне опасно.
Они следовали каким-то неведомым ритуалам, иногда с ними что-то происходило, и они снаряжали человека с жёлтой повязкой на голове. Тот встречал купеческие лодки и требовал под страхом смерти поворачивать, возвращаться на канал несолоно хлебавши. Да и сам встречающий выглядел неадекватно. Что-то неуловимо странное (вот уж где чуждое!) было в его глазах, и воспоминание об этом до сих пор вызывает у Матвея неприятный холодок. Так что всякие сношения с ними являлись занятием весьма небезопасным.
Не говоря уж про путь туда и обратно.
Правда, судачили о каких-то других пироговцах, подавшихся после раскола братства ближе к загадочной Москве, куда никто из известных Матвею гребцов не добирался.
Существует ли пиратская вольница в действительности или всё это романтические бредни, на канале толком не ведали, но Хардов намекал, что взялся доставить Еву именно туда. Гид ни на чём не настаивал, лишь обтекаемые намёки. Да только Матвей Кальян действительно неплохо разбирался в людях, давно смекнул, что всё несколько иначе, чем рисовалось вначале.
И вот тут, за всем этим мелькало кое-что гораздо более весомое и значимое: истинная цель рейса. На перемену гидов в отношении Фёдора Кальян обратил внимание уже некоторое время назад. И поначалу она его обрадовала. Но теперь лишь добавила вопросов. Со случайно оказавшимся на борту Фёдором неожиданно начинают носиться как с писаной торбой, хотя совсем недавно грозились ссадить на берег за малейшую оплошность. Ева уступает ему свою каюту, прихворавшего мальчишку тащат с собой за Тёмные шлюзы, да ещё их двоих явно прячут. Если же учесть, что отец беглянки Евы (то ли от одного жениха, то ли к другому) — один из самых влиятельных людей на канале… Вопросы, вопросы… А вкупе с тем, что произошло сегодня, их количество явно не уменьшилось.
Матвей Кальян бросил быстрый взгляд на Хардова, что шептался о чём-то с Рыжей Анной, и тихо усмехнулся. Потом он прикрыл глаза и вытянул ноги. Сейчас Матвей мог позволить себе эту короткую передышку. Фёдор… Всё более странные мысли лезли в голову капитана Кальяна. Потому что существовало ещё кое-что, неизвестное Фёдору. Однако об этом давно знал Матвей, старинный приятель его отца Макара. Точнее — его приёмного отца Макара. Потому что Фёдор был найдёнышем.
Так уж случилось, что у прославленного дубнинского гребца Макара Нестерова и жены его Варвары не было детей. Вещь, увы, нередкая; говорят, за год до падения Икши в ней родилось всего четыре ребёнка. И вот когда они совсем отчаялись, канал послал им Фёдора. Малыша нашли брошенным в утлой лодочке в зарослях тростника там, где Волга сливается с Дубной, и он даже не плакал. День был яркий, солнечный, и счастливая Варвара упросила мужа дать мальчику имя, означавшее когда-то «дар божий».
Кальян чуть пошевелился, устраиваясь поудобнее. Вообще-то Макар давно собирался открыть сыну правду, неладно, чтобы парень узнал от посторонних, да мать всё умоляла с этим потянуть. Макар не желал расстраивать жену, однако твёрдо решил поговорить с Фёдором после весенней ярмарки. Только, судя по всему, мальчишка сбежал в рейс, так и не узнав тайны своего происхождения.
А потом появляется Рыжая Анна. Да ещё эти странные взгляды, которыми Хардов одаривал Фёдора (Кальян сразу заметил!), — то осуждающие, то явно неприязненные, но иногда в них мелькало что-то… нежность?
Странно, очень странно.
«А уж не Хардов ли настоящий отец Фёдора?» — вдруг подумал Кальян и от удивления даже открыл глаза и уставился на гида. Тот перехватил его взгляд, не менее удивлённый, затем сказал что-то рыжей красотке.
Кальян снова прикрыл веки. И неожиданно эта ошеломительная мысль перестала казаться такой уж невозможной. А что, по возрасту подходит. Гидам явно не до взращивания младенцев. Но молодая пара (очевидно, что у Хардова с Рыжей что-то было) нагуляла чадо, что ж тут поделать. Вот и подкинули малыша семье Макара. И всё это время тайно наблюдали за взрослением, а когда пришёл срок…
— Капитан, как я понимаю, вам не дают покоя гидовские тайны?
Матвей открыл глаза и успел подумать: «Как всё-таки он бесшумно двигается». Хардов сидел рядом и с доброжелательной улыбочкой смотрел на него.
— Не то чтобы тайны. — Матвей кашлянул. — Просто… Вроде мы на «ты»?
Хардов весело кивнул.
— Просто впереди Тёмные шлюзы, — сказал Матвей. — И очень много всего…
— Ты прав, капитан. — Зрачки у Хардова сузились, потемнели, и теперь его глаза казались больше голубыми, чем серыми. — Думаю, пора поговорить.
8
…какой-то обман
(слишком яркий свет!)
«Встань, Тео. Скремлины… Связь очень прочна».
Наверное, это был сон, но, скорее, видение, вызванное вновь подступившей лихорадкой. Широкое лезвие ножа наносит на руку неглубокий порез. К образовавшейся ранке прикладывается другая рука с таким же свежим порезом. «Были когда-то как братья», — всплывает какая-то посторонняя мысль. А потом Фёдор слышит более отчётливо: «При чём здесь Шатун?!»
И узнаёт свой собственный голос. И видит дымные языки тумана, стелящиеся над уже близкой топью. Это он задавался таким вопросом, когда Хардов вёл их через Гиблые болота. И ещё там была девушка… Ева? Нет, другая. Это он виноват. Он погубил всё, что любил. Она так сказала ему. Обвинила его: «Так же и с Шатуном!» И она права. Обвинила его перед тем, как стать чудовищем. Да только это…
(обман?)
«Встань, Тео. Связь очень прочна. Расскажи о связи».
— Ну что со мной? — бессильно прошептал Фёдор. — Что она сделала со мной? Эти голоса разорвут меня. Разорвут моё сердце, как уже почти разорвали мою голову.
Это не воспоминание. Ничего такого с ним не происходило. Он ещё ни с кем не становился кровным братом. Но…
(Он это видел! И это очень важно.)
(Нет, не видел! Это чужие воспоминания. Он видит чужие воспоминания. Много чужих…)
— Что же она сделала со мной? — снова пролепетал Фёдор.
«Перестань себя жалеть! — Суровый голос, похожий на отцовский. — Встань. И делай что должно». Ещё одна короткая волна лихорадки пробежалась по телу, и всё стихло. Фёдор знал, что они прибыли куда-то. В очень опасное место. И теперь многое зависит от него. Потому что обман прокрался сюда вместе с ним.
Но гораздо более точно Фёдор знал, что ничего не понимает. Что не может отделить явь от бреда. Почему девушка, которая стала русалкой (Лия?), обвиняла его? И почему где-то там, в потаённой глубине той тени, где рождается бред, он знает, что она права? Или ему кажется, что права?
«Здесь очень плохое место. — Голос, похожий на отцовский. — Ты уязвим».
— Для чего? — прошептал Фёдор, обращаясь к потолку каюты.
И тут же внутри прозвучало:
«Уязвим для обмана. Но это скоро закончится. Зато здесь ты открыт, чтобы слышать».
«Я не понимаю, не понимаю, не понимаю!» — собрался было бросить Фёдор в уплывающий потолок каюты. Но что-то чистым звоном отдалось в его сердце, которое он только что так жалел.
И он услышал. Совершено отчётливо. Мягкое, бережное, полное любви, но и полное силы: «Тео, мой мальчик, встань. И расскажи о скремлинах. Из-за этого такой яркий свет».
— Сестра? — позвал Фёдор. И его голос словно нарушил хрупкий баланс между бредом и явью и вернул его в реальность.
Потолок каюты стал ближе и прекратил расплывчато дрожать. Фёдор пошевелился, попытался подняться. Прошептал:
— Это ошибка. Я не тот. Понимаешь, не тот! Я сделаю, что ты просишь. Но это ошибка.
9
Когда лодка подошла к линии застав, до заката оставалось ещё далеко. Однако всё пространство за шлюзом № 5 было укрыто сумрачной мглой. Укреплённая граница обжитых территорий встретила их своей будничной жизнью, и она очень отличалась даже от того, что Рыжая Анна видела на резервной линии.
— Здорово здесь всё переменилось, да? — сказал ей Ваня-Подарок.
— До неузнаваемости, — подтвердила она. — Города, в котором я пела, больше нет. Впрочем, как и той молодой женщины. Нас обеих — ни меня, ни Икши.
— Ох, Анна, боюсь, ты изменилась намного меньше, — улыбнулся Подарок. — Ты знаешь, когда Хардов решил двигаться дальше?
— Скорее всего, он пока и сам этого не знает, — отозвалась Анна, разглядывая, что сталось с железнодорожной станцией и пешеходным мостом через пути, с которого она когда-то любовалась каналом. Сейчас на мосту, как и на башнях шлюза, были организованы дозорные посты, укреплённые пулемётными точками. Такие же Анна приметила на крышах товарных вагонов. — Ты знаешь, я видела эти товарняки. Все в разноцветных граффити и с пулемётами на крышах. Этот сон, как навязчивый кошмар, преследовал меня задолго до падения Икши. «Особенно после ночей, проведённых с любовниками», — добавила про себя Анна. — И вот всё сбылось. И даже хуже: тогда можно было проснуться.
Ваня-Подарок молча посмотрел на неё, его глаза блеснули. Он тоже видел здесь тёмные сны, которые оказались вещими. Он видел, как умрёт его скремлин. И тогда тоже оставался шанс проснуться. Но Иван не стал об этом говорить.
— А как собираются использовать эти пулемёты на крышах? — спросила Рыжая Анна, явно меняя зыбкую тему. Разговор двух гидов об оружии лучше их разговора о дурных снах. — Ведь они «по нашу» сторону границы?
— Верхний горизонт земляного вала пристрелян, — пояснил ей Ваня-Подарок. — Это на случай прорыва, чтобы обеспечить организованное отступление.
Смыкаясь у нижней головы шлюза № 5, с обоих берегов к каналу вплотную подходил высокий земляной вал. По его верхушке и, как сказал Подарок, по внешней стенке бежали ряды колючей проволоки, и через каждые метров пятьдесят были сооружены пулемётные гнёзда, обложенные мешками с песком. С внутренней стороны вдоль всего вала провели узкоколейку, и на ней Анна различила несколько вагонеток, некоторые гружённые стройматериалом, в других складированы ящики с боеприпасами. Работа по укреплению границы велась непрерывно.
— Это из-за той попытки прорыва такие меры? — негромко поинтересовалась Анна.
— Не знаю. — Подарок как-то неуверенно пожал плечами. — Люди шепчутся, что эти дикие с пустых земель, они… вроде как перестали бояться тумана. Не знаю, так говорят. А если попрёт и то и то — сама понимаешь…
Иван вздохнул. Анна, как и требовалось, с пониманием кивнула.
— В любом случае обводные каналы оставили с внешней стороны вала, — продолжил Иван. — Во-первых, отвоевали у тумана лишние кусочки суши, а во-вторых, для надёжности.
— Ты там был, по ту сторону? Я не про Тёмные шлюзы, не по воде, а… От города хоть что-нибудь осталось? — спросила Анна.
Иван посмотрел на неё непроницаемым взглядом. И снова на мгновение подумал о своём скремлине.
«Не жалей о том, что кончилось», — хотел было сказать он Анне. Но вместо этого лишь покачал головой.
— Что там сейчас, толком не знает никто. — Подарок кивнул в направлении разрушенной Икши. — А картинки мелькают разные. Иногда мгла рассеивается. Правда, не всё тебе захотелось бы видеть. Разные картинки. Но всамделишные или сирены показывают — поди различи. Так и живём, — с нерадостной усмешкой подвёл итог Подарок и, наткнувшись на удивлённо вскинутый взгляд Анны, пояснил: — Последнюю зиму я провёл тут.
Как и товарняки, все постройки, щиты, укрепляющие земляной вал, цистерны и даже вагонетки были разрисованы яркими граффити. Некоторые смотрелись довольно зловеще, но по соседству та же тема обыгрывалась с простым и даже грубоватым юмором.
— Слышала про эти художества. — Анна предпочла вновь поменять тему. — Впечатляет.
— Окультуриваем пространство, — теперь уже добродушно ухмыльнулся Ваня-Подарок. — Тихон говорит, что это наша «Берлинская стена». Только не знаю, что имеет в виду.
Анна слышала и про это. Тихон, в отличие от верхушки полиции, был против изоляционизма и считал, что рано или поздно придётся выбраться из осаждённой крепости. И так же, как и подлиннику, этой их «Берлинской стене» суждено быть разрушенной. Только Рыжая Анна не знала, хорошо это или плохо.
— Если заставы падут… — начала было она. И тогда услышала:
— Вы все принимаете меня за кого-то другого!
На пороге каюты стоял Фёдор. Вид у него был жалкий. Юношу всё ещё лихорадило, под карими глазами залегли тени, щёки впали, и на бледном лице глаза казались огромными. Матвей Кальян встретил юношу каким-то новым взглядом — то ли испуганным, то ли сочувствующим.
— За кого-то другого? — спокойно поинтересовался Хардов. Гид сидел на корме, беседуя с капитаном Кальяном, и большим складным ножом очищал кожуру с яблока.
Фёдор затравленно посмотрел на него. Вымолвил чуть слышно:
— Я не… он. Это ошибка.
— Откуда же ты знаешь, что мы принимаем тебя за кого-то? — Нож Хардова всё так же ровно скользил по поверхности яблока, срезая кожуру.
Фёдор молчал. Покачнулся, и ему пришлось ухватиться за основание мачты. Глаза заволокло, и он понял, что увидел белое платье, в котором Лия предстала перед ним на болотах. Монотонно прошептал:
— Потому что существуют сны.
— Чьи сны?
Фёдор затряс головой. Поднял руку, как бы отгораживаясь от Хардова.
— Я… Сестра… Она что-то сделала со мной.
— Нет, — холодно возразил гид. — И пока это единственная ошибка в твоих рассуждениях.
Фёдор затряс головой сильнее, хмурясь; было в его движении что-то механистичное.
— Хардов, — тихо позвала Анна. — Он ещё не готов.
Гид не сводил с юноши пристального взгляда. Фёдора перестало трясти, на миг он уставился в пол. Потом, будто вспомнив что-то, с надеждой посмотрел на Хардова.
— Я случайно оказался на вашей лодке, — промолвил он. И с воодушевлением добавил: — Вы ведь не хотели меня брать! Забыли?! Ещё и ссадить грозились. Как же… Час на сборы или прощай! Случайно всё вышло.
— Я умею пускать пыль в глаза, — негромко сказал Хардов.
— Зачем?
— Иногда приходится делать то, что должно.
— Зачем? — огрызнулся Фёдор. — Я вам не верю. На моём месте мог быть кто угодно. Я не знаю, что вы сделали со мной, но не верю! Случайно.
Хардов отложил яблоко в сторону. Поднялся, ножа складывать не стал, и широкое лезвие поймало солнечный зайчик. Фёдор увидел нож, поморщился, и его взгляд на мгновение сделался пустым. Хардов вынул из-за пазухи запечатанный конверт и шагнул к юноше:
— На-ка. Это для тебя.
Фёдор попытался сделать шаг назад:
— Что это?
— Письмо от твоих родителей.
Фёдор с недоверием посмотрел на Хардова. Затем нехорошо усмехнулся:
— И что там?
— Правда.
— Какая правда?
— Держи.
— Какая правда?! — завизжал Фёдор.
Анна обеспокоенно посмотрела на юношу.
— Хардов, — с укором произнесла она.
— Я думаю, правда о том, что они любят тебя, — ровно сказал гид. — Не знаю, не читал. Держи.
Фёдор со страхом смотрел на конверт, словно ему предлагалось потрогать змею, но всё же рука через силу потянулась к письму. И повисла в воздухе.
— Я видел этот нож, — быстро сказал Фёдор.
Хардов посмотрел на свой нож и, чётким движением скользнув по брючине, сложил лезвие:
— И что?
— Там… когда Сестра… Знаете, когда становятся кровными братьями. Она мне сказала, что это очень важно. Сестра…
Лицо Хардова застыло:
— Ты о чём?
Фёдор снова мучительно поморщился.
— Она сказала, что связь очень сильна. Что из-за этого такой яркий свет. И что я должен рассказать вам о скремлинах.
— Что именно, Тео?
— Что они уязвимы. И… не помню.
— Пожалуйста.
Взгляд Фёдора потемнел, юноша покачнулся и крепче вцепился в мачту:
— Я… не помню.
— Пожалуйста, — настойчиво попросил гид.
— Я… не…
— Хардов, прошу тебя, — снова позвала Анна.
— Фёдор, посмотри на меня. — Хардов поднял нож на уровень взгляда Фёдора. — И не смей отключаться. Что она тебе сказала?
— По-моему, из-за этой связи мы все в опасности, — пролепетал юноша. — И прежде всего скремлины. Да, именно это.
Фёдор слабо поднял голову, и Хардов увидел, каким он сейчас был несчастным. Но Фёдор закричал:
— Именно это! Вот при чём здесь Шатун! Вот!
На его глазах выступили слёзы. И он закричал ещё сильнее, как будто на последнем импульсе своих сил:
— Вот! Но я не он!
И силы Фёдора закончились. Его тело начало оседать. Но перед тем как повалиться в обморок, он вдруг взглянул на Хардова как-то по-другому, словно узнавая его, или отстраняя всё ненужное, или просто мучительно желая быть услышанным:
— Хардов, я не виноват в гибели Лии.
— Я знаю.
Глаза Фёдора закатились. Но теперь Хардов не дал ему упасть. Он бережно подхватил его под руки и тихо прошептал:
— Знаю, мой друг.
10
Лодка Раз-Два-Сникерс прошла Зубной мост утром следующего дня. И ничто здесь не свидетельствовало о произошедшей накануне трагедии. Те, кого Хардов назвал «мародёрами», предали земле своих товарищей, однако когда появилась полицейская лодка, предпочли укрыться за железнодорожными цистернами — в отличие от купцов или гидов с этими шутки были плохи. Они были немало удивлены, что на полицейской лодке всем распоряжается женщина, и ещё больше автоматическому оружию в её руках и с надеждой поглядывали в сторону Сорочанских курганов. Но туман не пришёл. Они снова остались без поживы.
К полудню без особых проблем Раз-Два-Сникерс дошла до Тёмных шлюзов. В отличие от Трофима, чью лодку она приметила ещё издалека, Раз-Два-Сникерс знала, что у гидов здесь власти намного больше, чем у полиции. Правда, они были людьми Шатуна, и это многое меняло. Они были «парнями Шатуна», и единственным ренегатом в их команде оказалась женщина.
Раз-Два-Сникерс похлопала себя по нагрудному карману, где покоился сложенный вчетверо, а потом ещё пополам листок из старого журнала. Еле заметная улыбка мелькнула на её губах. Пришвартованная лодка «Скремлин II» покачивалась на волнах у причала для гидов. Раз-Два-Сникерс правильно всё рассчитала — Хардов вынужден был задержаться.
11
А Хардов теперь был убеждён, что Рыжая Анна ошибалась. Сильной действительно оказалась не белая зайчиха, сильным было что-то в тумане. И Хардов знал, почему такой яркий свет. Он смотрел на берега канала, на своё отражение в воде, близкие Темные шлюзы, и с мутным холодком внутри понимал, что они всё больше угождают в западню. Там, во мгле, для них искусно соткана паутина, в которую они послушно следуют, как безмозглые мухи. Отражение в воде…
Хардов раскрыл и снова закрыл лезвие своего складного ножа. Он понял, кто является причиной их ошибки, едва не ставшей роковой (а может быть, кое для кого уже и ставшей), кто делает их уязвимыми. Пожалуй, впервые он почувствовал себя прижатым к стенке. И ему пришлось принять, возможно, самое трудное решение в своей жизни.
Ещё с утра он отправил Мунира к Тихону с просьбой о помощи, просьбой поспешить. Он также просил попридержать, оставить пока Мунира у себя. Но не только.
«Шатун, — спустя несколько часов глухо вымолвил Тихон, откладывая в сторону послание Хардова. — Значит, он всё-таки сделал это».
Высшие гиды умели читать по глазам их скремлинов. Такая почта успешно работала. И, что не менее важно, исключала взлом. Тихон пристально смотрел в круглые бусины глаз Мунира и водил грифелем по деревянной доске. Потом ознакомился с содержанием, и оно ужаснуло его. Хмурая складка залегла у переносицы гида, однако в глазах сверкнуло негодование.
— Необдуманные решения молодости, — горько прошептал он. Хотел было добавить кое-что погромче и остановил себя.
«Ведь они даже не прошли Тёмные шлюзы, где обычно проявляются первые признаки, — подумал Тихон. — Как же такое возможно? Манок Учителя снова светится. И это произошло прежде времени? Такого никогда не случалось, но… Тогда им надо очень-очень спешить. Тео в большой опасности, он просто может не выдержать».
И главное, он так и не выбрал себе нового скремлина. А без этого возвращение неосуществимо. Всё пошло не так, как они ожидали. Раньше времени и совсем не так. И либо они не знают чего-то очень важного, либо все их знания ошибочны.
Вслух же Тихон сказал совсем другое:
— Хардову пришлось принять решение разделить группу. Они с Евой будут обходить Тёмные шлюзы посуху.
Его спутники замолчали. Это были гиды другой стороны. Охранявшие Великий Университет. В таинственном для канала мире, в полумифической Москве, куда лодка сначала Хардова, а затем встречающих должна была доставить Еву.
Там, у Воробьёвых гор, откуда открывается вид на накрывшее город море тумана и поднимающиеся из него в солнечном мареве острова высотных зданий, находилось то уникальное место, где решено было спрятать Еву. И где девушку очень ждали.
«Ключи от будущего», — мелькнуло в голове Тихона.
Следом пришла другая мысль: как интересно, Хардов больше верит в Еву. Считает её главной целью их миссии. А он, Тихон, верит в Тео. В них обоих. Только Хардов себя обманывает. На самом деле он тоже верит в Тео. Просто давняя боль так и не утихла в его сердце. Однако невзирая на боль, а может, именно благодаря ей никто лучше Хардова с этим не справится. Тихон знал это. Видимо, он не ошибся.
Но сейчас гиды другой стороны хмуро молчали. Потому что сказанное Тихоном означало лишь одно: группа Хардова в большой беде.
12
Хардов снова раскрыл свой нож. Посмотрел на лезвие с блеснувшим желобком кровостока. Вот она, причина прочной связи. Хардов печально улыбнулся. Всё это было очень давно, и действительно, правы те, кто утверждает, что мы сами создаём собственных демонов. Хардов теперь знал, почему свет оказался столь ярким. Он понял всё, что ему пытался сообщить Фёдор. Происхождение той незримой воли, чьё присутствие он угадал в нападении мглы у Зубного моста, сейчас открылось ему. Это она заставила белую зайчиху так быстро отдать все силы, буквально «сгореть», вспыхнуть, как сухой хворост или щепотка пороха. Проверка, разведка боем. С ними познакомились. И похоже, такая судьба была уготовлена для всех скремлинов.
Отражения в воде…
Хардов чуть повернул лезвие ножа. Вспомнил, как уже больше месяца назад сидел под ясенем, выследив полицейскую группу, пересекшую канал, и понимая, что всё началось. Это было одно из немногих мест на канале, где дул свежий ветер. А потом появились трое олухов, вздумавших его ограбить. Полёт этого самого ножа пресёк необдуманную попытку. Шатун помог людям Новикова добыть скремлинов в тумане, и они начали поиск по всему каналу. И тогда ещё никто ничего толком не знал. Разве что срок близок. А Хардову везло, сильно везло. В Дубне и потом ещё какое-то время. Только вот выяснилось, что Шатун не просто помогал людям Новикова, не просто принял одну из двух сторон. Он вёл свою и гораздо более опасную игру. Смертельно опасную. И вот сейчас сделал свой ход.
Отражения в воде…
Хардов ещё повернул лезвие ножа, и в полированном металле на миг проступила радуга. Белая зайчиха перегорела очень быстро, хотя это были ещё даже не Тёмные шлюзы. У них, правда, осталось несколько скремлинов, но сколько они продержатся после того, как взбесится последний? Минуту, две? Вряд ли дольше. Шатун загнал их в угол. И ему известно о зароке. А причину всего этого Хардов вертит сейчас в руках. Точнее, причиной является он сам.
Он, Хардов, создал эту прочную связь. Он сам сделал их уязвимыми, открытыми для Шатуна. Из-за него такой яркий свет. Сделал при помощи вот этого складного ножа.
Когда-то, много лет назад, в вечер, открытый для романтики, они в порыве верности их дружбе побратались с Шатуном. Стали кровными братьями. И Учитель случайно увидел это. Тогда он лишь усмехнулся: молодость. Хотя уже тогда он начал не во всём доверять Шатуну. И хотя уже тогда Хардов был вернувшимся воином, то есть по времени канала значительно старше Шатуна. Но это была одна из главных гидовских тайн. И как любая тайна, успела обрасти множеством самых невероятных слухов.
Например, что скремлины — древние вампиры, пришедшие с туманом, и укушенный тоже становится таковым. Шатун хотел знать, правда ли это. Его манило запретное, и сейчас Хардов думает, что уже тогда он был очарован тьмой (не это ли почувствовал Учитель, запретив ему доверять?). Только гиды посмеивались над небылицами и избегали прямых ответов. Гиды и впрямь умели пускать пыль в глаза. А они побратались, Хардов с Шатуном. Сделали на руках надрезы и обменялись кровью. И это им действительно помогало. Или они думали, что помогало. Особенно в тумане. Они острее чувствовали друг друга. Но время шло, и их пути разошлись. Юная невинная забава осталась далеко в прошлом. И вот Шатун догадался кое о чём. Кровь не просто красная водица, и чтоб это знать, даже не надо быть гидом. Тень юной забавы вернулась. Шатун нашёл на канале то самое, возможно, единственное тёмное место, где кровь одного снова ведала о крови другого.
13
— Должен быть ещё выход, — упрямо отрезала Рыжая Анна.
— Нет, Анна, для нас нет другого выхода. Он чувствует меня. Из-за меня вы все в опасности. Пойми, если меня не будет рядом… Скремлины — существа тумана. И туман их уничтожит. Как белую зайчиху. Сведёт с катушек. Вот что он задумал. После чего у нас нет шансов. Сукин сын оказался догадливым.
— Где он находится, Шатун? Я имею в виду, где он физически?
— Думаю, на «Комсомольской». Но не знаю наверняка.
— Мы могли бы попытаться вернуться и выкурить его оттуда.
— Анна, у нас нет времени. Ты же видишь, что происходит с Фёдором. Даже эта вынужденная задержка крайне опасна для него.
— Тогда, может быть, успеем проскочить? Всё же шесть скремлинов ещё осталось?
— Мы не успеем, Анна. Уж он постарается. Удар будет нанесён по скремлинам. И тогда всё закончится за несколько минут. Вспомни мародёров у моста — ты знаешь, как это будет.
— Поэтому ты решил сам сунуться в пекло? Преподнести себя на тарелочке?
— Совсем не так. — Хардов хмуро посмотрел в сторону земляного вала, за которым лежала разрушенная Икша. — Иногда мгла рассеивается. Я был там и знаю. Мне известны тайные пути. Однажды мне удалось пройти твою Икшу посуху, ни разу не прибегнув к помощи Мунира. Густой туман лежит по берегам, у Тёмных шлюзов. А в городе бывает по-разному. Думаю, я пройду.
— Хардов, но ты там будешь незащищён!
— Знаю. Но именно это даёт нам шанс. Он этого не ждёт. Ему известно о зароке. Ещё с Гиблых болот. Скорее всего, уже тогда он был в деле. И этого он ждёт меньше всего. Я ведь, по его прикидкам, должен теперь прятаться за вами с Подарком. Таков расчёт. Он станет искать меня в лодке, но меня там не будет. А без меня он и до скремлинов не дотянется. Я даю нам шанс.
— Но ты будешь в городе, Хардов. В разрушенном городе, полном призраков. Без малейшей защиты.
— Ему это неизвестно. Пойми, он знает о Тео. И, полагаю, это его главная цель. Тео, который не верит в себя. Но только он не знает, насколько Тео оказался сильным. Даже мне не удалось услышать отсюда голос Сестры. Благодаря Тео мы сбиваем все его карты. Своим уходом я лишаю его преимущества «видеть». А пока он спохватится…
— А если у тебя не будет этого «пока»? Шатун ведь умён.
— Ага. — Хардов усмехнулся. — И очень самонадеян. Но иногда в сильном и заключена слабость.
— А Ева?
Хардов помолчал, словно обдумывая ответ. Кивнул.
— После того, что произошло с зайчихой, я не могу оставить её в лодке, — твёрдо сказал он. — Как бы не вышло беды. Мне удалось кое-как успокоить капитана, но команда… Анна, впереди сирены Тёмных шлюзов, тут за себя-то трудно ручаться… Я видел взгляды гребцов, кое-что понимаю в этом. Лучше Еве уйти со мной. И потом, — лёгкая усмешка, — порой в большей безопасности мы находимся именно тогда, когда наименее защищены.
У Анны дёрнулась щека. Она всё понимала. Но из-за того, что сообщил ей Хардов, она всё равно чувствовала лёгкую тошноту. А ещё страх и горечь надвигающейся беды, о которой он только что упомянул. Анна вздохнула. Сплела руки. Бросила беглый взгляд на каюту, где лежал Фёдор. Ещё утром она дала ему настой из редких трав, что гиды собирали у Сорочанских курганов, в смеси с водой Зубного моста, и Фёдор провалился в крепкий, похожий на забытьё сон.
— Это из-за мести? — вдруг тихо спросила Рыжая Анна.
— Что? — не понял Хардов.
— Кому он мстит? Тебе? Учителю? Или, может быть, Тихону? Кому из вас?!
Хардов как-то виновато посмотрел на неё.
— Знаешь, когда-то я тоже так думал, — признался он. — Что виною всему банальная месть. Но, похоже, всё намного хуже. Его одержимость мёртвым светом, восторг… в основе которого, наверное, всё-таки лежит глубокий, губительный страх… привели Шатуна в самое плохое на канале место.
И обратного пути для него уже не будет. Только его это не беспокоит. И это надо понимать. Я думаю, он решил пройти сквозь туман.
— Мы тоже, — откликнулась Рыжая Анна. — Мы тоже.
И тебе это известно. Но его путь… проклят.
— Похоже, и это его не беспокоит.
Она отвернулась и как-то поникла головой.
— Ублюдок, — не оборачиваясь, проронила она.
— Иногда я задаюсь вопросом, как бы он себя повёл, если б мы тогда не отдалились от него.
— Всё ещё себя винишь?
— Нет. Просто задаю вопрос. И не нахожу ответа.
— Не хочу больше говорить об этом ублюдке, — тяжело произнесла Анна.
— Понимаю.
— Нет, не понимаешь!
Наконец Рыжая Анна не выдержала. Когда она обернулась, в глазах её стояли слёзы.
— Это самоубийство, Хардов! Вот это ты понимаешь?!
— Опять всё сначала.
— Ты хоть вообще… что-нибудь понимаешь?
— Но, Анна…
— Как ты смел? Как ты посмел с этим ножом?! — Анне с трудом удалось сдержать то ли крик, то ли рыдания. — Как? Ты… чёртов эгоист. Как смел?! Я не хочу с тобой прощаться.
Хардов захлопал глазами. Попытался заговорить, но издал только какой-то оправдывающийся звук.
— Чёртов эгоист… — Анна снова отвернулась, всхлипывая. Хардов подумал, что никогда её такой не видел.
— Ну… — только и сказал он.
— Не хочу прощаться. Понимаешь? Не так! Не сегодня. Я жила в этом Дмитрове…
— Ну, так не прощайся, Анна.
Она усмехнулась. Ещё горше. Звук вышел низким, грудным.
— Мои шансы весьма неплохи. — Хардов постарался, чтобы его голос звучал ободряюще. — Ваши — под сто процентов. За Тёмными шлюзами встретимся. Анна, это наш единственный выход.
Она повернулась к нему. Посмотрела прямым взглядом, вовсе не стесняясь своих слёз.
— Хардов, и ты, и я, мы прожили прекрасную счастливую жизнь. Но думал ли ты хоть иногда, как было бы, если б мы были вместе?
— Думал, и не раз, — просто сказал Хардов, словно всегда был готов к этому вопросу. — Это было бы слишком хорошо. И либо мы бы перестали быть гидами, либо перестали быть вместе.
— Это из-за неё, да? — Анна утёрла ладонью слезу, скатившуюся по щеке. И это Хардов видел впервые. — Из-за Лии? Ты из-за неё теперь так боишься?
Взгляд Хардова потемнел:
— Анна… я…
— Боишься потерять, да? Но ведь… я тоже боюсь.
— Анна, это столько…
— Но я в любой момент готова была перестать бояться. И даже… сейчас.
Хардов плотно сжал челюсти.
— Анна, тебе и вправду не надо прощаться со мной, — только и сказал он.
14
Тихон разглядывал дозорные плоскодонки пироговцев. С братством творилось что-то неладное. Опять эти их жёлтые повязки. Но дозор распознал явно спешащий транспорт гидов, и они не рискнули нападать.
Тео и Ева в одной лодке. И оба бесценны. Правильным ли было решение скрыть одного за другим? По-видимому, да, — пока никто ни о чём не сообразил: очевидное всем открыто, тайное каждого упрятано в тени другого. В любом случае об этом уже поздно рассуждать. Впереди Тёмные шлюзы, а Хардову пришлось разделить группу.
А потом Тихона посетила ещё одна мысль. И он даже не успел понять, ужаснула она его или обрадовала.
(в одной лодке)
«Может быть, поэтому всё пошло не так? Может быть… именно этого мы не понимаем?»
— А ведь всё возможно, — себе под нос пробубнил Тихон, оглядывая своих спутников. — Мы этого не учли, не брали в расчёт, а… Такое возможно.
И он вдруг рассмеялся. Невзирая на то, что понимал, как страшна просьба Хардова попридержать пока Мунира, что она означает на самом деле, Тихон рассмеялся.
— Мы, старые хрычи, не учли одной чудесной особенности, которую знает молодость, — удивлённо произнёс он. — Просто это невероятно, но ведь такое возможно? И тогда Тео… И это всё меняет! Тогда… он пытался защитить, и это всё меняет.
Тихон невидящим взглядом уставился на лодки пироговцев. Он улыбался. А потом в поле его периферийного зрения оказался Мунир, которого Тихон вынужден был привязать за лапу к поперечине, чтобы ворон не улетел. И его улыбка поблекла.
Глава 16
Тёмные шлюзы
1
Два последующих дня напряжение на линии застав только возрастало. И без того гнетущая атмосфера этого места наполнилась удушливой тяжестью, как перед грозой, хотя стрелка шлюзового барометра давно не покидала зоны «ясно». Всё больше тревожных взглядов встречались друг с другом, немые вопросы, понимание, удручающие ответы. По ту строну земляного вала что-то происходило, что-то необычное, давящее кошмарами по ночам и глухой тоской в сердце днём; дозорные гиды возвращались мрачные и усталые, но никаких явных признаков подготовки прорыва полчищ диких с Пустых земель или неведомых порождений мглы в тумане обнаружить не удалось. И это пугало ещё больше.
Трофим взялся исподволь намекать полицейским, что всё это творится из-за лодки Хардова и того, что прячут в ней. Некоторые из новобранцев повелись на его науськивания, что не улучшило общего настроения. Нервы накалились до предела. Пока командир сводного отряда гидов и полиции не обронил ему:
— Прекратите — это в вас говорит страх. Не надо вбивать меж нами клин. Если оттуда попрёт, — он кивнул в сторону Тёмных шлюзов, — вся надежда на гидов.
— Командир, как только вернёшься отсюда, — глаза Трофима сузились, — жду на столе рапорт, что за гидовский рассадник вы здесь устроили.
— Хорошо, — спокойно отозвался тот и негромко добавил: — Если вернёмся.
— Не «хорошо», а «есть»! — поправил его Трофим. Хотел было ещё что-то добавить, но решил, что и так последнее слово осталось за ним.
Хардов появился совершенно незаметно. Возможно, он уже стоял некоторое время за спорящими и группой полицейских.
— Трофим, я знаю, что вы получили приказ преследовать меня, — сообщил Хардов. — Послушайтесь благого совета, не стоит этого делать.
— С чего это? — огрызнулся Трофим. — Полиция прекрасно осведомлена о цели вашего рейса. Но, Хардов, времена меняются. Кое-кому больше не удастся выходить сухим из воды.
— Не понимаю, о чём вы.
— Всё ты прекрасно понимаешь! Не потому ли второй день вокруг лодки усилена охрана?!
Хардов посмотрел на него с интересом.
— Ваше усердие и осведомлённость заслуживают лучшего применения, — вежливо сказал он. — Но право, послушайте совета — лучше прямо сейчас, пока не поздно, возвращайтесь в Дмитров и не мешайте людям выполнять свою работу.
— Что мне делать, решаю я сам! — взорвался Трофим. — Перед тобой замначальника водной полиции! И я не зря сказал, что времена меняются. Запомни: я буду преследовать тебя столько, сколько сочту необходимым. Тебя и ту тварь, что ты прячешь в лодке!
Почти ничего не изменилось в лице Хардова, когда он произнёс:
— Не стоило этого говорить. — Никаких отблесков стали в голосе, только лёгкий вздох сожаления. — Каждый хозяин своей судьбы. Хочу лишь, чтоб осталось понимание: на Тёмных шлюзах я не смогу защитить экипаж вашей лодки.
— А кто просит?! — отрезал Трофим. И всё же не смог удержаться от угрозы: — Если не заметил, у меня крупнокалиберный пулемёт. Огонь на поражение с о-о-чень, — он весомо растянул это слово, — приличной дистанции. Побольше ваших хлопушек. И… если понадобится, я пущу его в дело.
Хардов улыбнулся, наклонился к Трофиму, чтоб никто не слышал, и произнёс будничным тоном:
— Тогда ты труп.
Взгляд Трофима потемнел, рука непроизвольно потянулась к кобуре. Хардов безмятежно улыбался. Лишь еле заметные льдинки плавали в глазах. Трофим вспомнил, что случилось в «Лас-Вегасе». И чем пугал Новикова Шатун. Злобно посмотрел на Хардова, но ничего не сказал.
* * *
Наконец к вечеру второго дня стрелка шлюзового барометра медленно двинулась в противоположную сторону.
— Ну вот и перемена, — облегчённо выдохнул дозорный гид. — От этого так всех… Приближается буря.
Хардов взглянул на небо, всё ещё совершенно чистое, и кивнул. «Ты даже не представляешь, насколько прав», — подумал он.
2
Прежде чем окончательно осознать, что пробудилась, Ева, наверное, какое-то время пролежала без сна. Этот зверь, что рыскал в мглистых предрассветных сумерках за окнами, он не был частью сновидения. О нём она знала с детства. От этого зверя, сам того не ведая, её сейчас спасал отец, согласившийся на разлуку с дочерью. О нём Ева не посмела заговорить, наверное, всё ещё опасаясь быть поднятой на смех, когда они ночью покинули милую родную Дубну и подходили к памятнику Ленину. Тогда она чувствовала его.
Как он приближался, пока издалека, из очень плохого места, становился больше, рос, заполняя тягучим кошмаром каждую свободную клеточку пространства. А потом явил одну из своих личин, поплыв тёмным, темнее ночи, каменным исполином в чёрном небе. Сейчас было то же самое чувство, только гораздо острее.
Он пришёл, этот зверь. Притаился там, во мгле, за земляным валом, принюхивался, бесшумно облизываясь, и ждал. Но… Ева всегда была уверена, что это она притягивает зверя. Это её личное чудовище, её спрятанная во тьме частичка судьбы. И он не успокоится, пока не настигнет. Или пока Ева сама не посмеет взглянуть в его жёлтые глаза, не посмеет изгнать его во тьму, воспользовавшись силой, данной ей даром или проклятием. На это были их надежды. И Тихона, и Хардова, и даже папины, хоть и для него, учёного, всё это представлялось несколько в ином свете и несколько иных терминах. Но сейчас Ева отчётливо осознала, что зверь здесь не только из-за неё. Не только она оказалась магнитом для чудовища.
Ева боялась себе в этом признаться и не понимала, почему так. Но зверь больше всего ненавидел, а может, даже пугался, — эта мысль посетила Еву впервые, — тех мгновений, когда она думала о Фёдоре. Да только, — и Ева улыбнулась светлой и обречённой улыбкой, — она сейчас думала о нём постоянно. Она чувствовала смятение, страх и радость. Но почему они не пускают её к нему? Хотя бы увидеть? Хоть на несколько минут, на секундочку, хоть… Ведь они даже не договорили и не… дотанцевали. Почему они все спят здесь, воспользовавшись гостеприимством местных гидов, а Фёдора под охраной оставили в лодке? Что с ним? Его болезнь опасна? Но она не боится! Почему Рыжей Анне можно, а ей нет?! Говорят, первое чувство проходит с первым поцелуем, но ничего не прошло.
Ева даже ловила себя на глупых мыслях: может, у неё это не первое чувство, ведь были же какие-то увлечения, или это не считалось поцелуем? Ответа не было. Лишь счастье и горечь от того, что она хочет думать о нём снова и снова.
Ева поднялась на ноги. Почему Рыжей можно, а ей нет? Сейчас она бесшумно проскользнёт на улицу. Её не пугали мглистые предрассветные сумерки. И того, что таит в себе канал до рассвета. Она должна увидеть его.
Ева тихо открыла дверь, и та совсем не заскрипела. Рыжая Анна сидела на пороге и курила трубку с длинным изогнутым мундштуком.
— Куда это ты собралась? — не оборачиваясь, спросила она.
— Разве вы… курите? — не нашлась Ева.
Рыжая усмехнулась:
— Забудь. Тебе нельзя к нему.
— Но почему?!
— Тихо. Сейчас всех перебудишь.
— Ну, пожалуйста, я прошу вас.
— Иди спать.
— Но ведь так нельзя! Пожалуйста… Ведь я люблю его.
Плечи Рыжей еле заметно вздрогнули, но Ева и сама не ожидала, что сможет это произнести. Наконец Анна обернулась. Выпустила большой клуб дыма.
— Ну да, курю иногда, — сказала она.
Коротко усмехнулась. Внимательно посмотрела на девушку. Ева не стала отворачиваться. Рыжая очень мягко улыбнулась. Было что-то в её глазах. Очень хорошее и печальное. И сострадание тоже, но и что-то ещё. Может быть, вера.
Зверь, таящийся во тьме, ждал. В нём клокотала бешеная ярость. Но Ева не ошиблась. Возможно, впервые и пока ещё совсем слабо зверь был напуган.
3
На рассвете третьего дня Хардова поднял дозорный гид:
— Вставайте, вы просили разбудить, если будет что-то странное, необычное.
— В чём дело?
Дозорный посмотрел на направленный на него ствол и коротко улыбнулся. Хардов снял оружие с боевого положения и подумал, что нет, наверное, ничего комичного в том, что даже здесь, среди друзей, он спит по привычке с револьвером под подушкой.
— Мгла рассеялась, — доложил дозорный. — Но… Идёмте. Такого ещё никто не видел.
Через пару минут они уже стояли на укреплённой вершине земляного вала. Дозор и стрелки на пулемётных гнёздах были рады появлению Хардова. Здесь, на границе, он, скорее, являл собой легенду, нежели подозрительного скитальца, каким его видели в зажиточном Дмитрове или в мирной Дубне.
Хардов поплотнее закутался в плащ. Утро выдалось свежим, но этот озноб вряд ли связан с прохладой предрассветного часа.
— Как думаете, на самом деле или… сирены?
Не то чтобы сирен официально не существовало, но о них не принято было говорить, кроме как среди совсем уж своих, вот дозорный и смутился.
Вся раскинувшаяся перед ними Икша оказалась чиста. Впервые разрушенный город полностью открылся с тех пор, как был пожран мглой. Можно даже было разглядеть высокую колокольню вдали на холме, что обычно торчала из тумана, укутанная по самую звонницу. Иногда сирены устраивали из колокольни что-то типа маяка на родном берегу. Шутки шутками, но этот тёмный свет, скользящий по укреплениям земляного вала, уже увёл за собой нескольких полицейских-новобранцев. Видимо, сработал какой-то архетип — никто из них не имел дела с судоходством и не знал о существовании древних маяков. Именно в тот момент Новикову пришлось согласиться на создание сводных отрядов; полиции в чистом виде на линии застав больше не существовало.
— Не думаю, что это сирены. — Хардов улыбнулся дозорному, и тот быстро закивал. Лишь чуть расширенные зрачки выдавали его страх.
«Совсем ещё зелёный, — подумал Хардов. — Свежий выпуск школы гидов. Но держится молодцом».
Ему было чего бояться. И дело даже не в открывшейся картине разрушения. Между пятым и шестым шлюзом, вдоль обоих берегов канала лежал плотный туман. Он словно специально собрался у воды, покинув разрушенный город. Нависал тяжёлыми клубами, набухая и пульсируя, будто распираемый изнутри. Иногда всё прекращалось, исходящее от мглы ощущение угрозы стихало, и тогда оставалась в её непроницаемой поверхности какая-то отвратительная жуткая притягательность. Как и любой кошмар, туман умел манить, обещая освобождение от страха и прощение тем, кто дрогнет.
Хардов нехарактерным для себя движением облизал губы. Он ждал чего-то в этом роде. Кто-то из них двоих, он или Шатун, угодит теперь в собственные сети. И невозможно было предсказать, кто пропадёт, а кто останется.
«Обычно в подобных ситуациях остаются такие, как Трофим», — вдруг усмехнулся Хардов. И эта шальная усмешка ему очень не понравилась.
Хардов, чуть сощурив взгляд, смотрел на канал, обложенный мглой. Он был уже в форме. Туман, как армия, стянувшая все силы в боевом прядке, навис над тонкой полоской воды, тонкой струйкой жизни между шлюзами, прозванными Тёмными. Он и сам был полон жизни. Только иной, неведомой, порождённой с изнаночной стороны мира, тёмной жизни, словно сумевшей выбраться из дурных снов. Хардову было известно, что это. Хорошо известно. «Анне придётся туго», — мелькнула быстрая мысль.
И тут же ушла. Им всем придётся туго.
— Выстроился, как на параде, — дошёл до него нарочито бодрый голос дозорного. И Хардов уловил в нём те же шальные интонации.
«Не совсем», — хмуро подумал он. Перевёл взгляд на притихший разрушенный город, из которого постепенно уходили сумерки. Но скорый солнечный свет вряд ли теперь поможет Икше. Лишь в нескольких местах ещё слабо теплилась память о других временах. И когда возвращалась мгла, эта память пряталась куда-то очень глубоко, но всё ещё была жива. Весь остальной город теперь Сталиным. И его тишина была обманчивой. Тени никуда не уйдут из скривлений разрушенных улиц, и выбитые окна домов будут следить за вами множеством чёрных пустых глазниц, следить со злорадством, алчностью и предвкушением, как паутина, лишь на время оставленная хищной тварью.
Прежде чем перевести взгляд ближе, на причал для гидов, где Хардов уже заметил кое-кого, он снова посмотрел на далёкий холм. Его обходной путь лежал там, вёл через колокольню, — одно из немногих всё ещё живых мест, — выше звонницы которой туман никогда не поднимался. Вот и пришла пора уходить, лучшего времени не будет.
«Ах, Анна, Анна». — Хардов покачал головой. Теперь он смотрел на свою лодку и тех, кто сейчас спешил от неё вернуться в расположение гидов. Даже с такого расстояния ему не пришлось напрягать зрение, чтобы различить две знакомые фигурки. Эта рыжая копна… Хардов чуть задумчиво улыбнулся. Анна шла лёгкой походкой гида, но и Ева, закутанная в плащ, который он когда-то дал ей, оказалось, здорово изменилась за это время. Её походка стала ровной, уверенной.
— Женщины, — еле слышно процедил Хардов.
Дозорный гид во все глаза смотрел на туман по берегам.
В нём снова началось хаотичное движение, но теперь у самой кромки воды, словно там скрывалось нечто огромное.
— Как вы думаете, готовится нападение? — чуть подосипшим голосом спросил дозорный.
— Вряд ли, — отозвался Хардов.
— Но, вы не знаете, что всё это?..
Хардов кивнул. И обнаружил, что молодцеватый румянец совсем покинул щёки парня.
— Знаю, — сказал он.
4
Когда Хардов вошёл в носовую каюту, Фёдор всё ещё, по-видимому, находился под действием настоя Рыжей Анны. Он растянулся на своей лежанке, и внешне это напоминало болезненный сон, неглубокое прерывистое забытьё. В каюте было сумрачно, и такая же тяжесть лежала на душе у Хардова.
— Привет, — тихо произнёс он. Замер и некоторое время молча слушал дыхание спящего.
Потом сел у изголовья Фёдора, наклонился к его лицу и повторил:
— Привет, Тео! — только теперь в его голосе было гораздо больше тепла. Так говорят с теми, с кем долгое время находился в разладе, но кто на самом деле бесконечно дорог. — Я зашёл попрощаться. Не знаю, слышишь ли ты меня сейчас. Мы так и не поговорили с тобой. Не нашлось времени. А теперь… вот. Прости меня за это. За многое. Ты бы всё равно пока ничего не понял. Не поверил, как всё ещё пытаешься не верить. Это могло лишь навредить тебе. Но всё равно прости.
Хардов отстранился, наклонил голову, пристально вглядываясь в лицо Фёдора, как будто в сложной мозаике пытался угадать спрятанный образ или просто распознать знакомые черты.
— Мне как никогда нужна твоя помощь, — тихо промолвил Хардов. — Ты даже не представляешь, насколько. А ты тут растянулся, как девочка. — Хардов улыбнулся, тепло, печально. — Как будто вовсе не ты учил меня сражаться голым. Вот пришло время попробовать. — Хардов чуть болезненно поморщился. — Не знаю, слышишь ли ты, но думаю, мои слова дойдут до тебя. Так или иначе дойдут.
Он снова наклонился к спящему, только теперь почти к самому уху, и заговорил. Бережно, нежно и горячо:
— Фёдор… Нет, Тео. Отринь иллюзии. Время пришло.
И его совсем мало. Позволь иллюзиям развеяться. Они долго были необходимым коконом, но теперь бабочка созрела. Там, внутри тебя, скрыт ты настоящий.
По лицу Фёдора пробежала лёгкая волна, на лбу появилась морщинка. Он не хотел, чтобы его будили; он слышал во сне, и что-то внутри него активно сопротивлялось тому, что он слышит.
— Я не знаю, почему это произошло так, — чуть отстранённо прошептал Хардов. — Ты даже не выбрал себе нового скремлина. Это против всех законов. Но произошло так, как произошло. Может быть, потому, что никто ещё не возвращался дважды.
Морщинка на лбу Фёдора углубилась, теперь она сделалась болезненной. Но Хардов тихо улыбнулся, глядя на него, и лицо спящего разгладилось, дыхание стало ровным.
— Всё ведь хорошо, друг мой, — сейчас уже без напора, но так же нежно произнёс Хардов. — Ты всегда нарушал все законы. Даже собственные. Мы не дошли до места, где закончатся иллюзии. Где от них ничего не останется. Развеются, как дым. Не дошли до моста, где ты… с которого вы с Лией…
В горле у Хардова запершило и начал подниматься ком, с которым ему удалось совладать, справиться. «Я чуть не сказал: „Где ты умер“, — подумал Хардов. — Но нет, ты не умер.
Это Лия умерла». Мысль была дикая. Пришедшая из тени.
Но со всякими дикими мыслями он давно научился справляться.
— Моста, с которого вы упали, — ровно произнёс Хардов. И снова заставил себя улыбнуться. Это оказалось не так уж сложно. И тень отступила.
— Ты уж постарайся, — попросил Хардов. — Там, внутри, есть тот, кто на это способен. Настоящий, подлинный Тео. Как драгоценный сияющий алмаз! Сделай это. Скажи себе «да», там… столько света…
В горле у Хардова снова запершило, но теперь по-другому. И он поднялся. Посмотрел на Фёдора. Лицо спящего теперь казалось безмятежным. Хардов положил рядом с ним свёрнутый лист письма.
— Вот, прочтёшь, когда сможешь. — Он немного подвинул письмо к Фёдору. — Это очень важно. Там о Еве и ещё…
На безмятежном лице спящего мелькнула еле уловимая улыбка или только отсвет улыбки.
— Это очень важно, — внятным и глубоким голосом повторил Хардов. — Если случится так, что меня не будет рядом, это придётся сделать тебе. Ты должен будешь доставить Еву. Что бы ни случилось, и что бы тебе ни показалось. Верь ей. Она очень сильная, и она очень слабая. Она, может быть, самая прекрасная девушка, хоть и упряма… Она чудо. Такое же, как и ты.
Улыбка Фёдора сделалась явственней, он, видимо, не возражал против подобных оценок. И невзирая на весь драматизм ситуации, Хардов улыбнулся — не Фёдору, а тому, как нелепо он сейчас выглядел. Кивнул и всё же добавил:
— Во что бы то ни стало ты должен доставить Еву до Тихона.
Хардов отошёл от лежанки, остановился и бросил ещё один взгляд на спящего. «Мы не говорим „последний“, — подумал он, — хотя ты сам всегда повторял, что никто из нас не будет жить вечно. И поэтому не стоит бояться слов, притягивающих суеверия».
— Ну вот, мне пора, — сказал Хардов. Покачнулся в сторону выхода, но не сделал и шага. Потом он понял, что стоит тут, не в силах уйти, и смотрит на Фёдора. И ещё, что действительно пора.
— Мне бы так хотелось увидеть, каким ты вернёшься, — прошептал Хардов. — Но больше всего мне хотелось бы тебя обнять. — Он всё-таки сделал этот шаг к выходу и совсем уж тихо, одними губами добавил: — Я ведь давно простил тебя. Простил тебе Лию. Давно простил.
5
— Ты ослушалась меня? — Хардов смотрел на Рыжую Анну.
Отпираться было бесполезно, и та прямо сказала:
— Да.
— Почему?
Анна плотно сжала губы. Хардов молчал. Она подняла руку. Раскрыла пятерню тыльной стороной к себе. Покачала в воздухе, то ли сосредотачиваясь, то ли предлагая более уравновешенный ритм разговора.
— Послушай, дело не только в том, что я пожалела её… — начала было Анна.
— Ты ведь знаешь, насколько это опасно. Я даже команду снял с лодки, пока здесь стоим.
Анна снова сжала губы. Подняла указательный палец:
— Если ты дашь мне возможность объясниться…
— Рыжая! — Хардов взглянул на неё осуждающе. — Очень много всего поставлено на карту.
— Знаю, — сказала она. — Только послушай… Мне кажется, девочка влюблена в него.
— О чём ты, Анна? — Хардов усмехнулся.
— Ты что, ослеп? — Рыжая Анна вдруг тряхнула волосами и заговорила с напором: — А если это… Ты ведь понимаешь, о чём я?!
Хардов словно бы взялся руками за голову.
— Невероятно! — изумлённо протянул он. — Как такое вообще…
— Хардов, прекрати! Она любит его. А если это и есть то, чего мы не учли?
Анна пристально взглянула ему в лицо. И наткнувшись на эту восхитившую её много лет назад доверчивую смущённость, почти детскую беспомощность в глазах, поняла, что он думает о том же самом. Она слишком хорошо его знала, чтобы спутать: редкие моменты, когда Хардов был не до конца убеждён в своей правоте, и тогда он отключал голос рассудка и позволял руководить собой то ли интуиции, то ли этому парадоксальным образом всё ещё не исчезнувшему ребёнку.
— Кажется… влюблена… — пробурчал он.
— Не придирайся к словам. — Анна улыбнулась. — Не хочу, чтобы ты сердился на меня.
Хардов вздохнул.
— Не в этом дело, — покачал головой. — Это немыслимо, но… Наверное, я знал, что ты так поступишь. Кто-то из нас двоих должен был решиться. Дай Бог, чтобы это не стало ошибкой.
Анна серьёзно кивнула.
— Ты зайдёшь к нему перед… — Она оборвала себя на полуслове. Посмотрела куда-то в сторону.
— Я уже заходил, — быстро сказал Хардов. — Снимайтесь с якоря немедленно, как только мы с Евой окажемся за земляным валом. И ещё: Трофим хорохорится, но он даже не представляет, насколько на самом деле напуган, поэтому может быть очень опасен. Ты знаешь, что делать, и всё же будь осторожней. Ну вот, вроде бы всё.
Анна подняла на него глаза.
— Не хочу, чтобы ты сердился, — сказала она. — Хочу, чтобы поцеловал.
И Хардов, словно ждал этого, тут же привлёк её к себе. Анна выдохнула, вдруг смущённая внезапным напором. И поймала себя на мысли, что впервые за последние годы это не она целует мужчину. Затем ослабла, закрывая глаза, и все мысли покинули её. Поцелуй вышел долгим, страстным и нежным. Но в конце его Анна всё же ощутила привкус горечи. И когда их губы разомкнулись, её недавние слова всплыли сами собой:
— Хардов, не смей…
Она перевела дух. Затем крепко прижала его к себе. Смотрела прямо в глаза. С любовью, но и с яростным требованием:
— Не смей прощаться со мной!
6
Они покинули линию застав ещё до восхода солнца. Рыжей Анне удалось устроить на причалах некоторое оживление, привлекшее внимание любопытных глаз. И о намерении Хардова спуститься в Икшу прознали только гиды, расчищавшие путь, по которому обычно уходил дозор. Через несколько минут Хардов и Ева по накладным мосткам пересекли обводной канал с внешней стороны укреплений и скрылись в густой листве. В покинутую людьми Икшу вернулись растения, чахлые деревца разрослись, пробив мощёные мостовые, правда, некоторые из них оказались не столь безобидны, как их привычные собратья.
Гидам были хорошо известны те, что вошли в странный симбиоз с сиренами, — и кровососущие кустарники, оплетающие силками привлечённую жертву, чтоб вонзить в неё острые шипы, были в их числе, — но в тумане всё быстро менялось, поэтому Хардов предпочёл оставаться начеку. Ева шла молча, не задавая вопросов. Она действительно сильно изменилась. Но Хардов чувствовал что-то ещё. Она была влюблена. Здесь, в этом хищном гиблом месте, помимо них двоих ему предстояло оберегать частичку любви. Это могло быть опасно, но и могло сослужить им хорошую службу. Как карта ляжет… Порой мечтательное выражение лица девушки сменялось тревожной задумчивостью, и Хардова впервые посетила мутноватая мысль, что, возможно, теперь Ева знает о Фёдоре побольше него.
А потом они вышли на край улицы Победы, чёрным меридианом пересекавшей разрушенный город, и когда Хардов увидел, что их ждёт там, все другие мысли покинули его.
7
Приближался восход. Дозорные гиды стояли на редуте обороны и хмуро смотрели на открывшийся город, в котором по их оценке больше не осталось людей.
А потом ветер принёс со стороны Икши звук, который ни с чем невозможно было спутать. Гиды переглянулись; словно тень легла на их лица.
— Давно этих тварей не было слышно, — в сердцах обронил старший дозорный.
8
Когда до Трофима дошла весточка, что лодка Хардова уходит, нижние ворота шлюзовой камеры уже закрылись.
— Немедленно прекратить шлюзование! — орал Трофим в телефонную трубку. Аппарат был очень древним, тяжёлым, с отколотым пластиком, на металлической табличке выбит год выпуска «1984», но всё ещё исправно работал.
— Уже поздно, — сухо возразил ему диспетчер. — Сегментный затвор верхней головы опущен. В камеру пошла вода из бьёфа.
— Так, мать твою, подними его!
— Но… Боюсь, вы не понимаете, это вода Тёмных шлюзов.
— И что?!
Диспетчер помолчал. Произнёс негромко:
— Остановить шлюзование теперь не в моей власти.
— А я боюсь, что это приказ водной полиции! Просто нажми, мать твою, кнопку или что там у тебя…
— Бесполезно. Теперь процесс от меня не зависит. — В голосе диспетчера сквозило нечто иррациональное, так, наверное, пытаются урезонить человека, чтобы он не шумел на кладбище.
— Вы здесь совсем сдурели? — возмутился Трофим. — Ты мне ещё про демонов машин расскажи.
Некоторое время диспетчер ничего не говорил. В трубке был треск, щелчки, как при плохо налаженной связи, какие-то смешки, и Трофиму даже показалось, что кто-то, находящийся очень далеко, только что прошептал его имя.
«Их паранойя заразна, начинает действовать и на меня», — подумал он.
— Трофим, — осторожно начал диспетчер, — вы можете попытаться сделать это сами. Но… вряд ли Тёмные шлюзы вас послушают.
— Суеверное дурачьё! — рявкнул Трофим, бросая трубку.
Но ничего. Никуда они не денутся. Быстро нагоним. Господи, ну какую же здесь развели гидовскую помойку! Действительно, пришла пора вытрясти из всего этого пыль. И дерьмо! Трофим этим займётся. Сразу по возвращении. Когда исполнит поручение главы полиции. Слишком долго некоторые избегали прямого конфликта. Боялись. Но Трофим не боится. С ним шестеро профессионалов, которые не раскисли в этом гидовском рассаднике и исполнят любой его приказ.
А ещё Юрий, хитрый лис. Всё простачком прикидывается, а сам за его спиной якшался с Шатуном и даже успел сколотить в полицейском департаменте что-то вроде собственной партии. Не зря проницательный Новиков не доверяет сынку-увальню. Кстати, молодец Хардов, есть за что похвалить, везунчик неплохо утёр увальню нос. Говорят, он теперь в депрессии, наш старый добрый Юрий. Сиди, золотая молодёжь, в «Лас-Вегасе» и не рыпайся, цепляй девок, ставь на «зеро» и закидывайся слизью червя. Потому что подчищать за тобой всё равно поручат Трофиму.
— Лодка готова, — доложили ему. — Ждут только вас.
— Иду, — отозвался Трофим.
И всё же предпочёл ненадолго задержаться. Никуда не денутся, мигом нагоним. А пока у Трофима осталось одно маленькое дельце. Он ещё ни разу не проходил Тёмные шлюзы, как-то не выпадало надобности, но слышал, что некоторые, и не только гребцы, сотрудники полиции тоже, пользуют здесь слизь червя. Типа притупляет ощущение паники, если сирены заголосят, и всё прочее.
Трофим не особо доверял разным суевериям. Не случайно умница, хоть и подозрительный, Новиков убеждён, что большинство слухов распространяют сами гиды, чтобы держать всё под контролем. Трофим с этим и не спорил. Но слизь червя шибко уважал. Она его однозначно встряхивала. Держала в тонусе. Трофим извлёк пузырёк со студенистым содержимым. Драгоценная слизь приобрела красноватый оттенок с явными багровыми паутинками прожилок — самая зрелая, самая дорогая. Трофим не зря ишачил на Дмитров, как раб на галерах, чтобы позволять себе самое лучшее. Он ненадолго уединился в туалетной комнате, сделал аккуратный надрез, и вскоре слизь поступила в кровь…
Через несколько минут бодрый и всегда подтянутый Трофим был уже на своей лодке.
— Ну, чего пригорюнились? — бросил он своим подчинённым.
Шестеро. С ним — семь. Семеро смелых! И один пулемёт. Трофим чуть не расхохотался. Эти шестеро — те ещё штучки. Бывалые. И за каждым не одно деликатное дельце. Новиков именовал их «парнями для деликатных поручений». Хотя Трофим предпочитал называть вещи своими именами. Мокрое дельце — оно и есть мокрое. Как при эвакуации Вербилок. Официально глава полиции приказал забрать всех. Но всем места не хватило. Да и времени тоже.
Уж больно мерзкие твари выползали из тумана. Пришлось кое-кого зачистить. Если б началось официальное расследование, голов полетело бы немало. Но Трофим умел действовать чисто. И парии выполнили его приказ. Одной ниточкой повязаны. Вот так ишачим на Дмитров. Отребья развелось немало, и кто-то должен за всеми подчищать, чтоб остальные могли спать спокойно. Таков закон жизни. Кстати, везунчику Хардову об этом тоже известно.
Начался восход. Конечно, его люди вовсе не раскисли. Обменивались скупыми шуточками, подначивали друг друга, но в глазах за сосредоточенностью всё же прятались тени страха.
«Угостить их, что ли, слизью?» — подумал Трофим.
И опять с трудом сдержал приступ смеха.
Каждый из них знал, на что шёл. Трофим обожал эти моменты, словно короткие опустошающие паузы тишины перед тем, как начать действовать. Сейчас из шлюзовой камеры уйдёт лишняя вода, и нижние ворота откроются. Воронёная сталь крупнокалиберного пулемёта приятно блестела на утреннем солнце. Трофим не получал никаких прямых приказов. Но всегда знал, что делать. За что его и ценил Новиков.
«Люди делятся на везунчиков, — подумал он, — и тех, у кого есть пулемёт».
Трофим вдруг с нежностью провёл рукой по зарядному механизму. И всё же не смог удержаться, коротко прыснул. Чувствовал он себя прекрасно.
9
А в нескольких десятках метров от Трофима капитан Кальян, скидывая швартовый с рыма, понял, что дела обстоят хуже, чем он предполагал.
«Сирены не спят, — подумал Матвей, сворачивая канат в аккуратную бухту. — И главное сейчас — не привлекать их внимания. Не реагировать, успеть проскочить».
Как-то раз прямо на выходе из пятого шлюза в Тёмный бьёф сирены показали одному дмитровскому купцу его умершую жёнушку. Никто ничего не успел сделать. Лишь заметили радость и облегчение, с которыми тот бросился в воду. В принципе, устав гребцов запрещал капитану покидать лодку в подобных случаях, и Кальян не знал, что сподвигло его прыгнуть вслед за купцом. Может быть, он понял, что никто, кроме него, этого не сделает. Матвей действовал быстро, и совсем скоро они с беднягой-купцом показались на поверхности. Но на одно короткое мгновение он это увидел.
Там, под толщей тёмной воды, она была там. И хоть Кальян никогда прежде её не встречал, ни живой, ни мёртвой, сразу же догадался, что это была она. Совсем не похожая на утопленницу, она плыла к ним, и Матвей навсегда запомнил боль, сменившую надежду в её глазах, и тихую мольбу не мешать, отпустить к ней истосковавшегося супруга, потому что теперь только здесь, под тёмной водой, они снова могут быть счастливы.
В тот день Матвей понял, на что способны сирены и какой чудовищной силой обладает их умение показывать самые потаённые желания. Видимо, тоска бедолаги-купца оказалась столь сильна, что и Матвей смог увидеть то сокровенное, что ни в коей мере ему не принадлежало. Тогда всё обошлось, но капитан Кальян хоть и считался ироничным знатоком гребцовского фольклора, никому не стал рассказывать, что он видел под толщей воды Тёмных шлюзов.
— Сирены, — прошептала Рыжая Анна.
Она стояла рядом, встревоженная задумчивым видом капитана, и внимательно смотрела на Кальяна. «Как всё же они бесшумно двигаются», — в очередной раз подумал Матвей. Чуть склонился к Анне и сказал ей на ухо:
— Со мной всё в порядке. Хочу, чтобы ты знала: сирены чуют наши уязвимые места. Это не моё дело, но вижу, что люб тебе Хардов, так что будь осторожна.
Рыжая не смутилась, никаких возражений, только серьёзно кивнула. «Всё в порядке, — подумал Матвей. — Ты молодец, Анна». А затем он обвёл команду спокойным взглядом и тихо, внятно сказал то, что требовалось от капитана:
— Сирены не спят. Отключитесь от них. Закройте мысли. Вас здесь нет. И ни в коем случае не смотрите на Морячку.
10
Полицейский-моторист пришвартовал лодку Трофима к тому же рыму, что ранее капитан Кальян. Он давно ходил по каналу, бывало, за Тёмные шлюзы, знал его норов и знал себе цену. Обнаружив в склизкой тине, покрывшей бакен, свежий след от каната, моторист не удивился — Матвей Кальян считался опытным капитаном и выбрал самый безопасный, дальний от верхней головы шлюза рым.
Он посмотрел на шефа, и Трофим ему по-свойски подмигнул. Моторист скупо улыбнулся и отвёл глаза. На несколько минут шлюзовую камеру заполнила абсолютная тишина, сделав ожидание невыносимо медленным. Все со страхом и надеждой смотрели на закрытые верхние ворота — оттуда мог ворваться ужас, но всё могло и обойтись.
«Капитан Кальян всегда был везунчиком, — почему-то подумал моторист. — И судя по всему, его лодка уже идёт по бьёфу».
Раздался оглушающий щёлкающий звук. Машины заработали, но явно громче, чем в обычном штатном режиме. Словно решение о том, когда и как работать, принимали уже не люди, а что-то, живущее в механизмах. Полицейский-моторист слышал о демонах, но до сих пор не определил, как к этому относиться. А потом в камеру, образуя бурлящие гейзеры у дальних ворот, пошла вода Тёмных шлюзов, и всё стало меняться.
* * *
Трофим кое-что знал о своём мотористе. Ему была известна его тайна, но пока он не спешил её разрушать. Искусство управления заключалось в том числе и в этом. При зачистке Вербилок (мокрое дельце!) моторист сохранил кое-кому жизнь. Он вообще поначалу артачился: в полицейском департаменте мотористы, знавшие канал на уровне лучших гребцов, считались чем-то вроде высшей касты. Но Трофим сразу расставил все точки над «i». Либо остаёшься чистеньким, либо проваливаешь вон из команды. А быть в команде Трофима — значит быть с тем, кому многие в будущем, и, надо отметить, не таком уж отдалённом, прочили место главы полиции.
И Трофим повязал их всех. Мокрое дельце. Поначалу они его ненавидели, а потом стали преданны, как собаки. А моторист вот оставил себе страховочку, сохранил жизнь мальчику. Но не потому, что пожалел, не из гуманных соображений. Заметил, как у мальчугана побелела кожа. Умным оказался. Трофим весело усмехнулся. Собственно, существование так называемых «белых мутантов» предпочитали держать в тайне.
Учёные о них знали; в полиции они все были наперечёт, но некоторыми вещами, как и кое-какими гидовскими секретиками, не стоило пугать обывателя. Не чаще раза в месяц кожа белых мутантов становилась даже не бледной, она на самом деле белела, как чистый лист бумаги. И вот тогда с ними начинались чудеса. Словно по запросу, когда лезешь в архив, они могли выдать любой день своей жизни, воспроизвести всё, что видели и слышали, голосами и звуками, что не отличишь от подлинных. Хоть звук выстрела, хоть как баба орёт в постели — грёбаным имитаторам всё одно. Прямо записывающее устройство. Но главное — их чёртовы рисунки.
Трофим прекрасно знал, что существовало когда-то такое искусство — фотография. В примитивных формах его и сейчас пытались возродить. Но белым мутантам никакая фотография не требовалась. Этот дебиловатый мальчик в обычном состоянии вряд ли и линию-то ровную проведёт. Пока не побелеет кожа. И тогда они умели впадать во что-то типа транса или пойди их мать пойми! Начинали говорить множеством голосов, а рука, хоть глаза и закрыты, да слюна изо рта, словно сама начинала бегать по бумаге.
Богомерзкие твари! Их рисунки не просто отличались пугающим натурализмом. Картинки хороши, ничего не скажешь, как настоящие, хоть ч/б, хоть в цвете. Только в полицейском департаменте они считались стопроцентным доказательством. Вот ушлый моторист и спрятал мальчугана в труппе этих клоунов «Бледных вампиров», пару раз в месяц дающих свои шоу с полным аншлагом.
В принципе, решение верное, поди его там разыщи среди таких же богомерзких тварей. Да только у Трофима везде найдётся свой человечек, или кто там… А моторист сохранил себе страховочку, картинку зачистки Вербилок. То ли Юрий Новиков начал его вербовать (вообще-то, неожиданная активность увальня Трофима не особо тревожила, не будь он сыном шефа, лежать бы ему уже на дне канала), а может, сдуру решил чего себе выторговать. Дойди рисунки мальчугана до гидов, тут уже не то что Трофиму, самому шефу головы не сносить. Он даже собрался было ликвидировать угрозу. Свой человечек в «Бледных вампирах» (или кто он там) получил команду перерезать фотографическому мальчику горло. Но по зрелом размышлении Трофим решил, что собственный белый мутант и ему не помешает. А с ушлым мотористом он поиграет, как кошка с мышкой.
Трофим теперь уже ласково подмигнул мотористу, а тот, дурень, даже смутился. Трофим ещё веселей разулыбался, посмотрел на рым. И… нахмурился. Машины перестали работать. Лишь где-то вдалеке бурлили подводные гейзеры. Трофим нахмурился ещё больше. С рымом творился явный непорядок. Прямо на глазах, поднимаясь из воды и хищно извиваясь, по нему ползли побеги дикого винограда.
Трофим не знал, откуда ему известно о винограде, но был почему-то убеждён, что это именно так. Тесня и расталкивая друг друга, стебли напирали всё больше. Трофим поморгал. Э-э, а виноградные-то листочки себе не промах: некоторые складывались пополам, раскрываясь и закрываясь, как зубастые рты, да и сам рым теперь стал похож на нечто волосатое, полное копошащихся червей и явно живое. А ещё этот непереносимый звук — то ли далёкое воробьиное чириканье, то ли стрёкот множества мерзких сверчков.
— Немедленно уберите эту гадость! — возмутился Трофим и замахал на бакен руками.
— Спокойно, шеф. Тс-с, тихо. Там ничего нет, — быстро прошептал моторист. — Я вас предупреждал: это сирены.
Трофим уставился на ушлого моториста, а потом снова посмотрел на рым. Раскрыл было рот, но… бакен был абсолютно чист.
— Ты ничего не видел? — теперь в свою очередь прошептал Трофим. — Как же…
— Пожалуйста, тише, — снова попросил моторист.
Ворота верхней головы медленно поползли вниз, скоро они скроются под водой, и перед ними предстанет бьёф Тёмных шлюзов. Пока никакого ощущения угрозы оттуда не исходило, и моторист подумал, что это дурной знак. Там, за воротами, было зло, и когда оно начинало таиться, ничего хорошего это не сулило. С громким пустотным звуком, как будто кувалдой ударили по металлической бочке, ворота встали. Но в следующую секунду их движение возобновилось. Моторист почувствовал неприятную сухость в горле.
— Чёртовы птицы! — пожаловался Трофим.
Моторист настороженно посмотрел на него и уже жёстче повторил:
— Тише!
Трофим насупился, затем поднял указательный палец, словно вспомнив о чём-то, да так и остался сидеть с открытым ртом.
Вот оно как бывает. Он слышит птиц. Безжалостный мастер зачисток оказался восприимчивым и раскис, как чувствительная девочка. Птицы — это плохо, как говорится, хуже только райские кущи. Что-то сирены нашли в Трофиме, и теперь это может быть опасным для всех. А ведь Хардов оказался прав — не стоило шефу сюда соваться. По глазам видно, что изрядно закинулся слизью, зрачки аж с радужку, да только оно ему не помогает.
Перед тем как окончательно уйти в воду, ворота снова остановились. Моторист посмотрел на свои ладони, влажные от напряжения. Больше он не думал о Трофиме. Пора забирать швартовый и выходить из шлюза. Тишина сделалась гнетущей.
Далеко впереди, за стрелкой с Морячкой было видно, что по обоим берегам канала стоит густой туман.
И хотя Тёмные шлюзы были единственным местом на канале, где туман иногда пытался стелиться почти над самой водой, полностью затягивая русло, даже здесь такое случалось крайне редко. Ближе к закату и, конечно, после него. Сейчас стояло ранее утро. Для того чтобы пройти эти два километра между пятым и шестым шлюзами, в распоряжении оставался целый длинный летний день. Да только здесь хватало и собственных чудес. А главное, сирены могли завести куда угодно и показать любую картинку. Моторист вспомнил рассказ единственного выжившего на полицейской лодке. Как шли они в тот роковой день по каналу на электроходу и даже удивлялись спокойствию Тёмных шлюзов. Всё было хорошо и привычно, канал и канал, надёжная полицейская лодка, может, лишь краски чуть ярче…
«А потом я словно проснулся, — рассказывал выживший. — И понимаю, что давно уже иду пешком по суше, не в лодке, вы понимаете, по суше, а вокруг густой туман, и товарищи мои бредут в полусне, как послушные овцы, к какой-то склизкой твари. Всю-то её не видно в тумане, вроде огромного слизняка. А некоторые из парней уже прилипли к её бокам, покрытые слизью, но самое страшное были их счастливые улыбки. Я как вспомню эти их улыбки, до сих пор всё холодеет внутри».
А выжил он лишь потому, что оказался менее восприимчивым. Развернулся и побежал наугад, не ведая дороги. Повезло ему тогда, выскочил прямо к каналу, недалеко от брошенной лодки. Вернулся на пятый шлюз один и совершено седой, но зато жив.
«И нам повезёт, — подумал моторист, — если сумеем проскочить Морячку. Дальше должно быть легче. Хорошо, если лодка Хардова не особо оторвётся вперёд, с гидами как-то надёжней». Трофим даже если и придёт в себя, пока, конечно, не решится на конфликт с Хардовым, невзирая на все угрозы. Только не на Тёмных шлюзах — намного дальше. Лишь посвящённые знали о тайных сношениях Новикова с капитанами Пироговского речного братства. И всё было решено списать на них. Они пообещали свою поддержку, хотя мстительный Трофим собирался сыграть роль первой скрипки. Вот и вертится вокруг пулемёта, как кот вокруг сливок. Мотористу это очень не нравилось. Творились какие-то неправильные дела. На его взгляд, пироговцы были намного опасней гидов.
Моторист смотрел на открывшийся фарватер. Вроде бы всё было чисто. Заметил, как край лодки Хардова показался из-за стрелки — они вовсе и не спешили оторваться от них.
От этого моторист почувствовал себя гораздо спокойней. Как бы то ни было, но здесь, на Тёмных шлюзах, людям лучше держаться поближе друг к Другу. «О Хардове все говорят, что он нормальный мужик», — мелькнуло в голове у моториста нечто, отдающее явной двусмысленностью.
— Надоели эти кошки-мышки! — вдруг обиженно взорвался Трофим и угрюмо посмотрел по сторонам.
— Шеф, пожалуйста, — несколько раздражённо попросил кто-то.
Моторист посмотрел на воду. Только что он увидел, как из неё выпрыгнула небольшая рыбёшка и, прежде чем погрузиться, пролетела над поверхностью какое-то расстояние. Потом ещё одна. И ещё — целая стайка летучих рыб с сияющими радужными плавниками в ореоле брызг. Только на канале не было летучих рыб. Лицо моториста застыло. Присмотревшись, он увидел что-то зловещее в облике прыгунов. Не рыбы это вовсе, какие-то карлики, словно злобные феи из детских кошмаров. Он закрыл и открыл глаза. Зловещие феи исчезли. Лишь весёлые полоски брызг над поверхностью воды. И далёкий ещё различимый шёпот…
— О, летучие рыбки! — восторженно сообщил Трофим. — Какие красивенькие, видите?
Моторист прикусил язык. По уму стоило бы шефа связать. Он начал откровенно сходить с катушек. Как бы не наделал глупостей. Но на всё это теперь не оставалось времени. Словно ветерок уловил и принёс сюда этот нежный заботливый шёпот:
— Бон вояж… Бон вояж!
Многократно отразившись, он поплыл в воздухе. Нежное, манящее, полное искреннего дружелюбия и сопереживания, теперь неслось со всех сторон:
— Бон вояж! Бон вояж!
«Плохо дело», — подумал моторист.
11
Они сидели в самом начале улицы Победы. Шестеро или семеро, предпочитали держаться в тени, потом один из них встал. И у Евы сжалось сердце — она увидела ещё и малых детей, таких же оборванных, чумазых и несчастных. Хардов извлёк патрон, почему-то крутанул его пальцами, спрятав удлинённую пулю в ладони.
— Что ты видишь, Ева? — быстро прошептал он.
— Людей. — И сам вопрос, и то, как он был задан, показались Еве странными. Уж не собирается ли Хардов стрелять? — И по-моему, им нужна помощь. Бедные…
— Нет, присмотрись внимательнее.
— Но…
— Просто смотри. Позволь себе видеть.
— Я и так смотрю! Они… они…
Неожиданно Ева почувствовала, как мороз пробежал у неё по коже. Может, потому что всё произошло так внезапно. Она не знала, как это — позволить себе видеть. Просто контуры человеческих фигур расплылись, задрожали, а когда совместились вновь, Ева увидела. И не сразу поняла, что. Лишь услышала свой, к счастью, негромкий вскрик.
— Ну, вот теперь и ты видишь, — кивнул Хардов.
Когда контуры вновь совместились, Ева увидела то, во что её ум отказывался верить. Это… что? Наверное, можно было бы говорить о каких-то крупных облезлых собаках с лысыми черепами, если б они не вставали на задние лапы, всматриваясь или принюхиваясь. Но даже не склонность к прямохождению, сколько гипертрофированная мускулистость тел придавала им какие-то чудовищные антропоморфные черты. Лишь те, кого она вначале приняла за детей, были похожи на обычных крупнопородных щенков.
— Хардов, кто они? — Голос Евы сделался слабым, бесцветным.
— Проклятые оборотни. Не перевелись ещё.
— Хардов, пожалуйста… — Еве потребовалось усилие, чтобы голос не хрипел, но он всё равно звучал сипло. — Какие могут быть оборотни?! Это же сказки. Вы зачем-то шутите, да? Скажите, что шутите.
Хардов покачал головой.
— Думаю, какая-то дрянная мутация, — произнёс он. — К счастью, они не так сильны, как сирены, но… Кое-что могут, как видишь. Очень живучие твари. Несколько пуль их не остановят, только серебро. В том числе поэтому их прозвали оборотнями.
— Серебро?
— Как и всё, в чём сила тумана.
Ева покосилась на патрон, что Хардов крутил в пальцах.
— Но они же не настоящие оборотни? Не в самом же деле?
— Не знаю, способны ли они превращаться в людей на самом деле, Ева. Слышал, что при ярком лунном свете вроде бы да, и тогда они наиболее опасны, но сам такого не встречал. Скорее всего, просто вырастает манипулятивная способность влиять на психику жертвы. Типа сказки про полнолуние, только наоборот.
— Хардов, зачем мы идём к ним? — словно опомнившись, спросила Ева.
— Они у нас на пути.
— С ними… человеческий детёныш, там, со щенками.
— Нет, Ева. Снова: просто смотри. Что бы тебе ни показалось: увечные старики, женщины, взывающие о помощи, голодные дети — это коварная игра твоего ума. Они безжалостные хищники.
— Мы не можем их просто обойти?
— Теперь уже поздно. Они нас заметили. Нельзя оставлять угрозу в тылу. — Ещё один оборот гильзы, и чуть задумчиво: — Надо только понять, кто она.
Ева больше не задавала вопросов. Стоило ей на мгновение ослабить внимание, тут же падала воля к сопротивлению. Хардову легко было сказать «просто смотри». И не шесть их или семь вовсе, намного больше. Быстрые тени по крышам и по задним дворам… И по мере приближения всё меньше животных черт — Ева снова видела людей, несчастных, возможно, деградировавших, но людей, которым требовалась помощь. Рослая светловолосая женщина стояла к ним спиной, о чём-то шушукаясь с группой выглядывающих из-за неё стариков. У её ног в пыли возились дети. Одного из них, совсем младенца, худенькая бесцветная девушка пыталась кормить грудью, присев на край обросшей мхом скамейки. Несколько мужчин смотрели на приближающихся мутными равнодушными глазами запойных пьяниц, каких Ева не раз видела в Дубне, потом они словно нехотя вернулись к оставленным делам.
— Ева! — Она почувствовала, как Хардов крепко ухватил её под локоть. — Не обгоняй меня.
Крупная светловолосая женщина вдруг обернулась и подняла на них грязный указательный палец. Тут же все взгляды вновь обратились к ним. К светловолосой присоединилась древняя полоумная старуха с остатками длинных седых волос, что сидела в деревянном кресле-развалюхе. Старуха вскинула потрескавшуюся клюку, что-то прошамкала беззубым ртом и сложила губы дудочкой. Светловолосая тут же осклабилась в довольно неприятной ухмылке, словно это был сигнал, но Хардов показал ей патрон, что крутил в пальцах, и в глазах женщины мелькнул страх.
— Что, узнала серебро? — процедил Хардов. И переведя взгляд на старуху, как будто ему требовалось решить что-то важное, кивнул с вызовом: — Ну, кто из вас двоих?
И тут же Ева почувствовала, как на её спине буквально зашевелились крохотные волоски. Потому что зловещим ответом на слова Хардова родился тоскливый, леденящий душу одинокий вой. Может быть, собачий, может, волчий, но ничего подобного Еве прежде слышать не доводилось. Этот вой, пронизывая до костей, парализовал её; и вот уже к нему стали присоединяться со всех сторон, и даже где-то вдали нёсся этот нестерпимый звук, вплетаясь в общий хор.
«Вот кто теперь стал хозяином Икши», — в отчаянии подумала Ева. Но ещё прежде Хардов дослал патрон с серебряной пулей в патронник. А потом быстрым движением убрал, просто переставил, как куклу, оцепеневшую девушку себе за спину.
* * *
«У меня будет только один выстрел, — думал Хардов. — Если ошибусь, они бросятся на нас».
Хардов переводил взгляд со старухи на светловолосую женщину, пытаясь определить, кто из них обладал правом первого голоса. По всем признакам рослая светловолосая, однако она лыбилась, когда старуха сложила губы… Значит, старуха? Но… звук вроде бы начался не там, шёл не от неё, где-то рядом, но не там.
Старуха или светловолосая?
Хардов вдруг посмотрел на Еву, и несколько мыслей родились почти одновременно.
«Как быстро они и меня заставили смотреть на них через облик людей».
«Как быстро Ева выросла. Она уже девушка, а я всё ещё по привычке обращаюсь с ней, как с ребёнком».
«Кто из них двоих — светловолосая или старуха?»
И снова: «Она этого не знает, только однажды в светлый счастливый вечер, открытый для покоя, я пел ей колыбельную».
Взгляд Хардова возвратился к светловолосой, затем переместился на старуху: «Так кто из них двоих?»
Вой теперь звучал на одной парализующе-кошмарной ноте, вытеснившей всё остальное. И уже воспринимался как бы не совсем ушами; что-то внутри резонировало, откликалось на него, как на позабытый зов, звучавший в древней первобытной ночи, о котором пришла пора вспоминать. Хардов хорошо знал цену этому вою. И ему понадобилось лишь чуть тряхнуть головой, чтоб увидеть: все они — старики, мужчины и женщины, даже малые дети, что умели только ползать, двинулись на них. Медленно, неуверенно, опасливо. Но вой объединял их, и кольцо начало сжиматься.
«Почему я сейчас думаю о детстве Евы? И главное: почему вновь хочу вернуться к этой мысли, словно там спрятано что-то важное?»
«Светловолосая или старуха?»
Хардов слегка прикусил нижнюю губу. Что-то было не так. Что-то ускользало, обманывало… «При чём тут детство Евы? И при чём тут колыбельная? Что я должен увидеть?!»
Хардов чуть скосил глаза. Кольцо сжималось, они все, сколько бы их ни было, пошли на них, все приближались. Кроме светловолосой и старухи. Правильно: солдат, хоть псов, хоть людей, хоть оборотней, не жалко, кого-то можно пустить в расход, чтоб стая жила. Да только…
(колыбельная?)
Хардов вдруг усмехнулся. И перевёл взгляд чуть в сторону. Все, кроме светловолосой, старухи и… ещё одной. На самом деле их было трое, тех, кто не сдвинулся с места. Но ведь и вправду говорят: хочешь что-то по-настоящему спрятать — брось на видном месте. Только что Хардов стоял и слушал, как в нём стихает внутренний монолог. И теперь он стих. Осталось решение, как драгоценный камень, выглянувший из грязи на старой пыльной дороге. Одно решение, остальные ушли в безмолвие.
Вот при чём тут колыбельная! Кроме светловолосой, старухи и ещё одной.
«Когда пытаешься покормить младенца грудью, вряд ли стоит начинать с колыбельной? А?! Вот какой звук ты прятала. Тебя прикрывали, и старуха, и светловолосая, но ты завыла первой».
Хардов не знал, так ли это с младенцами на самом деле. Ему не особо довелось пообщаться с кормящими матерями. Только сейчас это было неважно. Инстинкты сигналили, что он прав. В очередной раз, стоя на одном из бесчисленных перекрёстков своей Судьбы, Хардов доверился странному сплетению неуловимых нитей, что по тихим загадочным знакам ткала его интуиция. И уже не мог поступить иначе. «Ты хитрая стерва, тебя прикрывали, но это ты».
А потом он выстрелил.
* * *
Она была единственной, кто не собирался причинить им какого-либо вреда. Жалкая, худенькая бесцветная девушка. Забытая даже собственными сородичами, безразличная к появлению путников, она сидела на полусгнившей скамейке, покрытой мхом, и кормила грудью малыша. Сама ещё почти ребёнок. Почему из всех тех, кого Хардов назвал «оборотнями», — до ближайших крупных мужчин, настоящих здоровяков, оставалось не больше пары десятков метров, — он выбрал эту несчастную, Ева не знала. Но когда поняла, что гид собирается натворить, у неё сжалось сердце. Она попыталась было остановить его, но не успела.
Хардов поднял оружие; бесцветная девушка равнодушно посмотрела на гида и отвернулась к ребёнку, то ли не понимая, что означает направленный на неё ствол, то ли убеждённая, что защищена материнством или же своей жалкой никчемностью. Хардов прицелился, его указательный палец плавно переместился к спусковому крючку. Бесцветная девушка чуть повела головой, но так и осталась сидеть вполоборота. Она не смотрела на Хардова, по крайней мере, не прямым взглядом. Лишь несколько отстранила от себя ребёнка. Неожиданно Ева услышала голос Хардова: «Ты хитрая стерва, тебя прикрывали, но это ты», только не могла бы поручиться, что гид говорил вслух. Ева стала набирать в лёгкие воздух, чтобы закричать «Не надо!».
Бесцветная девушка всё ещё не двигалась, лицо в полупрофиль чуть склонено, на нём тень, так что не разобрать глаз. И вдруг вся её субтильная фигурка неестественно напряглась, она как-то странно мотнула головой, исподлобья сверкнул её тёмный и вовсе не безразличный взгляд. Евин несостоявшийся возглас преломился в хрип изумления и ужаса. Голова бесцветной девушки ещё не закончила своё круговое движение, хотя рот растянулся в оскале, искажая и трансформируя её черты.
Бесцветная девушка громко, заревела. Только человеческое существо не способно издавать подобные звуки. Мелькнуло над полусгнившей скамейкой нечто громадное, покрытое лоснящимся мехом. И за мгновение до сухого оглушающего звука выстрела это нечто, полное свирепой ярости, прыгнуло. Чем оно было — неправдоподобно огромной собакой, помесью медведя и волка, чем-то ещё — не представлялось возможным различить.
Серебряная пуля, несущая смерть, настигла чудовище уже в воздухе, Хардов успел в последний момент. На землю оно рухнуло, заскулив и уже смертельно раненным. Попыталось подняться на лапы, ему не удалось, скулёж перерос в злобное ворчание. И оно поползло. Но пуля Хардова несла не только смерть. Трансформация продолжалась, возможно, возвращая первоначальный облик. Густой лоснящийся мех не облетел, он просто куда-то исчез. Теперь к ним ползло почти лишённое шерсти существо, значительно менее крупное, действительно похожее на обтянутую облезлой кожей больную собаку. В то же время Ева подумала, что ползло оно как-то по-человечески, и сейчас эта антропоморфность в сочетании со всё ещё не отпустившим страхом вызывала тошноту. То, что совсем недавно представлялось бесцветной девушкой, агонизировало. Вот оно подняло голову и посмотрело на Хардова. Но красные глаза выражением отличались от звериного облика. В них не было печали умирания, лишь холодный безжалостный ум. И вот они потухли. В тот же миг вой стих, как будто его выключили, и всякое движение прекратилось. Те, кто шёл на них, остановились и растерянно переглядывались. Некоторые с недоумением и испугом косились на существо, поверженное Хардовым.
— Она… — первое слово, хоть и шёпотом, далось Еве нелегко. — Она…
— Сдохла. — Хардов кивнул. И пояснил: — Доминирующая самка. Теперь их связь распалась.
— Распалась? Они больше не нападут? — как-то болезненно озираясь, спросила Ева. — Всё закончилось?
— Не всё. Но немного времени у нас есть.
— Немного? Они опять… Когда?
Хардов подумал, как мальчишка, шмыгнул носом.
— Знаешь, их стая… — начал он. И неожиданно улыбнулся. — Павел Прокофьевич как-то упомянул мне, что наряду с прочим ты интересовалась электричеством? Так вот, их стая, как электрическая цепь, контур, который исправно работает, пока из него не извлекут главный связывающий, контурообразующий элемент. У них это доминирующая самка. — Хардов кивком указал на труп, который совсем скоро начнёт коченеть. — Иногда говорят о Королеве-оборотне, правда, я б не стал так высокопарно. Но многим тут она приходится мамашей, что есть — то есть.
Ева глядела на дезориентированных опустошённых существ, которые, принюхиваясь, стали собираться у своей поверженной матери или доминирующей самки… Страх уходил, Ева чувствовала что-то странное. В этих существах оставалось всё меньше человеческого, оно словно растворялось в зверином, даже склонность к прямохождению их покидала; некоторые, поскуливая, опускались на четвереньки и жались друг к дружке…
Упоминание об отце и доме в этом кошмарном месте несколько приободрило Еву, сделав ощущение тоскливого одиночества чуть менее острым. Она увидела, как к поверженной королеве устремились несколько щенков. По пути они возились, покусывая друг друга и забавно рыча, а потом, явно не понимая, что произошло, перенесли свою привычную игру на тело матери, кусая её за неподвижные лапы.
— Она была такой огромной, чудовищем, — произнесла Ева. — А до этого такой блёклой девушкой. Теперь вот… Мне почему-то жаль этих несчастных.
Хардов промолчал.
— Какие они на самом деле?
Гид вздохнул.
— Думаю, такие, какими ты их видишь, — сказал он. — Жалкие? Так ты сказала?! Да, они жалкие.
Словно соглашаясь, Хардов закивал и повесил оружие на плечо.
— Но не обманывайся. Это — пищевая цепочка. Беспощадная и прожорливая. Всё остальное — просто картинки в твоей голове. Заблудшему сюда оленю они, скорее всего, показали бы стадо прекрасных пятнистых подруг, ждущих своего принца для брачных игр, и он бы даже не понял, что его уже жрут.
— Наверное, я понимаю…
— Боюсь, что нет, Ева. Речь идёт о выживании — либо их, либо твоём! Чем ты готова пожертвовать, чтобы позволить себе роскошь жалеть? Пока по одному — да… Но когда они снова соберутся в контур, то, как пчелиный рой или муравейник, станут чем-то иным. Новой сущностью. Хищной, с которой невозможны переговоры, великолепно организованной и бесконечно опасной. Так что жалость здесь не самое подходящее слово. Идём, Ева. Теперь им придётся найти себе новую доминирующую самку. И когда это произойдёт, я намерен оказаться как можно дальше отсюда.
12
Трофим, улыбаясь, смотрел на Морячку. Её лицо было прекрасным. Он забыл проведённый накануне мотористом инструктаж. Абсолютная внутренняя тишина, дыхательные упражнения, дабы закрыть свои мысли от сирен, недопустимость малейшего реагирования на них и прочее осталось где-то далеко. Он забыл обо всём на свете и пребывал в сладостных грёзах, где Новиков на почётной пенсии, а он, Трофим, в кресле начальника полиции.
(шеф, пожалуйста)
Пришлось, конечно, для порядка жениться на младшей новиковской дочери, но бестолковая кулёма не особо обременяла его. Дура-баба, одни наряды на уме, и тарахтит, как квохчущая курица. Почему у такого умницы вышли такие гнилые дети?
(Трофим, не смотри на неё!)
Какой-то мерзкий шершавый голос… Трофим как раз занимался реорганизацией жизни Дмитрова (Пора было разобраться с гидами, со всеми гидами! Сговорчивых на службу, остальных, простите, на кладбище), когда противный голос ушлого моториста потревожил его.
— Шеф, отвернись! — Он ухватил его за плечо и тряс, как назойливая муха. — Шеф!
Затем моторист ухватил его за второе плечо, пытаясь развернуть. Трофим недовольно зарычал, но попытка моториста удалась.
— Спокойно, шеф.
— Надо женить увальня на Еве Щедриной, — заявил Трофим, и глаза его хитро заблестели. — Понял? Загасим учёных.
— Тише.
Трофим хотел было вырваться, но ушлый оказался крепким парнем. Трофим нахмурился.
— А я знаю про белого мальчика, — сообщил он.
— Хорошо, — бесцветно сказал моторист. — Только тихо.
Всё пошло отвратительно. Но хоть шеф проговорился. И лучше уж так. Машинально моторист вскинул взгляд на Морячку. И почувствовал, как у него слабеют руки. Наверное, скульптурное лицо действительно было прекрасным, и из него будто изливался внутренний свет. А потом… голова статуи немножко наклонилась.
— Пусти! — проворчал Трофим.
Только пальцы моториста разжались сами собой, бессильные, а руки сделались неимоверно тяжёлыми.
Морячка раскрыла глаза. Чёрные, как беззвёздная ночь, и совершенно живые.
— Шеф, пожалуйста, — простонал моторист.
Слабая нотка обвинения мелькнула в его голосе. Он пытался не смотреть на статую, не смотреть и не слышать, но Морячка в горделивой осанке чуть повернула голову, и теперь она глядела прямо на него. И моторист сам не понял, как его губы растянулись в улыбке навстречу тьме, льющейся из её глаз.
— Ты что, метишь на моё место? — завопил Трофим.
Резко замолчал. Уголки его рта опустились в капризном росчерке. Перевёл удивлённый взгляд с моториста на скульптуру Морячки, с которой у него сейчас сложилась глубокая связь, на кораблик в её руках, полный восхитительных обещаний, и в его взоре зажегся ревнивый огонёк.
— Да вы с ней заодно? — Пугающая догадка наконец-то посетила Трофима. — Решил подсидеть меня?!
Трофим чуть дёрнул головой, дико ухмыльнулся. В поле его зрения попал пулемёт.
13
Ярко-красный колышек, который гребцы воткнули на берегу для обозначения границ силового поля Морячки, только что мелькнул в тумане и остался позади.
«Ну вот, теперь ей нас не достать», — удовлетворённо подумал Кальян.
— Обошлось, — выдохнул он. И всё же немного подождал, прежде чем поднять голову.
Гребцы работали вёслами, стараясь не производить лишнего шума, и у всех на лицах запечатлелось какое-то отсутствующее выражение. Глаза каждого были опущены, но вряд ли они смотрели в пол, скорее куда-то вглубь себя. Не подвели, Тихон действительно набрал прекрасную команду, и если представится возможность, Кальян с удовольствием бы с ними ещё походил.
— Обошлось! — громче и ободряюще повторил капитан Кальян. — Всё, вольно, можно расслабиться.
Оба гида сидели лицом к Матвею и, следовательно, к оставшейся за спиной стрелке со скульптурой Морячки. Странно, она что, не имеет над ними власти? Оказывается, на руках у Рыжей Анны находился скремлин, и Матвей прозевал момент, когда она извлекла его из клетки — совсем молоденькая крыса дремала, свернувшись калачиком, и Анна тихонько её поглаживала. На коленях у альбиноса покоилось нарезное оружие, винтовка с оптикой. Расслабленность мышц на лицах не должна была вводить в заблуждение — Кальян видел, что оба гида крайне сосредоточены. Он решил проследить за их взглядами. И для этого ему пришлось обернуться. Гиды наблюдали за второй лодкой, появившейся из шлюза.
— Трофим! — протянул Кальян и сплюнул. Угрюмо посмотрел на Морячку. Даже с такого расстояния чувствовался холодок её ускользающего, но жадного внимания. «Вот почему она оставила нас в покое, — подумал Кальян. — Она не спала, уже в шлюзе было ясно. Мы растревожили её ещё больше, но успели проскочить. Журавлик улетел, и теперь синица у неё в руке».
* * *
Рыжая Анна снова посмотрела на правый берег. Она знала, что Ваня-Подарок не подведёт. Лучший стрелок, возможно, даже не уступающий Хардову, сможет нейтрализовать всякого, кто решит развернуть пулемёт в их сторону. Анне не стоило повторять о недопустимости кровопролития, и Подарок сможет сработать чётко, не повредив чьих-либо жизненно-важных центров, но она была убеждена, что даже такой отморозок, как Трофим, не решится здесь на стрельбу.
Однако сейчас внимание Рыжей Анны привлёк туман на правом берегу. Вёл он себя странно. Анна не могла понять, что происходит, и это ей не нравилось. На небольшом участке туман отступил, отполз от кромки воды, обнажив берег вплоть до железнодорожной станции, где на путях ржавели тяжёлые вагоны-цистерны. При этом он словно ещё подобрался, уплотнился до густой белёсой непроницаемости, создавая ощущение, что его вот-вот что-то прорвёт изнутри. Железнодорожные цистерны наполовину выступали из тумана, как зловеще-гротескные барельефы.
— Обошлось, — только что сказал капитан Кальян.
Глаза Рыжей Анны сузились. Впереди по ходу лодки и сразу за ней туман снова подступал вплотную к берегу. Анна глядела на покатый бок вагона-цистерны. И вот медленно показалось начало следующего вагона. Ошибки не было, туман скользил по цистернам вместе с ними. Волнообразно отступал от берега и вновь спускался к воде вслед за движением их лодки. Анна смочила языком верхнюю губу. «Не обошлось», — подумала она.
Боковым зрением увидела, как Ваня-Подарок вскинул винтовку, припав к глазку окуляра. Полицейская лодка находилась недалеко, Ивану не было необходимости наблюдать за ними через снайперский прицел, и это могло означать лишь одно — он готовится к стрельбе.
— Там какое-то движение, — сухо сообщил альбинос.
«Как не вовремя», — подумала Анна.
— Наблюдай за ними, — попросила она. — Но огонь только в крайнем случае.
И снова посмотрела на железнодорожную цистерну. Наверное, она заметила это сразу, и уже тогда ей это не понравилось. Возможно, лишь старая полустёртая надпись, на вагонах их делали во множестве. Или так причудливо ложились тени. Всё возможно.
Верхней губе опять понадобилось, чтобы её смочили. Эта надпись двигалась. Слишком причудливо для теней. Слишком много мелких деталей, которые не распадались в новый узор. Тень или надпись медленно двигалась, ползла прямо по покатому боку цистерны. «Вот для чего туман расступился», — мелькнуло в голове у Анны. Она вдруг поняла, на что это похоже. Сходство было отдалённое, но точно указывало на своё происхождение. Её рука, поглаживающая дремавшую крысу, повисла в воздухе.
Движущаяся надпись чем-то неуловимо напоминала маскарадную маску для глаз. Когда-то в детстве они играли в театр теней, завесив сцену белой простынёй. И если припасть к ней с изнанки глазами, для зрителей получался точно такой же рисунок. Если же вы хотели напугать малышей, то можно было надавить с изнанки на простынь ещё и носом или всем лицом — картинка получалась жутковатой.
И хоть носа или лица на покатом боку вагона-цистерны ещё не было, сходство и так казалось довольно убедительным. Кто-то припал с изнаночной стороны
(простыни?)
(цистерны?)
(мира?)
глазами, и сейчас эти глаза двигались. Медленно, но уже не упуская из виду их лодку. Как таящийся хищник, который теперь ни за что не упустит столь долго выслеживаемую добычу.
«Ну вот и началось», — подумала Рыжая Анна.
14
Трофим вырвался из рук ушлого моториста. А двигаться он умел очень быстро.
— Успокойся, шеф! — прокричал кто-то.
Но Трофим был уже у пулемёта. Молниеносно передёрнул затвор.
— Вруны! Мерзкие вруны! — завизжал он.
Трофим вдруг понял, кто его настоящий и единственный друг. Кто сможет спасти его будущее от врунов и завистников. Собственно говоря, он всегда это знал. Трофим не был везунчиком, как Хардов, и звёзды ему не падали с неба, но у него был пулемёт. Единственный верный помощник. Если Трофим и умел любить, то вся мера отпущенной ему любви была отдана сейчас этой надёжной машине из воронёной стали. Трофим знал, как разбираться с врунами и завистниками.
* * *
Тревожно-стонущий звук, как будто кто-то пытается сдвинуть старые металлические конструкции, был приглушён туманом. Рыжая Анна, не отрывая взгляда, следила за железнодорожными цистернами.
Скользящая по покатой цилиндрической поверхности маска для глаз переползла на следующий вагон. Только это уже не были одни глаза. Нечто изнутри решило надавить сильнее, и стальная поверхность подалась, словно была действительно пластичной простынёй из детского театра. Металл морщинисто натянулся, образовывая более сложный рисунок.
«Ну вот и лицо». — Тёмная усмешка сорвалась с губ Анны, оставив во рту кисловатый привкус.
Сделалось совсем тихо; туман будто пожрал все звуки.
И повторившийся в этом безмолвии стонущий скрип показался особо неприятным. Словно железом по стеклу.
Анна скосила глаза по ходу движения лодки. Звук шёл оттуда. «Этой обрушенной впереди фермы моста раньше не было, — подумала она. — Может, её и сейчас нет. Просто кто-то хочет, чтоб мы подошли ближе к берегу. А может, её обрушили в воду, освобождая путь для тумана».
Металлическое лицо на поверхности цистерны всё более напоминало грубо сработанную посмертную маску. И оно ползло. Анна заметила, что и капитан Кальян видит это. Они обменялись короткими тревожными взглядами. «Значит, скорее всего, не сирены, — успела подумать Анна. — Как и обрушенный впереди пешеходный мост».
Она опять машинально погладила спящую крысу. Теперь лицо не просто ползло. Ненадолго остановившись, оно начало увеличиваться в размерах и одновременно обогащалось деталями, словно стремилось к портретному сходству. Потом всё замерло. И рука, водившая по крысиному меху, тоже замерла.
Анна узнала это лицо. Однако всегда надменно-насмешливое, сейчас оно выглядело другим. Склонным к гораздо более глубоким эмоциям, отстранённо-печальным, погруженным куда-то в собственные раздумья. Нет, наверное, на нём всё же не было страдания, но запечатлелся какой-то непривычный ему свет внутреннего покоя. Как у плохого, испорченного человека, который вдруг отдал себя молитве или глубоко заснул, и на миг в нём проступили черты того, кем он мог стать, если б жизнь не сложилась так скверно.
— Шатун? — тихо произнесла Анна.
Но короткий миг закончился. Рыжая Анна положила себе на колени рядом со свернувшейся калачиком крысой свой никелированный револьвер.
— Подарок! — позвала она. — У нас гости.
15
Взгляд Морячки отпустил моториста и тут же устремился к Трофиму. Тот вжал голову в плечи, словно его хлестнули по щекам, и прикрылся пулемётом.
— Богомерзкая тварь! — заорал Трофим, разворачивая ствол. — Хотела одурачить меня?!
У моториста конвульсивно дёрнулась нижняя челюсть. Потом его передёрнуло ещё раз.
— Бог мой, — прошептал он.
Морячка смотрела прямо на Трофима. И моторист безвольно сел.
Гребцы, полицейские-мотористы да и все, кому доводилось ходить за Тёмные шлюзы, обычно шутили, что Морячку лепили с писаной красавицы. Возможно, заискивая перед ней, они пытались справиться с собственным страхом. Так или иначе, скульптурная барышня действительно была хороша. Особенно вышла лицом.
Сейчас Трофим направил на неё пулемёт.
— Да он рехнулся, — ошеломлённо произнёс кто-то. — Надо его…
Но моторист видел, что эта догадка запоздала. Что-то происходило с образом писаной красавицы. Именно это заставило моториста вспомнить Бога. Морячка старела. Прямо на глазах. Будто решила догнать ту неведомую модель, незнакомку, с которой была когда-то сотворена. Скульптурная голова пошла складками, покрываясь сеткой потрескавшихся морщин, из-за чего больше не казалась ослепительно-белой; той же трансформации подверглись руки. Ослепительный свет юности покинул её. Морячка смотрела на них, ухмыляясь сухоньким ртом дряхлой старухи.
Трофим открыл огонь.
Глубоко посаженные теперь глаза Морячки гневно сверкнули. И хотя пули не причиняли ей вреда, казалось, растворяясь в окружающем воздушном мареве, на какой-то миг ничего человеческого в её образе больше не осталось. Словно в действительности она была скульптурным памятником какому-то неведомому древнему чудовищу, сквозь старушечьи черты проступил грозный лик с копошащимся клубком змей вместо волос.
Моторист застонал.
— Получи, получи, тварь! — орал Трофим.
— Вяжите, вяжите шефа! — кричал кто-то сквозь грохот выстрелов. — Оттащите его…
Всё скульптурное тело Морячки двинулось. Моторист почувствовал, как образовалась какая-то тёмная ватная пустота в районе солнечного сплетения. Он положил слабую руку на руль — наверное, нужно уводить отсюда лодку…
Но и на это больше не осталось времени.
Морячка присела и отвела руку для замаха. Скульптурные пропорции юной физкультурницы исчезли, и сейчас она больше напоминала тяжелоатлетку, метательницу молота или диска. Чем она и собиралась заняться. Под тонким слоем гипса играли живые мускулы.
— Пожалуйста… — прохрипел моторист.
Едкая пороховая гарь начала виснуть над лодкой. Кто-то, у кого ещё хватило воли действовать, наконец, кинулся к Трофиму, которого движение Морячки раззадорило ещё больше. А может, он вконец ополоумел и слал теперь пулю за пулей.
«Как нелепо», — подумал моторист.
Кораблику, что Морячка держала в руках, желая путникам доброго пути, судёнышку с белым парусом, полным самых радужных надежд, суждено было стать грозным метательным снарядом. Со смертоносной скоростью он устремился в сторону полицейской лодки. Пулемёт захлебнулся. Возможно, его заклинило уже опрокинутым. Дальше всё происходило как в полусне. Тому, кто пытался урезонить Трофима, оторвало половину руки. Корабликом ли или отстрелило пулемётной очередью, определить не представлялось возможным. Сам Трофим, скорее всего, отделался сломанной челюстью. А вот боец, который, не оборачиваясь, сидел на носу лодки и тихо молился, полетел в воду. Его кораблик убил уже на излёте. Моторист успел вспомнить, что он был единственным из команды, исключая шефа, кто ни разу не проходил Тёмных шлюзов и боялся больше всех. Теперь бедняга умер, даже не поняв этого.
«Господи, как нелепо».
И хоть всё, что осталось в нём рационального, твердило мотористу, что такое невозможно, и кораблик здесь ни при чём, просто у бедняги от страха случился разрыв сердца, сам того не сознавая, он вдруг монотонно забубнил:
— Господи, прошу тебя. Прошу тебя, Господи…
Только в этом месте больше не оставалось надежд. Морячка изогнулась, как пловчиха на старте. Взгляд моториста потемнел и застыл. Кто-то о чём-то кричал. Потом все голоса оборвались.
Она прыгнула в воду. Кинулась головой вниз, оставляя берег своего долгого стояния.
«Прошу тебя, Господи!»
После громкого всплеска сюда пришла волна тишины. Люди переглянулись. Дикий маслянистый блеск застыл в глазах каждого. Потом все взгляды одновременно устремились к тому месту, где стояла Морячка. И переместились чуть ближе, туда, где тень сейчас скользила по поверхности воды.
Она плыла к ним. Тяжёлая статуя не утонула. Бледное овальное тело быстро двигалось в толще тёмной воды по направлению к лодке.
— Прошу тебя…
Моторист бешено завращал глазами. Идея о спасжилете пришла так же быстро, как и развеялась: густой туман по берегам начал темнеть, не суля ничего хорошего. Кто-то решил пустить в ход огнестрельное оружие. «Смешно, но даже на краю бездны люди не в состоянии изменить своих привычек, — посетила какая-то неожиданно апатичная медленная мысль. — Вот так и выглядят катастрофы — смешно и нелепо». Мотористу вдруг показалось, что он находится в дурном некончающемся сне, в котором на самом деле существует лишь одна проблема: надо взять и немедленно проснуться…
Две тяжёлые каменные руки легли на борт лодки. Моторист заскулил. Трофим с недоумением осуждающе уставился на каменные пальцы, затем попытался чуть отползти в сторону и приобнял поверженный пулемёт. Моторист не знал, что произойдёт дальше. Но подумал о чём-то странном: тогда, в Вербилках, он пощадил мальчика, и очень жаль, что сделал это исходя лишь из корыстных соображений…
Как пушинку, Морячка приподняла край полицейской лодки, встряхивая её. Мокрые лопасти работающего двигателя, извлечённые из привычной среды, стали вхолостую вспарывать воздух. Вся команда профессионалов зачистки оказалась в воде. Где их уже ждали: возможно, ледяные водовороты Тёмных шлюзов, а может, холодные руки тех жителей Вербилок, кому было отказано в эвакуации, когда пришёл туман. Лишь Трофим вцепился в основание крепежа пулемёта и изо всех сил зажмурился.
— Не надо, — сказал он.
Морячка отпустила край лодки, а потом подтянулась на руках, нависая над Трофимом. Сломанная челюсть мешала ему внятно говорить. Не открывая глаз, с каким-то чудовищно-кокетливым смущением он отвернулся и попросил:
— Ну, не надо!
Морячка склонилась прямо к его лицу. И глаза Трофима раскрылись. Нижняя часть его лица начала припухать, рот раздвинулся узкой щёлочкой, образуя подобие улыбки. Трофим увидел две чёрные чёрточки в море света, яростном пламени, льющемся из её глаз. И тогда что-то внутри него мгновенно перегорело. Невзирая на сломанную челюсть, рот Трофима растянулся в ещё более широкой улыбке. Наверное, посторонний зритель решил бы, что этот человек безмерно счастлив. Морячка отпустила лодку, легко толкнув её от себя. Двигатель по-прежнему работал. И Трофим поплыл в своё, теперь лишённое цели путешествие по Тёмным шлюзам. Он радостно улыбался, с краешка его губ свисала капелька слюны.
16
Когда затаившуюся по берегам тишину разрезала пулемётная очередь, металлическая маска на вагоне-цистерне мгновенно потускнела и застыла. То, что оживляло, давило на неё изнутри, вдруг отпрянуло, как если б его потревожили или потребовали переключения внимания. Но произошло и кое-что ещё: взгляд металлического лица, оказывается, несколько искажал реальность, создавая между вами и окружающим некий невидимый экран, словно вы находились внутри светового поля от фонарика. И как только сила его взгляда рассеялась, Рыжая Анна смогла увидеть нечто гораздо более неприятное, чем обрушенная впереди ферма моста.
— Трофим решил расстрелять Морячку, — бесстрастно сообщил Ваня-Подарок. Новость, наверное, была ошеломляющая, но альбинос просто констатировал факт. — Он у меня на прицеле. — Потом помолчал и всё же добавил: — Господи, какой идиот!
Анна его услышала. Но смотрела только вперёд. В области где-то пониже желудка родился тёмный холод, и это спазматическое чувство желало завладеть всем её телом. Собственно, ещё когда она говорила Подарку, что у них гости, она думала об этом. Об обрушенной в воду ферме моста. Анна слишком долго проработала здесь танцовщицей и слишком хорошо знала Икшу. Несоответствие сигнализировало мутновато-неприятным фоном: в этом месте прямо по курсу никогда не было моста — ни пешеходного, ни какого другого; переход стоял на железнодорожной станции, но станция осталась у них за спиной. Получалось, что…
Пулемётные очереди всё не смолкали. Она заставила себя об этом не думать. Скорее всего, в полицейской лодке происходило что-то очень дурное. Судя по чудовищным репликам капитана Кальяна, что-то не так (совсем не так!) обстояло с Морячкой. Но и это сейчас не имело значения.
Анна решила оставить этот сектор под контролем Вани-Подарка, он справится. Должен справиться. Потому что там, прямо по курсу в воде находилась не совсем ферма обрушенного моста. Замерев, Анна вглядывалась, пытаясь распознать, не показалось ли.
Металлическая маска на цистерне вновь ожила, и наблюдающий за ними взгляд теперь был направлен на полицейскую лодку. Это продолжалось совсем недолго, и вскоре взгляд вернулся, но Рыжей Анне хватило времени. «А ведь ты вовсе не следил за нами. — Анна ощутила пугающую ясность собственной мысли. — Так, Шатун? Гораздо больше ты пытался скрыть кое-что важное для тебя». Этот спазматический ком подкатился к горлу, пальцы несильно сжали тельце спящей крысы.
Зверёк проснулся, удивлённо посмотрел на Анну и опять задремал. Трофим своей выходкой, сам того не желая, сослужил им хорошую службу. Совсем ненадолго он отвлёк внимание Шатуна, и Анна успела увидеть то, что пытались скрыть. Ей хватило времени, и теперь она не позволит сбить себя с толку.
«Подарок необходим мне здесь», — подумала она. Туман по берегам уже заметно потемнел. Ясное утро словно выцветало, небо принялось набухать стылой тяжестью. Анна не отрывала взгляда от того, что сначала приняла за обрушенный в воду мост. Какие-то неясные контуры мерещились и прежде, теперь всё это стало гораздо различимей. Воздух поплыл, пошёл переливами, и рухнувшая ферма заволоклась маревом тёмного пятна. А потом в нём проступили призрачные очертания труб, из неверной мглистости выплыли огромные гребные колёса, пока словно вращающиеся в пустоте, выступил корабельный нос, сквозь который было видно, и Анна почувствовала, как в лицо ей дохнуло тоскливым холодом.
— Там что-то не так. — Капитан Кальян склонился к самому её уху. Она кивнула. Матвей чуть отстранился, он был бледен, вглядывался в то, что ему совсем недавно представлялось остовом рухнувшего моста; его большая рука легонько легла Анне на плечо и показалась сейчас непривычно слабой.
(О, да, капитан Кальян, в этом мире есть вещи похуже и неестественней, чем ожившие кошмарным образом статуи.)
Вовсе сама не ожидая, Анна глухо и нехорошо усмехнулась. Сделалось ещё холодней. Тяжёлый ком внутри вновь пошевелился.
Это был даже не корабль — скелет корабля, мираж, омытый водами смерти, и он оживал, как скелет, обрастал плотью. Анна сжала кулачки, кончики пальцев были совсем ледяными.
— Бог мой, «Кая Везд», — прошептал Кальян. Его голос сделался пустым, будто треснувшим пополам, как полая сухая палка.
«Ну вот, капитан, теперь и ты видишь его, — подумала Анна. — И тут Хардов оказался прав».
Внезапно он стал близко, слишком близко, нависая над ними. Тут же очень быстро начало темнеть, как перед грозой. Только чернотой набухали не одни лишь тяжёлые облака; туман по берегам менял цвет, сливаясь со свинцовым небом в завесу, упавшую на канал.
— Проклятый корабль, — дошёл до Анны захлебнувшийся, словно пропитанный ужасом голос кого-то из гребцов.
Всё изменилось, привычная картинка сдвигалась с оси координат. Он стоял перед ними, пароход-призрак. Он будто стремился побыстрее слиться с реальностью. Только с изливающих сумрачный свет бортов стекала вода, давно уже покинувшая этот мир, и, не умея смешаться с течением канала, она всё ещё низвергалась в узкие щели вокруг корабля, бездонные провалы, где стыла тьма.
Уже множество криков подхватило:
— Проклятый корабль!
«Действительно, Хардов был прав. — Анна попыталась разлепить обескровленные губы, и ей показалось, что она всё делает очень медленно. Потом она поняла, что это не так. — Он лишь предположил, насколько мог свихнуться Шатун, куда он отправился, но оказался абсолютно прав».
И словно Шатун услышал её мысль о себе и панические возгласы гребцов — металлическая маска плеснула переливом внутреннего тёмного пламени и выступила ещё больше из покатой поверхности цистерны. Она увеличилась, стала чётче, повторяя каждую чёрточку, изгиб и трещинку лица.
Она медленно накренилась, создавая ощущение, что собирается прорвать жёсткую обшивку, высвободиться; там, где должен был начинаться затылок, оказался лишь змеевидный рукав, состоящий из плотного тумана.
— Анна, земля под ним… — тихо произнёс Кальян.
Анна это видела. Земля под вагоном-цистерной качнулась, как вытряхиваемое одеяло, вздыбилась и пошла волнами. Тут же рельсы под многотонным составом откликнулись низким гулом. Вздох земли повторился, только уже сильнее, вспарывая волнующуюся зелёную поверхность глубокими трещинами.
Металлическое лицо двинулось. Но не вдоль железнодорожного состава, как прежде. Окутываясь языками тумана, от серовато-дымчатых до ядовито-чёрных, оно поползло на них, увлекая за собой цистерну, волоча её со ржавым скрежетом поперёк пути. Натянутые рельсы загудели на грани разрыва. Из тумана выступили развёрнутые торцы соседних вагонов. С гулким стоном громада цистерны сорвалась со сцепок и начала крениться. Но металлическое лицо безжалостно тащило её за собой, не давая вагону упасть.
Наконец, не выдержав, лопнул первый рельс. Потом ещё один. Он поднялся вместе с трухлявыми обломками шпал, изгибаясь причудливым щупальцем. На миг из тумана вынырнула крыша дома или какого-то станционного строения, но так, будто вы смотрите на неё сверху. Казалось, вся Икша превратилась в одно огромное цунами и собралась провалиться сквозь землю.
Туман двинулся на канал. И перед ним, вспахивая грунт поставленными поперёк колёсами, ползла цистерна, словно какое-то чудовищное насекомое, со скрюченными по бокам рельсами вместо лапок и мятущейся спереди человеческой головой, укрытой дымами и металлической маской. Анна попробовала сглотнуть и почувствовала резь в горле от высохшей корочки. Она заставила себя осознать, что такое невозможно, но только что она видела, как эта ползучая тварь пыталась помочь себе, отталкиваясь рельсами от земли.
Анна поднялась. Револьвер со взведённым курком был у неё в правой руке, дремлющая крыса переместилась на согнутый локоть левой. И перекрывая возникшую было на лодке панику, прозвучал голос капитана Кальяна:
— Нечего тут смотреть! Вёсла по правому борту — обходим его. — Матвей глядел прямо по курсу и указывал на корабль, который словно вдыхал всё, что было в вас живого, и выдыхал зияющую тьму. — Вперёд, парни! Это просто призрак. И с нами гиды. Если туман пойдёт на нас, ложитесь на дно лодки. Даже рядом с этой тварью, — Матвей указал на пароход-призрак, — туман никогда не сможет коснуться воды.
«Не совсем, капитан. — Анна вдруг почувствовала, как здесь, в этом тёмном проклятом месте, внутри неё всё озаряет свет короткой улыбки. Она была благодарна Матвею за его спокойную надёжность и правильную интонацию, и она почувствовала гордость за него. — Здесь ты не совсем прав. Лодка не спасёт. Воды туман не коснётся, но нас достать сможет».
— Вперёд, парни, правый борт, вперёд. — В глазах Кальяна не было ни отчаянной отваги, ни уж тем более безрассудства, толкаемого страхом, лишь некоторое яростное презрение. — Покажем этой твари, что такое настоящие гребцы!
Анна сделала шаг к нему.
— Нет, капитан, давай прямо на него, — попросила она, указывая на корабль-призрак.
— Ты уверена? — чуть помолчав, спросил Кальян.
— Да, — она кивнула. И мрачно добавила: — Устроим в Аду небольшой переполох.
А потом склонилась к свернувшейся на руке крысе. Зверёк не спал. Внимательные настороженные глаза смотрели прямо на Рыжую Анну.
— Я слышу твоё сердце, — нежно произнесла она.
17
Бон вояж! Бон вояж!
«Тёмные шлюзы, — подумал Фёдор. — В который раз я уже прохожу их».
Он попробовал открыть глаза и понял, что это всё ещё сон. Но, наверное, не тот, счастливый, где Ева приходила к нему и приходил Хардов с просьбой позаботиться о ней (почему?), а тот, в котором были голоса.
Два скремлина и два воина.
Ещё Хардов говорил о прощении, и от его слов какая-то непосильная ноша сваливалась с сердца.
Действительно, почему? Разве ты в чём-то виноват передним?
— Ева, — позвал Фёдор. Но окончательно выйти из болезненного сна, липкой смеси яви и бреда, не удалось. Вся циновка, на которой он лежал, и покрывало были насквозь мокрыми от пота.
А ты понял, кто второй воин?
А второй скремлин?
Голоса…
бон вояж
бон вояж!
* * *
Только голосов было намного больше. Они снова спорили в нём, твердя прямо противоположные вещи, и это становилось всё нестерпимей. Их обладатели прикрывались разными личинами, но все они собрались здесь, в его тесной каюте, где потолок то уплывал, то, напротив, низко склонялся к нему вместе со стенами.
«Два скремлина, и от обоих пользы с гулькин нос, гребцы и целых два воина».
Визгливо-издевательский фальцет принадлежал старикашке-пьянице на плоскодонке, голос же того, другого, с покрывалом из сумрака на плечах, каким он явил себя на Ступенях, был исполнен мрачной торжественности и непреклонности, словно огонёк костра окончательно задули в ночи.
«Я прошу тебя, прошу тебя, спаси нас, — говорила Ева, но самой девушки тут не было. — Я отдам тебе часть своей любви, я смогу, но останься жив».
(«Кстати, а кому она это говорила? — интересовалась Сестра. — Уж не Хардову ли?»)
Это неправда. Неправда! Не Хардову. И Сестра не могла об этом спрашивать. Раздавался дребезжащий хохоток, и образ Сестры таял, а на её месте оказывалась каменная голова со дна канала, которую он видел в давешнем кошмаре.
«О, браво, наконец догадался! — визжал старикашка-пьяница. — Вот почему здесь освещение отличается от того, на канале, за узкими прорезями окошек».
(Это мёртвый свет. Потому что ты тоже видел его частицу, и от этого теперь никуда не деться. И потому что тебя ищут. Но не только тебя…)
— Ева…
(два скремлина и два воина)
С теми, кто слышит голоса, обычно не происходит ничего хорошего. А уж с теми, кто видит их обладателей, и подавно. Он, конечно, сходит с ума. Вот как бесславно закончилось его бегство из дома. Его голова превратилась в сосуд для смеющихся демонов.
(бон вояж)
Все демоны Тёмных шлюзов собрались там, чтоб уж порезвиться как следует напоследок.
«Ева, где ты? Почему тебя нет? Почему ты не приходишь?»
Фёдор пытается повернуться и открыть глаза. Он ещё ни разу не проходил Тёмных шлюзов. Он ещё только мечтал стать гребцом. Или… проходил?
«Ну, теперь-то ты понял, наконец, кто второй воин?» — Издевающийся голосок старикашки, кажется, режет черепную коробку изнутри. «А он не знает, — тёмно озираясь, ухмыляется Ваня-Подарок (и тут Фёдор убеждён, что это не он, только личина). — Думает на меня».
«Я схожу с ума».
«Всё он знает, понимает, — не унимается старикашка-пьяница. — Скорее, отказывается знать. Потому что тогда всё внутри него рухнет».
«Да-а, — сочувственно кивает дядя Сливень, и к нему присоединяется батя. Но Фёдор видит лишь его печально опущенные глаза, как будто батю притащили сюда против воли, да ещё руки, большие, усталые и такие родные. Фёдору кажется, что у него сейчас разорвётся сердце, — скольким же людям он причинил страдания? — Это ж как не просто проснуться в один день и понять, что ты совсем не тот, кем себя представлял. Прощайте, мои родные! А кто ты теперь, про того ты ничего не знаешь».
«Прекратите», — просит Фёдор.
(я схожу с ума)
Бон вояж!
Бон вояж!
Бон вояж!
И вдруг, сквозь весь этот беснующийся хоровод, как старый друг, которого давно не слышал, пробивается голос, столь похожий на батин:
«Ты прекрасно знаешь, что не сходишь с ума. Ты прекрасно знаешь, что это! — Эти слова Фёдору говорили, но добавляется и кое-что новое. — Пришло время выбирать. Больше за тобой некому подтирать сопли».
И тогда все голоса ненадолго смолкают. Не утихают насовсем, но будто боязливо прислушиваются.
Юноша открывает глаза.
(или это ещё сон во сне?)
«За мной никто не подтирал сопли, — пробует возразить в нём прежний Фёдор. И даже чуть обиженно добавляет: — Никто и никогда».
«Подтирали. И подтирают до сих пор. Сейчас, в эту самую минуту. Но пришло время тебе обо всём позаботиться. Потому что ищут не только тебя…»
Голоса всё ещё молчат. Приходит странный ропщущий звук, словно их обладатели в замешательстве переглядываются, словно еле уловимый шелест проносится по головам толпы. А потом тот, кем представал старикашка у Ступеней, задумчиво и отстранённо произносит: «Что ж… Тогда теперь гораздо важнее ответ на вопрос: кто второй скремлин?»
* * *
Когда Фёдор на всё ещё негнувшихся ногах выбрался из каюты, он не сразу понял, что происходит. Лодка шла сквозь густой туман. Совсем небольшой участок воды, не шире ручейка, пока оставался чистым. Рыжая Анна стояла на носу, склонившись к чему-то, что держала на руках, и была полностью поглощена своим занятием.
На палубу Фёдор вышел полностью одетым. Он прочитал письмо, оставленное ему Хардовым. Оно было от бати, размашистый почерк Макара трудно было спутать. Фёдор не думал о том, рухнул ли весь его мир или нет. Родной он или найдёныш, он будет любить людей, ставших ему родителями, сколько б ему ни осталось. Но сейчас его ждали дела посрочней.
Первым появление Фёдора обнаружил Ваня-Подарок. Альбинос тут же приложил указательный палец поперёк рта, что означало требование тишины, и повёл стволом
(«Снайперская винтовка „Беретта“, — тут же оценил Фёдор. — Хорошее и редкое оружие».)
в сторону каюты. Так малым детям показывают, чтоб немедленно вернулись в свою комнату. А потом их взгляды встретились. Робкая недоверчивая улыбка родилась на губах Ивана. Фёдор еле заметно кивнул. Улыбка стала шире. И радостней. Они поняли друг друга.
Внизу батиного письма Хардов приписал несколько слов своей рукой. Фёдор очень рассчитывал не опоздать. Письмо он спрятал во внутренний карман. И забрал оставленный манок. «Мой манок», — поправил сам себя мысленно.
(Эх, Хардов, Хардов, как же так можно?)
Ни пера, ни меха, ни чего-либо ещё к латунной трубке с костяным бумерангом не крепилось. Ведь он пока не нашёл себе скремлина. И тот не нашёл его.
Голова всё ещё немножко кружилась. Но ничего, он справится. Не каждый день на вас обрушиваются Вселенные. Справится. Задубелый ремешок с орнаментом, латунная трубка, бумеранг, как что-то давно забытое, оставленное пылиться на полке, нечто из другой жизни, наполнявшее радостью и отвагой, — теперь он узнавал свой манок. Они снова узнавали друг друга. Действительно из другой жизни. Но не каждый день на вас обрушивают Вселенные, и ещё реже вы в состоянии это принять.
(Эх, Хардов, зачем?)
Это была правда. И это была неправда. Пришло время делать выбор. От этого всё и зависит. Как говорят на канале, все другие хорошие новости для него закончились.
Фёдор быстро окинул взглядом всю лодку.
— Где Хардов? — спросил он у Вани-Подарка. Он всё ещё надеялся не опоздать. И второй вопрос, который волновал не меньше, всплыл сам собой: — Где Ева?
Альбинос молча сжал челюсти и еле заметно кивнул в сторону берега. Где проплывала Икша, пожранная мглой. Фёдор понял, что его прогноз не оправдывается. Он опоздал.
18
Когда Раз-Два-Сникерс вышла к началу улицы Победы, труп королевы-оборотня уже начал коченеть.
Едва только приступив к спуску в Икшу, она услышала этот вой. «Вот уж правда, в прямом смысле в жилах стынет кровь», — подумала она.
Раз-Два-Сникерс была хорошо осведомлена, что значит этот вой и что мог означать выстрел, после которого всё стихло.
— Хардов накормил тебя серебром? — обратилась она к холодеющему трупу, над которым уже кружили первые мухи. Королева была сильной, очень сильной, и даже сейчас, после смерти сила ещё не до конца покинула её. При приближении Раз-Два-Сникерс труп плеснул сиянием, явив образ мёртвой девушки. Худенькой, бесцветной, вызывающей лишь жалость и горькое недоумение: как такое вообще можно было сотворить с несчастной?
— Всё не успокоишься? — процедила Раз-Два-Сникерс.
Те, кто собрались у своей поверженной королевы, находились в прострации. Некоторые сонно поглядывали на неё. Лишь одна из них, как и секундами ранее её королева, отозвалась тусклым свечением, прореагировав на незваную гостью расплывчатыми и довольно неубедительными чертами крупной светловолосой женщины.
«Ты будешь следующей, — подумала Раз-Два-Сникерс. — Следующей королевой. А может, и нет, вы хитрые твари».
Наверное, стоило бы её прикончить и выиграть время, прежде чем они снова очухаются. В сумке для патронов у Раз-Два-Сникерс лежали серебряные пули, но их было совсем немного, и она не могла рисковать. Что-то ей подсказывало, что стоит экономить — совсем скоро каждая из пуль станет бесценной. Совсем скоро эти хитрые и крайне мстительные твари получат новую королеву (возможно, вовсе и не рослую светловолосую) и возьмут след.
Ей стоило поспешить. Она не знает, почему Хардов решился на такой странный и чудовищно опасный шаг, как обходить Тёмные шлюзы посуху. Догадки были разные, Шатун о чём только не болтал во сне, но наверняка она не знала. Однако когда встала дилемма: следовать ли дальше за лодкой по каналу или идти за Хардовым, она не сомневалась ни минуты.
Впервые со времён своего падения Икша полностью очистилась от тумана. Хардов никогда бы не пошёл туда без достаточных оснований или крайней нужды. В его выборе скрывалось что-то очень важное, возможно, и скорее всего, страшное, но тень этого выбора касалась и её, Раз-Два-Сникерс. И во всём происходящем она, как никогда остро, чувствовала отзвук своей собственной судьбы.
Вскоре Раз-Два-Сникерс покинула место гибели королевы-оборотня. Она шла по свежим следам, оставленным Хардовым и девчонкой, и со страхом поглядывала на берег канала, обложенный чёрной мглой. Некоторое время назад её разрезал яркий свет, а потом, сильно приглушённые туманом, зазвучали выстрелы. Раз-Два-Сникерс прекрасно понимала, что это значит: Шатун ищет Хардова в лодке, но там его нет, и в дело вступили гиды. Сейчас вспышка повторилась. Преодолевая отчаянный страх, она заставила себя идти дальше.
Вспомнила, как Колюня-Волнорез, бледный и липкий от кошмарной перспективы, всё же предложил ей идти в Икшу вместе. Бедный верный Колюня — её маленький козырь. И она оставила Волнореза, к огромному его облегчению, на самой высокой точке линии застав на земляном валу, сказав:
— Ну вот, Колюня, и пришло тебе время прикрыть мой зад. — Помолчала, кивнула и добавила: — мой и Шатуна.
Это было неправдой. Её козырь предназначался для неё самой. Только и против Шатуна она действовать не хотела. Человек, с которым она делила постель, окончательно встал между нею и её судьбой. Но она странным образом всё ещё любила его. Может, это было лишь воспоминание, тоска по тому несбывшемуся, что сулило столько самых радужных обещаний, а вышло вот так. Может, она любила то, что они потеряли, а может, само это воспоминание, только теперь всё это не имело значения.
Нет более глупого занятия, чем жалеть о прошлом.
Раз-Два-Сникерс остановилась на перекрёстке: разрушенная улица спускалась к каналу, но следы вели дальше, отворачивая в сторону. Обходной путь, который выбрал Хардов, лежал через церквушку с высокой колокольней на другом конце города. Зачем? Вроде бы выше звонницы туман никогда не поднимался, и если что, там можно было бы отсидеться. Но… зачем ему отсиживаться? По крайней мере, — она задумчиво вздохнула, — там была хорошая позиция, просматривались оба Тёмных шлюза, да и весь город лежал как на ладони.
У Раз-Два-Сникерс дёрнулась щека. Туман, что стоял на берегу, в конце улицы стал ближе. Придвинулся. Ноги тут же словно прилипли к тропинке. Она обернулась — до линии застав было не так далеко, и она ещё успевала вернуться. Но она пошла вперёд.
«Что ты делаешь?» — спросила себя. У тех, на канале, хоть есть несколько скремлинов, которыми они только что, судя по всему, успешно воспользовались, у Хардова его ворон, а ей рассчитывать не на кого.
Раз-Два-Сникерс глядела на слегка примятую траву. Следы рассказали ей о многом. Размашистые шаги Хардова и с трудом поспевающей за ним девчонки (зачем ты тащишь её за собой?) не вели теперь к колокольне. Они тоже очень спешили, и Хардов решил срезать, направившись прямо к каналу, но и не слишком отклоняясь, чтобы… в случае чего успеть к звоннице? Но почему?
— По какой-то причине ты больше не можешь рассчитывать на своего ворона, — бесцветно произнесла Раз-Два-Сникерс.
Мунира могло сильно потрепать, пока они слонялись по ночному каналу, он мог выдохнуться, со скремлинами иногда случается такое, или… Или ты считаешь, что Шатун сейчас очень силён?
Задумчивые глаза Раз-Два-Сникерс мрачно блеснули. У неё имелась возможность остановить Шатуна. Это был её маленький козырь. Но тогда, оставленный управляющей им волей, Икшу снова наполнит туман (Шатун слишком много болтал во сне), хищная и теперь уже неконтролируемая мгла. И Раз-Два-Сникерс не знала, какое из зол хуже. Равнодушный и всеядный туман не станет искать Хардова, Учителя или кого-то ещё, он лишится адресности и просто будет убивать всё без разбора. Выбирать придётся из двух зол, придётся в любом случае, но пока этот момент не наступил.
Раз-Два-Сникерс подняла голову и посмотрела на колокольню. За ней склон высокого холма, и оттуда через Дмитровский тракт до шестого шлюза рукой подать. И прощай, Тёмные шлюзы! Только колокольня была дальше, намного дальше, чем линия застав.
Наверное, всё ещё не поздно было вернуться. Вместо этого она максимально ускорила шаг. И снова посмотрела на берег канала. Туман ещё приблизился. Теперь он полз настолько быстро, что стало возможным различить его движение. Вне всякого сомнения, мгла возвращалась обратно в город. Раз-Два-Сникерс побежала.
19
«Не волнуйся: мы с тобой одно».
Это были даже не слова. В отличие от Фёдора, Ева не слышала внутри себя никаких голосов. Словно эту мысль кто-то целиком и компактно вложил ей прямо в голову.
«Мы не тронем тебя. Отдай нам только мужчину».
Ева испуганно оглянулась. Город казался вымершим. Хоть туман и ушёл, но утреннее солнце не успело отогреть поражённые им улицы, во влажном липком мареве тяжело дышалось. Стояла полная, какая-то сонная тишина. Лишь с канала долетали приглушённые, как будто до них было намного дальше, звуки выстрелов, и во мгле, тёмной вдоль русла, пару раз ярко вспыхнуло. Кто ж тогда обращался к ней? Ева посмотрела на Хардова и убедилась что тот ничего не слышал. Они уже несколько минут находились на перепутье, вдруг прервав свою бешеную гонку; Хардов молчал, всё более тревожно вглядывался то в берег канала, то, напротив, в другую сторону, где справа от них стояли церквушка с колокольней.
Улица, по которой они пришли, наверное, когда-то была городской окраиной, прямо сквозь мостовую проросли деревья. Ева любила деревья, что были в Дубне, сосны, раскидистый ясень над Волгой, где каждую весну вили гнёзда сойки, и ещё не так давно, всего несколько лет назад она с ними разговаривала и думала тогда, что они ей отвечают. Только здесь деревья были другими. Как и весь город, их пропитала враждебность. В них словно таилось злобное ожидание, пока ещё сонное, но сейчас оно пробуждалось. Потому что… туман стал медленно возвращаться? Или ей только кажется? Ева смотрела на неподвижные тени деревьев и не могла отделаться от чувства, что это с ней разговаривал сам город, вовсе не вымерший, но ставший другим. Здесь теперь поселилось что-то очень плохое, и это оно разлепляло свои сонные глаза.
«Нам нельзя здесь стоять, — подумала Ева, глядя на Хардова. — Эта тишина обманчива. Неужели вы не чувствуете, что отсюда надо немедленно уходить?»
И тогда в густой мгле канала снова вспыхнуло. Да так ярко, как при самой сильной молнии в самую сильную грозу. И тут же кто-то поскрёб ногтем в мозгу у Евы: «Отдай нам только мужчину. Отдай нам мужчину».
* * *
«Третья вспышка, — подумал Хардов. — Ещё ярче предыдущей. А Шатун-то жмёт…» Он быстро обернулся, посмотрел на путь, проделанный от линии застав, — северную часть Икши снова наполнял туман, — и его взгляд вернулся к берегу канала. Весь удар приняла на себя лодка, оставшаяся на Анну. Третья вспышка оказалась под стать той, у Зубного моста, но тогда Хардов был с ними, а сейчас… Даже Мунир, старый друг, был не способен на такое, не говоря уже о молодых скремлинах, взятых на борт у Ступеней. Видимо, оба гида вынуждены действовать совместно, Анна и Подарок, и значит, в деле сразу два скремлина. Что ж такое творится, если им пришлось воспользоваться помощью сразу двоих?
Ответ был очевиден. Шатун не может до них дотянуться, он сбит с толку, — Хардов оказался прав, покинув лодку, иначе они все были бы уже мертвы, и всё, что ему остаётся, — грубо усиливать натиск. Это хорошо и плохо. Шатун тоже на пределе, он выдыхается. Но такое будет продолжаться недолго. Рано или поздно он поймёт, что его провели и он понапрасну тратит силы. Вся их надежда висит на волоске между этим «рано» и «поздно». Шатун очень не глуп. Знает, что времени в обрез, и очень хорошо знает Хардова. Вот тогда и сообразит, где его искать.
Но было ещё кое-что. Третья вспышка оказалась настолько сильной, что в тумане образовалась брешь. На всю глубину в проём хлынуло свечение, и совсем ненадолго открылись берег и канал. Лодка находилась уже совсем рядом с шестым шлюзом.
— Держись, Анна, теперь уже близко, — прошептал тогда Хардов. — Теперь выберетесь.
И подумал, что видел что-то странное. Не только лодку на волне. Значительно ближе, уже на берегу, в свечении мелькнула какая-то тень, какое-то быстрое движение. Это действительно было странно: всё, что находилось в тумане, боялось и избегало этого света. И…
Его пытаются сбить с толку? Хардов пристально смотрел на туман, который опять стал стягиваться, смыкая брешь у берега, на такой уже совсем близкий шестой шлюз, и понимал, что всё решится сейчас. Если Шатун снова нападёт на лодку, это его отвлечёт и они успеют.
— Хардов, — тихо позвала Ева.
Он посмотрел на неё, вопросительно приподняв брови.
— Кажется, мне необходимо вам кое-что сказать.
— Да, милая?
— Но прежде я должна признаться… Я была у Фёдора сегодня на рассвете.
Г ид усмехнулся:
— Мне это известно. Вместе с Рыжей Анной.
— Вы не должны на неё гневаться! Это моя вина. Я её упросила.
Хардов вздохнул. Что тут скажешь? Рыжая была такой же упрямой, как и он сам. Такой же упрямой, как и Учитель. Только иногда это упрямство, идущее наперекор всем правилам, выигрывало. Только оно и оказывалось единственно верным.
— Я не сержусь, — сказал Хардов. — Ни на неё, ни на тебя.
— Хардов, ведь он… Он ведь не тот юноша, что случайно оказался на вашей лодке? Фёдор? Я… Ему ведь не двадцать лет?
— Нет, не двадцать.
— Я так и знала, — горько отозвалась Ева.
Её голос прозвучал неожиданно низко, и Хардов снова подумал, что она уже выросла.
— Меньше всего, поверь, мне хотелось бы тебя расстраивать, — сказал Хардов. — Но, думаю, тебе сейчас известно про него побольше, чем ему самому.
— Это не так. — Ева покачала головой. Она выглядела бледной, очень несчастной и очень красивой. — Он… Он ведь и есть ваш Учитель, да? Ради него всё и было устроено?
— Не совсем, — ровно произнёс Хардов. — Ты же знаешь, как важно было увезти тебя с канала.
— И сколько ему лет?
Хардов молчал. Потом вдруг дотронулся до её щеки и нежно погладил. Так гладят детей, когда хотят их успокоить. Ева не ответила на жест, еле заметно отстранилась.
— Есть вещи сложные для понимания, — сказал Хардов. — Но ты обязательно поймёшь. Обещаю. И увидишь тогда, что в этом нет ничего страшного.
— Сколько лет? — настойчиво повторила девушка.
На этот раз молчание вышло совсем недолгим.
— Мы с ним самые старые на канале, — улыбнулся Хардов. — По крайней мере, с этой стороны Тёмных шлюзов. Самые древние. Между нами только Тихон.
Ева тяжело вздохнула:
— Вот как…
Отвернулась, склонив голову. Вдруг нагнулась, сорвала травинку и тут же о ней забыла.
— Бедный, как же ему сейчас, — пристально посмотрела на Хардова и отвела взгляд. — Как это вынести?
Снова вздохнула и бросила травинку на землю:
— И как же его на самом деле зовут?
— Тео, — ответил Хардов. — Нашего Учителя звали Тео. Он принял это имя, когда всё рухнуло.
— Вот ведь, похоже… почти.
Глаза у Евы еле заметно увлажнились.
— Я даже не успела ему сказать, что нет никакого жениха, — горячо прошептала девушка. — Никого у меня нет! И… вот.
«Ещё меньше, чем тебя расстраивать, я хотел бы, чтобы вышло так», — подумал Хардов. И чтоб её утешить, пообещал:
— Ещё скажешь.
— Нет, — возразила девушка. — Ничего я ему теперь не скажу. Да и кому говорить?!
Хардов посмотрел на неё. Подумал: не зарекайся. Никто не знает, как на самом деле складывается колода. Старуха Судьба любит поиграть случаем. Мы все шли на ощупь. Я избегал даже самого этого предположения, а вот Анна… А что, если вы созданы друг для друга? А что, если это то, чего мы не понимаем, чего мы не учли?
— Ева, — позвал Хардов.
Она горько улыбнулась:
— И когда он станет… тем?
— Мы говорим о возвращении, — мягко сказал Хардов. — Гиды.
— Ладно, — слабо кивнула.
— Он должен добраться до одного места, где… Мост через канал. Очень большой. Это там, впереди, почти у самой Москвы. Возможно, мост уже совсем обрушился, сто лет не был в тех краях. Но только там его возвращение полностью состоится. Он должен вернуться туда, увидеть и вспомнить…
Хардов замолчал, но Ева словно прочла его мысли:
— Кто он? Так? — И совсем испуганно: — Или что с ним случилось?
— Гиды называют это местом, где заканчиваются иллюзии, — будто нехотя, пояснил он. — Началось немножко рано. Поэтому мы вынуждены так спешить. Каждый лишний час может стать губительным для… для его рассудка.
«А ещё ему необходимо выбрать нового скремлина, — подумал он. — Без этого, без любви своего скремлина возвращение гида тоже невозможно». Но Хардов не стал об этом говорить.
Она немного поразмышляла над услышанным, будто пугаясь дальнейших слов, потом спросила совсем тихо:
— Это ведь плохое место? Тёмное? Он… Там ведь… смерть? Да?
Ева не услышала, как у Хардова скрипнули зубы. Возможно, этого и не произошло, он лишь на мгновение слишком крепко сжал челюсти.
— Ева. — Ком всё же подкатил к горлу, но она, к счастью, и этого не заметила. — Мы там виделись с Учителем последний раз. Там действительно погиб один человек. И мы думали, они оба погибли. А потом Мунир отыскал его манок. И мы поняли, что произошло то, что ещё ни разу не случалось. Что он жив. И нашли его в Дубне. В доме приёмных родителей.
— Ни разу не случалось? Но Хардов, ведь… тогда на болотах вы назвали себя…
— Вернувшимся воином? Да, Ева, я тоже. — Хардов кивнул. — Но ещё никто не возвращался дважды. Это никому не под силу.
— Вернувшийся воин…
— С теми, кто в тумане, нужно говорить на древней речи, — без улыбки сказал Хардов.
— И вы тоже… этот мост?
— Нет, у меня было по-другому. — Теперь он еле заметно улыбнулся. — Оно у каждого своё, место, где заканчиваются иллюзии.
Хардов замолчал, то ли мечтательно, то ли печально, потом продолжил:
— Но когда пришёл срок, мы с Тихоном сделали так, чтобы Фёдор оказался в нужной лодке, даже не догадываясь об этом. Нельзя прежде, и так… Весенняя ярмарка оказалась весьма удачным моментом. Упрямый мальчишка так ничего и не понял. Но всё равно пришлось его немножко погонять.
Она взглянула на него. Совсем несчастная. Прошептала:
— Он мне так не понравился. Сначала. Он… совсем будет ничего не помнить? Совсем?!
Хардов рассмеялся:
— С чего ты взяла?
— Видимо, мне на роду написано со всеми прощаться.
— Вовсе это и не так, — сказал Хардов. — Но… Ева, послушай. Постарайся… Это действительно сложно для понимания, поэтому пока, прошу, просто верь мне. Но для нас сейчас главное — выбраться отсюда. Нам всем необходимо, и Фёдору тоже, пройти Тёмные шлюзы.
Ева молча кивнула. И всё же чуть слышно произнесла:
— Бедный, как он там?
Хардов улыбнулся. И подумал, что она находится сейчас в совершенно другом, очень хрупком мире. Услышав это её повторное, исполненное бесконечной нежности «бедный», Хардов решил, что вот она и справилась с шоком и снова приняла его, Фёдора, хотя пока, возможно, этого не знает.
Так же, вполне вероятно, он ошибается, и она приняла лишь своё чувство и одновременно его невозможность. Хардов был не очень силён в подобных вещах.
Он отвернулся. Наверное, если б мог, он позволил бы ей побыть одной. Но Хардов смотрел на такой уже близкий шлюз № 6 и понимал, что не ошибается. Туман действительно стал ближе, мгла заволакивала начало улиц, спускающихся к Дмитровскому тракту.
Он снова вспомнил это странное движение, быструю тень, которая мелькнула на берегу после третьей вспышки, — чем бы оно могло быть? Всё же Хардов решил дать девушке ещё немного времени, самую малость. Она находится в хрупком мире? Но не именно ли его стоит оберегать?! Не ради ли этого они отправились когда-то противостоять мгле?
— Ева, милая, — начал Хардов и замолчал, подыскивая слова. Оказывается, он забыл слова, предназначенные для этого. — Я… понимаю, как тебе сейчас… нелегко. Но поверь, иногда… всё может сложиться совсем не так, как видится. И ты даже не знаешь, где найдёшь.
Она недоверчиво посмотрела на него. Мрачнее тучи. Усмехнулась, но в самом конце этой усмешки в её глазах мелькнул слабый отсвет благодарности. Хардов хотел было ещё что-то добавить и понял, как неловко прозвучало сказанное. Но большего он сказать не мог. «Мы находимся в самом центре Ада, и меньше всего я оказался готов к тому, чтобы утешать здесь влюблённую девушку».
— Ева…
— Я в порядке. — Она кивнула. — Простите. В порядке. — Несильно приобняла себя, как спасаются от озноба, и попыталась улыбнуться. — А для самых древних вы неплохо выглядите.
— Есть такое, — серьёзно согласился Хардов. — Особенно Фёдор.
Но её улыбка уже померкла.
— Вы правы. — Теперь она посмотрела на Хардова по-другому, возможно, тревожно, но было и что-то ещё. — Нам действительно нужно отсюда уходить. Как можно скорее. Именно это я собиралась вам сказать.
Хардов взглянул на канал. Туман уже полз по улицам. Быстрее, чем двигался обычно, как будто суетливо спешил. Он и спешил: Шатун больше не станет нападать на лодку. Они не успевали. А шестой шлюз казался таким близким…
— Туман возвращается, — сказал Хардов. И с сожалением вздохнул. — Придётся сменить маршрут.
— Нет, только не это, — произнесла Ева. В голосе тоскливая тревога, предостережение. Хардов быстро посмотрел ей в глаза, и… Она что-то скрывает?
— Ева, — спокойно сказал Хардов. — Я чего-то не знаю?
Она пожала плечами. Бросила опасливый взгляд на мёртвый город, сквозь который они прошли и где, казалось, не движутся даже тени.
— Со мной попытались говорить. — Озноб снова пробежал по её телу.
— Кто? Ева… — И хотя его лицо выражало сомнение, Хардов всё же спросил: — Оборотни?
Она кивнула.
— Что ты слышала?
Попыталась ответить, но создалось впечатление, что не может разомкнуть губ. Еле выговорила:
— Плохие вещи.
— Ева…
— По-моему, они уже выбрали себе новую королеву.
20
Раз-Два-Сникерс видела, как Хардов с Евой стояли на перепутье, принимая решение, куда им следовать дальше. Она заняла позицию в звоннице, наблюдая за ними и не опасаясь быть обнаруженной. Но то, что она видела, нравилось ей всё меньше. Туман быстро полз к колокольне с двух сторон: от берега и с северной части города; окажись Хардов чуть ближе к шестому шлюзу, путь к отступлению был бы уже отрезан. Хардов это понял, и теперь они спешно направились сюда, к церкви. Но…
— Где Мунир? — Раз-Два-Сникерс даже не успела осознать, что разговаривает вслух.
У неё был очень хороший и цепкий глаз. Но как она ни всматривалась, никаких следов ворона поблизости обнаружить не удалось. Пусть Хардов и не может сейчас по какой-то причине на него полагаться, обычно скремлины очень быстро восстанавливались в тумане, особенно такие, как Мунир, и… Она выдохнула. Почувствовала на губах шершавость, как будто они обветрились.
«Хардов, ты сошёл с ума? — Эта мысль пронзила холодком, заставила плотно сжать челюсти. — Что всё это значит?
Ты… ты явился сюда без защиты?!»
Всё внутри неё отказывалось верить в подобное. Раз-Два-Сникерс как-то дико осклабилась. Поглядела по сторонам. Она тоже пришла без защиты. Но… Но это другое. Она знала, чувствовала, надеялась (да что там, была убеждена!), что как бы Хардов её ни презирал, не в его правилах бросать людей на растерзание тумана. Раз-Два-Сникерс быстро моргнула. Оказывается, она очень сильно рассчитывала на Мунира. Теперь эта последняя надежда испарилась, от неё ничего не осталось. Под ложечкой болезненно засосало. На мгновение она запаниковала, тут же сказав себе, что в отличие от Хардова никуда не спешит и, в случае чего, сможет здесь отсидеться, пока всё успокоится, а затем вызовет эвакуацию с линии застав. Только…
Её взгляд остановился на проёме, где была видна винтовая лестница, по которой она поднялась в звонницу. Только тогда весь её путь сюда станет лишённым смысла, окажется просто взбалмошной выходкой, нелепостью. Что-то внутри Раз-Два-Сникерс заставило её посмотреть на тяжёлую деревянную дверь с коваными запорами, которой, наподобие люка, закрывался проём. Её глаза нехорошо блеснули. Крышка люка была поднята, на задвижке висел массивный амбарный замок. Достаточно попытаться закрыть люк, и Хардов не сможет сюда подняться. А вся её попытка бегства станет не просто эксцентричной взбалмошной выходкой, а ещё одним предательством, окончательным предательством самой себя.
Раз-Два-Сникерс мрачно усмехнулась: обстоятельства только что потребовали от неё расставить все точки над «i», в жёсткой ультимативной форме решить, на чьей она стороне. Она больше не сможет с этим тянуть, играть; чьи-то безжалостные металлические руки ухватили её, не давая вырваться, и снова тянули назад. Раз-Два-Сникерс сдавленно, грустно огляделась. Кто-то (гиды, кто же ещё, в основном Тихон, но и Шатун тоже) обустроил в звоннице что-то типа оборонительного пункта. Ей даже удалось обнаружить скромный запас патронов наиболее распространённого калибра 7.62 (самое ценное после света скремлина, чем люди могли поделиться в тумане), небольшое количество провизии — сухпайки, герметично упакованные спички с розжигом. Эту крышку люка тоже соорудили недавно. Тому, кто когда-то построил церковь, не требовалось закрывать вход в звонницу.
Раз-Два-Сникерс вдруг почувствовала внутри себя какую-то сковывающую безнадёжную усталость. Она так поступала всегда, так стоит ли?.. Достаточно захлопнуть эту деревянную дверь, совсем скоро туман убьёт Хардова, и Шатун получит свой приз. А она снова окажется его верной девочкой, молодцом (ещё каким молодцом — куда забралась, проницательная!), его верной амазонкой мглы…
Улыбка на губах Раз-Два-Сникерс вдруг стала брезгливой. Но взгляд всё ещё был алчно прикован к крышке люка…
21
«Отдай нам только мужчину. Только мужчину».
Хардов шёл настолько быстро, что Ева с трудом поспевала за ним, и иногда ей приходилось переходить на бег. До церкви оставалось совсем недалеко, но справа от них, с северной части города плотной завесой надвигался туман. Ева поймала себя на ощущении какой-то тревожной двусмысленности. Здание церкви, хоть во многих местах и пообвалившееся, как иные сооружения канала, которых избегал туман, выглядело неправдоподобно новым. Как будто построенным только вчера, причём сразу с изъянами, хотя вокруг царило полное разрушение. В этом было что-то неправильное и одновременно…
«Там мы окажемся в западне, — подумала Ева. — Хардов пока этого не знает, но здесь всё поменялось».
Несколько минут назад, перед тем, как им пришлось сменить маршрут, Хардов указал ей на шестой шлюз, сказав:
— Нам надо добраться туда. Если окажется так, что меня не будет рядом…
Ева отрицательно замотала головой, но он не дал ей договорить:
— Нам не до мелодрам! Если так случится, ты должна будешь переждать в звоннице. Анна знает, где тебя искать. А туман тебя не тронет. Всё, пошли.
Хардов повернулся и быстро зашагал к церкви. Ева не стала ничего говорить, но… Наверное, так было. Она прекрасно понимала, что имел в виду Хардов. Так было. Раньше. Но теперь здесь всё поменялось. И Ева не могла отделаться от странного чувства, что здесь всё поменялось из-за неё.
«Хозяин научил нас, как спрятать Королеву. Он дал нам сил. Но мы тебя не тронем. Отдай мужчину».
Ева вздрогнула, чуть не споткнувшись, и остановилась. Хардов тут же обернулся, словно у него глаза были на затылке:
— Что случилось? Ева?!
Церковь была уже совсем рядом, через небольшую площадь. Они остановились на углу запустелого здания с выбитыми окнами и давно уже выцветшей надписью «Продукты». В отличие от этого бывшего магазина и окрестных домишек-развалюх старое кладбище у церкви совсем не заросло, кресты и памятники возвышались, отливая новизной, и сквозь стены колокольни не проросло ни одного растения.
И опять Хардов понял, в чём дело:
— Оборотни, да? Снова разговаривали с тобой? Постарайся…
И Хардов замолчал, видимо, испугавшись того, как она побледнела.
— Они уже близко, — произнесла Ева.
22
«Туман знает всё про нас. Все наши страхи, слабости, всё плохое, на что мы способны. Но иногда он хочет убедить нас, что мы хуже, намного хуже, чем есть на самом деле. И какими можем быть».
Раз-Два-Сникерс моргнула. Кто это говорил ей? Очень давно, кто? Тихон? Учитель, Лия? Или, может быть, Хардов? Который ещё даже не предполагал, что станет презирать её. Вроде бы обычные слова, банальность, только здесь, сейчас…
«Может быть, я не настолько плоха? У-ум, Хардов? Может быть, у меня есть шанс?»
Раз-Два-Сникерс с немалым усилием заставила себя оторвать взгляд от люка. И тут же ей стало гораздо легче. Казалось, нечто, присутствующее рядом, жадно ожидало её решения. Нечто, повисшее тяжким мороком на плечах, ждало с той же нетерпеливой алчностью, злорадным предвкушением. И теперь разочарованно отпрянуло, словно таившаяся здесь пагуба нехотя отступила, не добившись результата.
Раз-Два-Сникерс улыбнулась. Ей стало не просто легче. Впервые за много лет её улыбка не означала функционального удовлетворения или расчётливой игры, впервые она вышла простой и бесхитростной, зато лилась прямо из сердца, будто только что освобождённого от какого-то тёмного сна. Это забытое, почти детское чувство оказалось настолько сильным, что её буквально стало наполнять радостное ликование. И возмездие Тёмных шлюзов не заставило себя ждать. Раз-Два-Сникерс ещё не успела выглянуть из-за звонницы. Хардов с девчонкой были уже в двух шагах от церкви, но почему-то остановились.
«Плохо дело», — мелькнуло в голове Раз-Два-Сникерс. С высоты звонницы ей открывалась картина намного более пугающая, чем Хардов мог видеть внизу. Слева от них туман почти вплотную подкрался к старому кладбищу, но и тот, что поднимался от берега, был уже рядом. И хотя для Хардова улица всё ещё оставалась чистой вплоть до Дмитровского тракта, постройки и высокий склон скрывали от него истинное положение вещей. Туман с канала наполнил всю низину и двигался клином, сильно оторвавшимся от основной массы; остриё его, словно притягиваемое Хардовым, уже ползло по задним дворам здания, у которого они сейчас стояли. Выбитые стёкла, внутри колышется мрак, истёртая, но вполне читаемая надпись «Продукты», и два человека под ней, как зловещая шутка, иронично-чудовищное приглашение на пир для тварей, которые уже совсем рядом.
«Вам нельзя там стоять! — хотела крикнуть Раз-Два-Сникерс, борясь с желанием не открывать себя прежде времени. — Немедленно бегите в церковь!» И словно в ответ на её порыв или такую недавнюю улыбку в надвигающемся тумане раздался жуткий вопль… Раз-Два-Сникерс доводилось слышать, как воют оборотни. Действительно, как и рассказывали «бывалые», жуть их голосов способна разорвать в клочья ваш рассудок, высасывая из застывшей крови всё тепло, всю радость и все надежды. Порой люди не выдерживали и сдавались, чуть ли не с благодарностью прекращали любые попытки к сопротивлению. Но этот леденящий звук отличался от всего слышанного прежде. Это был вой самой погибели. Сначала одинокий, но вот его начали подхватывать с разных сторон. Ещё и ещё. Церковь было окружена. Оказывается, они находились даже ближе, чем Раз-Два-Сникерс могла предположить. Подошли, скрытые туманом.
И теперь стали сжимать кольцо.
23
Фома не понимал, что происходит. Вроде бы он хорошо выспался, да и утро выдалось не настолько жарким, чтоб его смаривал сон, но он всё равно засыпал. Уже не в первый раз. Хоть спички в глаза вставляй.
А сейчас никак нельзя было спать. Звонок с линии застав поступил вместе с восходом солнца.
«Ну, вот и пора», — подумал Фома, при всём своём пресловутом неверии крайне благодарный Раз-Два-Сникерс, что не придётся торчать в ожидании сигнала возле Станции ночью, что выполнение порученного выпадает на светлое время суток.
— Не просто продолжила преследование Хардова! — кричал в трубку Колюня-Волнорез; он явно был перевозбуждён. — Она спустилась за ним в Икшу!
— Ненормальная, — пробурчал Фома. Наверное, уважительно, но и не без доли осуждения за самонадеянное безрассудство.
Вскоре он уже заложил заряд, свою работу знал, рассчитав таким образом, чтобы взрывной волной тяжёлую металлическую дверь не отшвырнуло внутрь Станции. Никому здесь не надо покалечить босса. И так попадёт, что вмешались без разрешения. С другой стороны, дальше тянуть некуда. И хоть голоса и всякая ненормальная музыка, от которой мурашки бегут по телу, стихли, честно говоря, эта тишина пугала ещё больше. Ну не может такого быть, чтоб живой человек совсем никак не выдавал своего присутствия. На одной воде, без еды, уже больше недели, может, ему там плохо, может, лежит внутри «Комсомольской» без сознания, а они тут прохлаждаются. Приказ есть приказ, но и голову порой надо включать.
Фома с точностью выполнил все инструкции и уселся на раскладное кресло с удобной деревянной спинкой прямо напротив бункерной двери ждать условного сигнала. Даже ближе к Станции, чем позволил бы себе тот же Колюня-Волнорез. При ярком свете дня никакие её фокусы не страшны.
— Да и ночью тоже, — со смесью вызова и снисхождения пробормотал Фома, глядя на бункерную дверь. Словно желая подчеркнуть, усилить сказанное, беспечно зевнул, изобразив на лице скуку.
И заснул.
Вскочил удивлённый, с тяжёлой головой, чуть своё кресло не опрокинул. Уставился на Станцию. Посмотрел на свои механические часы, подарок Шатуна. К счастью, прошло не больше минуты; не хватало ещё сигнал прозевать. Наверное, на солнышке разморило. Единственное росшее поодаль деревце давало чахлую тень, и Фома решил устроиться под ним. Перетащил туда кресло и сам не заметил, как опять стал клевать носом.
«Спи-и».
Фома затряс головой. Быстро протёр глаза. Посмотрел на дверь. Затем на узкие окна Станции, показавшиеся непроницаемыми. Однако с зарядом был полный порядок. Фома убедился — не о чем беспокоиться. Магнето лежало на коленях, никакие призраки «Комсомольской» не повредили проводки, и достаточно нескольких поворотов ручки. Фома кивнул. Тень от чахлого деревца мерно покачивалась. Свежий утренний ветерок был такой редкостью в этих местах, действительно, не о чем беспокоиться. И нет ничего страшного в том, что он устроится поудобней…
«Спи-и-и-и».
Теперь уже Фома пробудился от того, что его голова упала на грудь. Со смущением оглянулся, не видел ли кто, как он спит на посту. Затем подобрал ноги. Подозрительно посмотрел на Станцию. Застывший взгляд потемнел. Он вовсе не собирался засыпать. Но произошло что-то странное — опять отключился. И… кое-что слышал. Оказывается, за бункерной дверью голоса не исчезли насовсем. Возможно, это лишь приснилось, но он их слышал. Босс с кем-то спорил. Фома поморщился. И снова подозрительно покосился на Станцию. Он не знал, сколько здесь придётся проторчать, поэтому прихватил с собой тормозок. Поднялся, убеждаясь, что мышцы, к счастью, не затекли, не успели. Перекусывать не стоит, учитывая эту внезапную сонливость, может, только попить водички.
Фома отвинтил крышку, приложил губы к горлышку фляжки. Сделал глоток, глядя на дверь, установленную Шатуном. Быстро облизал губы. Что всё это значит? Нет, он, конечно, не верит во всё такое, однако…
— А ведь это ты хочешь, чтобы я спал, — внезапно пробормотал Фома. — Хочешь помешать мне.
Фраза, как и сама мысль, были явно ненормальными. Идущими вразрез со всеми его взглядами. Однако… Ещё в первый раз он подумал о том, что это Станция пыталась его усыпить. Ещё в первый раз, когда он тут уснул, как желторотый новобранец. Выходит, такие у нас теперь фокусы?
А ведь Раз-Два-Сникерс предупреждала, что может произойти нечто подобное, чтоб был начеку. Да он отмахнулся тогда.
— Не знаю, что именно, — говорила Раз-Два-Сникерс, — но… следи-ка, дружок, за зарядом. Следи повнимательней.
Не думаю, что «Комсомольской» это понравится.
— Нет, ты что, серьёзно? — осклабился Фома.
— Более чем. — Она посмотрела на него, затем в холодных глазах мелькнула эта её непередаваемая насмешливость. — Фома, меня не касаются твои взгляды на вещи. Просто делай свою работу.
Сейчас Неверующий Фома неспешно завинтил крышку. Стоило признать её правоту. Потому что было ещё кое-что. Босс с кем-то спорил. С кем-то по имени Парень Боб. Фома понятия не имел, кто это такой. Но с удивлением обнаружил, что босс его сильно уважал. Но самым диким была странная нелепая мысль, даже, скорее, смутное ощущение, что этот таинственный Парень Боб каким-то неведомым образом скрыл их с боссом разговор от Станции. Но не от Фомы. Что Станция об этом споре не знает. Догадывается, полная тёмных подозрений, но не знает наверняка. Фома слышал всего несколько фраз.
— Не ходи туда, — предупреждал Парень Боб.
— Почему? — заискивающе оправдывался Шатун (Фома никогда не слыхал, чтобы босс перед кем-либо заискивал). — Ты же ведь сам сказал, что он избранник Неба.
— Именно поэтому и не ходи.
И возможно, всё это только сон. Возможно, все они спятили со своей вознёй вокруг «Комсомольской» и теперь заразили Фому. Пусть так. Но если на секунду предположить их правоту… Фома был убеждён, что упомянутый Парень Боб знает о нём. Знает, что он должен сделать. И не одобряет этого. Но чего-то происходящего с Шатуном не одобряет намного больше. Поэтому сейчас они на одной стороне.
«Ну, вот, я становлюсь таким же ненормальным», — с горечью подумал Фома.
— Ладно, — отчего-то громко сказал он, словно это могло вывести из тёмного липкого круга порочных мыслей, в который он угодил. — Как любит повторять Шатун, праздность — матерь всякой психологии. Пойду-ка лучше разомну ноги.
Он совершил несколько пеших кругов вокруг Станции. Свежесть, идущая от воды канала, прояснила голову, и все недавние мысли показались смешными и нелепыми. Но сигнала всё не поступало. Фома решил теперь позавтракать. Жареная свинина с хреном между двумя ломтями дмитровского хлебушка — лучшее средство от всяческого внутреннего раздрая.
Фома уснул в кресле, даже не доев до конца свой огромный бутерброд. Фляжка выпала из рук, и вода сейчас проливалась на землю. И голос Парня Боба оказался как укол, пронзивший его опутанный сном мозг.
«Проснись!»
Но он не хотел просыпаться. Замотал головой, будто от назойливой мухи отмахивался. Голос зазвучал требовательней:
«Проснись! И делай, что должно».
Фома дёрнул подбородком. Открыл глаза. Последнюю фразу Парень Боб произнёс с сожалением. Его голос прозвучал совершенно ясно, настойчиво, но и с горечью. И почему-то эта горечь сейчас ощущалась на губах. Фома посмотрел на свой недоеденный завтрак, опрокинутую фляжку. Поднялся. Голова раскалывалась, в висках гудело. Забрал фляжку и остатки бутерброда.
Делай, что должно. Хорошо. И при этом не должно оставлять своих вещей разбросанными по земле. Фома уже знал, как ему поступить. Деловито, не глядя на Станцию, сложил кресло и, насвистывая себе под нос, направился прочь. В сторону ограждения по периметру, который по ночам освещали. Можно верить во что угодно. Но и своим глазам и чувствам тоже стоит доверять. И тогда сделается совершенно очевидным, что по ночам они освещали кусок мрака, отделённый невидимой чертой от мира, в котором они жили. Именно её, эту черту, и пересёк Шатун, когда Фома видел его в последний раз. Пересёк и исчез.
Сейчас спокойно, не торопясь, Фома шёл в обратном направлении. Вроде как оставил «Комсомольскую» в покое. Затем всё же остановился, обернулся. И тут же почувствовал, как в воздухе повисло напряжение. В тёмных окнах мелькнуло что-то неясное, но Фома подумал, что так могло дёрнуться веко, словно Станция внимательно, с угрозой следила за ним. Фома посмотрел на заложенный у двери заряд. Напряжение начало сгущаться. Он собрался было двинуть дальше, но передумал. Сам того не ожидая, всхлипнул и жёстко презрительно процедил:
— Я не знаю, что ты такое. Но я не дам тебе забрать босса. Я взорву твою дверь к чёртовой матери. Не сомневайся, как только придёт срок. А будь моя воля, я бы с удовольствием взорвал тебя. Камня на камне б не оставил!
Вот теперь он повернул, сделав несколько шагов, и вдруг разулыбался: «Ну что, добро пожаловать в клуб сумасшедших и перепуганных поклонников станции „Комсомольская“?!»
А плевать… Возможно, всё это сейчас просто почудилось. Возможно, его всего лишь разморило на солнышке да убаюкал редкий свежий ветерок. Но как только Фома пересёк линию освещаемого периметра, чувство крадущейся по пятам угрозы развеялось. И тут же все остатки сна как рукой сняло.
24
Но она не позволила оцепенению завладеть собой.
— Набор последовательных действий, — проговорила она вяло. С подобной монотонностью и всё ещё застывшими глазами, наверное, говорят медиумы, возвращающиеся из спиритического сна. Она знавала некоторых из них и презирала, считая чем-то вроде слуховых трубок. Однако в её глазах мелькнула осмысленность…
Набор последовательных действий в состоянии вывести из любого психологического коллапса. Для некоторых ситуаций существует что-то типа готовых рецептов, некоторые, напротив, требуют кардинального переключения, и тогда ты можешь справиться (например, трагические вести, Раз-Два-Сникерс хорошо знала, что это), но в любом случае…
— Действуй! — велела она себе жёстко.
И с удивлением обнаружила, что её тело, руки знали, что делать, лучше её самой. Патрон с серебряной пулей уже покоился в зарядном механизме, согнутый указательный палец только что передёрнул затвор. Клацающий звук окончательно привёл её в норму. Она быстро взглянула и убедилась, что прошло, к счастью, не больше секунды. Туман совсем не приблизился, Хардов по-прежнему стоял внизу под этой издевательской вывеской, только теперь закрыв собою девчонку, прижав её спиной к стене и взяв оружие наизготовку. Хардов всегда умел действовать молниеносно. Вой по-прежнему звучал на той же ноте, и когда она о нём подумала, тут же почувствовала, как ледяные иголочки пробежали по коже. Наверное, к этому вою невозможно привыкнуть. Но ему можно противостоять. Раз-Два-Сникерс вдруг, вероятно, и не ко времени улыбнулась, вспомнив Тихона. Тогда Лия оказалась права: Тихон стал её учителем. И так он говорил им, ещё почти детям, о многом, к чему невозможно привыкнуть, не разрушив себя, но с чем им предстоит справляться. «Но вот что главное: никогда не позволяйте себе становиться жертвой. Не уступайте, боритесь до конца. И как станет совсем невмоготу, превратитесь из жертвы в охотника». Раз-Два-Сникерс выдохнула. Быстро посмотрела на смутные силуэты, двигающиеся в тумане. Их было много, слишком много.
«Возможно, вы всё равно погибнете. Но сделаете это с улыбкой на губах. И возможно, сама эта готовность способна принести спасение». Она уже тратила вторую секунду драгоценнейшего времени в ситуации, требующей немедленного реагирования. Но ей хватило этой секунды, чтобы стать охотником. И теперь она видела намного больше, чем открылось бы напуганному человеку.
Оборотни не спешили показать себя, видимо, памятуя, на что способно серебро человека, за которым они пришли.
Судя по движению в тумане, одна их часть направилась в обход площади по задним дворам, чтобы пробраться к Хардову с тыла, от склона. Другая, напротив, двинулась в противоположную сторону, через кладбище вокруг церкви. Раз-Два-Сникерс видела лишь смутные, быстро скользящие силуэты. Происходящее напоминало охоту волчьей стаи, они берут добычу в капкан. С одним лишь «но» — эта стая никогда так себя не вела.
— Что они делают? — пробормотала Раз-Два-Сникерс. — Почему бьются на группы?
Туман теперь подобрался вплотную к площади. Совсем небольшой пятачок оставался пока чистым. Но Хардов ещё успевал пересечь площадь и укрыться в церкви. Значит, им придётся нападать сейчас. Волей-неволей придётся показаться, выйти из укрытия тумана. Так и случилось. Первой обнаружила себя та, что теперь вела их за собой. Миг — и она решилась, её стало видно у северной оконечности кладбища.
«О, старая знакомая», — мысленно усмехнулась Раз-Два-Сникерс. Она не ошиблась насчёт новой Королевы. Рослая светловолосая женщина, чуть покачиваясь, словно была слегка пьяна, стояла у дальних надгробий, скрытая церковью от глаз Хардова. Доминирующая самка, не просто вкушающая первые минуты своей абсолютной власти, но одаривающая подданных самим бытием, она оглянулась в туман, вскинула подбородок и снова призывно завыла. Затем медленно повернула голову и посмотрела на колокольню. Подняла руку, скрюченным пальцем указала прямо на звонницу.
— Ты знаешь про меня, да, солнышко? — произнесла Раз-Два-Сникерс. — Я тоже рада тебя видеть. Но как вам удалось так быстро очухаться? Слишком быстро, для Хардова это станет неожиданностью.
«Уже стало», — поправила она себя. Подумала, что ещё когда только читала следы Хардова и девчонки, решила, что фактор оборотней больше не принимался им в расчёт. По всему, что было об оборотнях известно, он явно успевал добраться до шлюза № 6 намного раньше, чем они снова станут опасны. Полагая основной угрозой возвращающийся в город туман. Он ошибся. Они оба ошиблись.
Раз-Два-Сникерс нахмурилась.
«Почему они так себя ведут?»
Королева покачнулась, опустилась на руки. Волосы коснулись земли. У неё были широкие плечи, едва прикрытые какими-то лохмотьями, и сейчас на обнажённой спине заиграли рельефные мускулы. Она ещё не вполне освоилась со своей новой ролью, и этот тошнотворный облик человека-зверя был ей привычней. Безусловно, она руководила нападением стаи, но было во всём этом что-то… неправильное. Раз-Два-Сникерс взяла её в прицел. С этого расстояния она, пожалуй, могла пристрелить её. А могла и промахнуться. Раз-Два-Сникерс отвела ствол. Серебряные пули — слишком большая ценность, чтобы их разбазаривать. Она поставила ствол на предохранитель.
Хардов с оружием наизготовку, реагируя на малейшее движение в тумане, начал отводить девчонку к церкви. Короткая перебежка, и первой их остановкой стала груда какого-то металлического хлама, но дальше вплоть до церковных ворот было открытое пространство. Королева тут же, словно принюхиваясь, вскинула голову. Лицо на мгновение показалось вытянутой мордой.
В несколько мощных прыжков, отталкиваясь всеми четырьмя конечностями, она устремилась к площади. Всё же она предпочитала держаться кромки тумана и остановилась только под прикрытием кладбищенской ограды. Хардов видел её манёвр, но ему придётся пересекать площадь по диагонали. Она притаилась. Как только Хардов доберётся до середины площади, расстояние между ними станет минимальным. Она всё ещё была человеком; видимо, метаморфоза произойдёт в последний момент, перед прыжком.
С высоты Раз-Два-Сникерс видела все точки напряжения и мрачнела всё больше. Неожиданно произнесла вслух:
— Что же они делают? — словно слова, подогнанные друг к другу, могут отыскать ответ. — Почему так себя ведут?
Что за обходные манёвры? Ведь для них это бессмысленно. Обычно стая прячет Королеву и уничтожает жертву тем же способом, каким удав действует на кролика. Зачем им разбиваться на группы? Достаточно обезвредить доминирующую самку, и они снова превратятся в сонных мух.
Раз-Два-Сникерс, сняв с предохранителя, привела оружие в боевое положение. Для Хардова притаившаяся Королева находилась в очень неудобной позиции. Зато сверху представлялась отличной мишенью.
«Береги патроны, Хардов, — холодно подумала Раз-Два-Сникерс. — И тащите сюда свои задницы».
Королева уже была в перекрестье прицела. Палец плавно коснулся стали спускового крючка. Королева медлила, переминаясь на руках или лапах, сквозь человеческую кожу проступала светлая шерсть.
«Чего ты ждёшь? — подумала Раз-Два-Сникерс. — Солнышко, ты же знаешь про меня, так чего ждёшь?» Но она также почему-то медлила. Затем сделала глубокий вдох: «Ладно, она моя!».
Остановила дыхание. Указательный палец начал медленно давить на спусковой крючок, отжал его почти уже до половины. Сейчас прозвучит выстрел. И в крайний миг тёмной гнетущей волной накатило острое чувство неправильности происходящего. «Почему они так себя ведут?»
Взгляд скользнул в сторону на то, что уже открылось её периферийному зрению. Там за спиной Хардова оборотни сомкнули кольцо; наверное, Хардов об этом знал, но сейчас всё его внимание приковала Королева, готовая к броску. Да и взгляд Раз-Два-Сникерс задержался там всего на долю секунды. Но она увидела. И у неё всё похолодело внутри. Она поняла, почему. Поняла, что они делают.
И в последний момент успела убрать палец со спускового крючка.
* * *
— Ева, — не оборачиваясь, позвал Хардов. — Сейчас мы начнём медленно отходить. — Он говорил внятно, чеканя каждое слово. — И как только я выстрелю, сразу беги в церковь.
Рослая светловолосая женщина притаилась за кладбищенской оградой. Хардов понял, когда она нападёт. Ровно на середине площади, там они окажутся ближе всего друг к другу. Хардов сделал первый шаг, ещё один, она не шелохнулась.
«Ну что, ты оказалась наследницей?» Хардов незаметно изменил линию движения. Это удлинит его путь до церкви, но ей придётся огибать выступ ограды. Видимо, она оказалась гораздо сильнее своей предшественницы. То, с какой скоростью рослая светловолосая собрала новый контур, ошеломляло, выходило за рамки всех представлений об оборотнях. Стоило признать, что здесь Хардов ошибся. Но он оставил это в прошлом. Возможно, сюрпризы ещё не окончены.
«Один раз ты уже пыталась обмануть меня», — вдруг подумал Хардов. Обычно этих тварей полагали хитрыми и мстительными. Насчёт хитрости не поспоришь. Со вторым дела обстояли сложнее. Бесспорно, они пришли сюда за ним. Но подгоняемые не одной только местью. Он убил их Королеву. И теперь в нём была её сила. Они должны вернуть силу себе. Так они считали. По их представлениям или закону Хардова могла убить только новая Королева-оборотень. А до того момента он чуть ли не часть контура. Враг, однако вызывающий нечто среднее между ненавистью и благоговением.
Хардов сделал ещё шаг, и ещё один. Быстро посмотрел на двери церкви — возможно, если сделать рывок… Но наконец она тоже двинулась. Сквозь прутья ограды, увитые плющом, мелькнули светлые волосы, голову держала у самой земли. Что означало лишь одно: метаморфоза началась…
* * *
До конца своих дней, сколько бы ей теперь ни осталось, Раз-Два-Сникерс будет помнить то, что она увидела. То, что она поняла про оборотней. На что они способны ради своего контура и на что способны редкие из людей. Это случилось за миг до прыжка, до атаки на Хардова. Раз-Два-Сникерс только убрала палец со спускового крючка. И словно почувствовав это, вдруг, всё также оставаясь на четвереньках, Королева посмотрела на звонницу, посмотрела прямо на неё, и Раз-Два-Сникерс показалось, что она ухмыльнулась.
«Мерзкая тварь!»
А потом, свирепо взревев, но так и не закончив трансформирующей метаморфозы, она бросилась на Хардова.
«Серебряные пули, вот в чём дело, — успела подумать Раз-Два-Сникерс. — Вот и стала каждая из них бесценной».
* * *
Хардов выстрелил, когда Королева-оборотень была уже в воздухе. Бросок, хоть и отталкиваясь по-звериному всеми четырьмя конечностями, всё же совершила рослая светловолосая женщина, лишь на мгновение в полёте показавшаяся громадным, светлой масти чудовищем. Мощный удар пули не опрокинул её, только ослабил импульс прыжка, слегка изменив траекторию. На землю она упала скулящая, перевернувшись кубарем, попыталась подняться на лапы, уже издыхающая, но рухнула, так и не причинив вреда. В глотке теперь рождались булькающие звуки, последние звериные черты покинули её, и вой тут же стих. Остались лишь разрозненные, тревожно и жалобно перекликающиеся в тумане голоса, словно они чувствовали боль, агонию своей Королевы.
«Что это было? — быстро подумал Хардов. — Слишком сильная. Слишком просто. И почему нападала человеком?» И вдруг неожиданно остро ощутил, что это ещё не всё. Что вопреки всем его представлениям происходит что-то совсем другое. Сюрпризы действительно ещё не закончились. Словно неприятное дуновение похолодило его затылок. Всплыла мысль, что Ева не бежит к церкви, она опять ослушалась. И там, у него за спиной… Движение, грозная приближающаяся волна. И Хардов отчётливо понял, что его провели, даже не осознав, в чём именно, понял, что сейчас, в этот самый миг он не поспевает за событиями. Потому что этот нарастающий рокот — далеко не предсмертные хрипы поверженной Королевы. Да и не Королева она вовсе. Потому что вой стих совсем ненадолго, ровно настолько, чтобы одурачить его…
Всё стало происходить одновременно. Ева закричала. Хардов обернулся, чтобы встретить лицом сгусток тьмы, погибель, подкравшуюся за спиной. Громадная тварь уже пробежала половину площади. Она была близко, недопустимо близко и сейчас, взревев, прыгнула. И она была…
Но Хардов прореагировал мгновенно. Он ещё вовсе не разучился останавливать время, своё собственное внутреннее время, и холодно рассчитал, что его шансы успеть ещё достаточно высоки. Он видел, как словно в тягучем, медленно струящемся времени вскидывает оружие, как в воздухе приближается напавшая тварь, как плавно колышутся омерзительно знакомые волосы. Он был готов стрелять, даже полностью не осознав, что за чудовищное несоответствие успел уловить. Тварь напала точно так же — человек, по-животному отталкивающийся всеми четырьмя конечностями. И на рослую светловолосую она была похожа как две капли воды. Такая же. Неотличима, как сестра-близнец. Даже в движениях скопирована та же непристойная грубая грация.
«Вот что ты приготовила, — мелькнула ненужная мысль. — Одарила их всех своим образом».
Но сознание тут же изгнало все мысли, став пустым. Хардов был готов к ведению огня. Но ещё прежде прозвучал выстрел.
25
Однако стреляли не справа, не с колокольни. Пуля, безусловно серебряная, сразившая вторую тварь наповал, прилетела с другой стороны, от канала. Хардов ошеломлённо обернулся на выстрел, посмотрел на стрелка. Тот выступил из проулка, всё ещё держа на мушке издыхающего оборотня, потом поднял ствол кверху. И улыбнулся. Лицо Хардова застыло. Вой стих, и теперь молчание сделалось более глубоким. Щека Хардова чуть дёрнулась. Вот и стало ясным, что за движение он видел в расступившемся тумане после третьей вспышки. Но он всё ещё не верил собственным глазам. Ева замерла и, казалось, не дышала.
— Не ожидал, что они настолько поумнеют, — произнёс Фёдор, указывая на подстреленную им тварь. — Скорее всего, это тоже не Королева.
Хардов покачал головой. Усмехнулся:
— Что ты здесь делаешь?
— Кажется, спасаю твою зад… — Фёдор запнулся на полуслове, растерянно посмотрел на Еву и снова превратился в смущающегося мальчишку, того, уверенного, что сбегает из дому, незатейливого паренька из Дубны.
— Привет, Ева, — краснея, сказал он.
— Привет.
Она отозвалась, как в полусне.
Что-то на мгновение повисло между ними, робкое, почти незащищённое. И Фёдору стоило труда, чтобы отвернуться. Но он сделал это. Мальчишка исчез.
— В тумане без защиты. — Фёдор посмотрел на Хардова; знакомый весело-осуждающий вздох. — Нет, друг мой, ты неисправим.
Хардов молчал. Потом разлепил внезапно высохшие губы:
— Ты не можешь быть здесь.
— Я тоже рад тебя видеть, — с насмешкой бросил Фёдор. Чуть склонил голову. — Но послушай своё сердце и не трать слова попусту.
Он стоял, широко расставив ноги, подняв голову и расправив плечи, так же, как и Хардов. Вовсе не паренёк из Дубны. Бесспорно, в его осанке была та гордость, с которой гиды уходили, презрев неведомую тьму, из которой очень редко возвращались. И казалось, что всё вокруг притаилось, словно ожидая, чтобы кто-нибудь из них ошибся. Всё же Хардов не выдержал и снова усмехнулся:
— Этот свет, сразу два скремлина… Они расчищали путь для тебя?
— Ага, — беззаботно откликнулся Фёдор и быстро направился к ним. — Рыжая и Подарок отдали мне все свои серебряные пули. Мы слышали вой.
«Ну да, — автоматически подумал Хардов. — Ты не взял у них скремлина, потому что не сможешь им воспользоваться. И знаешь про зарок. Поэтому выбрал пули».
И на мгновение невыносимо грустной тенью на сердце лёг образ Мунира, старого верного друга, с которым Хардов, наверное, уже попрощался. «Не сможешь воспользоваться чужим, пока не найдёшь своего. Не сможешь услышать сердце чужого скремлина, пока тебя не выберет твой, единственный…»
И следом пришла другая мысль, перечеркивающая любые попытки здравого рассуждения в предыдущих: «Это невозможно. Ещё слишком рано».
Фёдор замедлил шаг лишь в паре метров от них.
— Идёмте, Хардов, надо спешить. — Он бросил взгляд на двух совершенно одинаковых подстреленных оборотней. Агония первого уже закончилась, и черты рослой светловолосой постепенно развеивались. — Там ещё много таких. Я видел, как они берут вас в кольцо. Хитрые твари. На меня-то им плевать, но тебя они теперь в покое не оставят.
Хардов не шевельнулся.
— Там, — тяжело протянул он и махнул куда-то в сторону юга, в сторону лежащей за знакомыми пределами Москвы. — Место, где заканчиваются иллюзии. Только там.
Это ты понимаешь?
— Возможно. — Фёдор неопределённо покивал.
— И только когда обретёшь любовь скремлина, — с нажимом добавил Хардов. — Не раньше.
— Наверное, — чуть рассеянно согласился Фёдор. — Много неожиданностей. Наверное, ты прав, но… Идём, Хардов. Надо срочно подниматься на колокольню. Пока не появились твои новые поклонники.
Он обвёл быстрым взглядом границы площади, первые клочки тумана уже выползали из окрестных дворов.
— Ты же теперь их Королева, — заметил Фёдор и, беспечно рассмеявшись, добавил: — Почти.
— Угу, — кивнул Хардов. — Очень смешно.
Они посмотрели друг другу прямо в глаза. Мимолётная рассеянность, если она и была, исчезла без следа. Хардов видел, как в его глазах играют золотые искорки. Весёлые, но и пронзительные. Он всегда прятал за усмешкой огромную страсть. И Хардов понял, как на самом деле и он сам боялся их встречи.
«Тео», — чуть не произнёс Хардов. Однако сдержал себя. Потому что на миг это могло сделать их обоих уязвимыми. Но Фёдор сам чуть подался к нему и совсем тихо проговорил:
— Ну что, малец, пришло нам время сражаться голыми?
— Так кто из нас неисправим? — отозвался Хардов, глядя на стоящего перед ним молодого человека с той нежностью, с какой смотрят на людей, передавших вам весь свой жизненный опыт.
Они улыбнулись друг другу. И в следующий миг крепко обнялись. И, наверное, Хардов не говорил этого вслух, лишь что-то тёмное, омрачающее хрупкую, пронзительную, столь долго ожидаемую радость, шевельнулось на сердце. «Зачем ты здесь? — Хардов чувствовал в объятии его возвращающуюся силу, и от этого тёмный сгусток на сердце только рос. — Мы с тобой оба беззащитны в тумане. Ты ещё, а я уже. И шансы есть только у Евы. Так зачем всё ставить под удар?»
Но Фёдор, словно каким-то неведомым способом услышав его, прошептал:
— Не сердись. Я не знаю почему, знаю только, что должен быть здесь.
И то, что таилось вокруг, немедленно злорадно откликнулось. Что-то тяжёлое и ненавидящее с хищным негодованием ухнуло в тумане. И тут же завыли, пока тихо, разрозненно.
Наверное, Фёдор даже не понял, как, словно ребёнка, сгрёб в охапку Еву и, к счастью, не успел смутиться от этого прикосновения. В правой руке у него мгновенно оказалась скинутая с плечевого ремня автоматическая винтовка, в которой он уже умудрился передёрнуть затвор. Всё это Фёдор проделал с немыслимой скоростью, и Хардов поймал себя на том, что давно такого не видел. «Ты пришёл за ней», — вдруг мутным холодком пронеслось у него в голове.
— В церковь! Быстро, — скомандовал Хардов. — Я прикрываю.
Они двое побежали вперёд, к церковной ограде. Хардов двинулся за ними. И эта мысль вернулась: «Анна оказалась права. Ты пришёл за ней. И сам этого не знаешь».
26
Фёдор попытался запереть шаткие ворота церкви. Но Хардов, бросив ему «бесполезно», двинулся к подъёму в звонницу. Удивительно, но одна из икон за Царскими вратами хорошо сохранилась, видимо, при эвакуации Икши успели вывезти не всё. Это было «Сошествие в Ад». Хардов заставил себя уклониться от раздумий над мрачными аллюзиями. На винтовой лестнице, пройдя половину пути, он вдруг почувствовал, что чего-то не хватает. Хардов знал об этом тайном убежище и даже участвовал в его обустройстве, но потом ни разу им не воспользовался. Ева поднималась вслед за ним, Фёдор теперь замыкал группу.
«Запах сырости, — понял Хадов. — Здесь его нет». Сырости и чего-то ещё. Еле уловимого, тошнотворно-сладковатого запашка, словно весь город превратился в логово какого-то поражённого болезнью, бешенством зверя.
До звонницы оставался ещё один пролёт, но Хардов не стал ждать.
— Выходи, — велел он. — Я знаю, что ты здесь.
Наверху мелькнула быстрая тень, Хардов оставался спокоен, лишь добавил:
— Заметил, как увязалась за нами с линии застав.
Они поднялись в звонницу. Раз-Два-Сникерс, несколько потупив взгляд, отступила на шаг назад. Оружие держала стволом к полу.
— Я не особо-то пряталась, Хардов, — с еле уловимой смесью вызова и горечи произнесла она.
— Допустим, — признал Хардов.
Она быстро с интересом посмотрела на Еву, однако от Фёдора тут же отвела глаза. Покосилась на кованую дверь, люк, которым запирался проход в звонницу. Хардов усмехнулся:
— Ключ у меня. А этот замок тебе не по зубам. Так что не жди благодарности.
У неё вспыхнули щёки:
— Я и не собиралась…
— Может да, а может нет. — Хардов неопределённо пожал плечами. — Ну, что тебе надо?
Она снова как-то странно опустила взгляд. В свободной руке тёмно блеснул какой-то металлический предмет. Хардов с удивлением обнаружил, что она показывает ему ракетницу.
— Я заминировала дверь, — произнесла тихо. — Там… В общем, «Комсомольскую». Шатун, — вздохнула, — он там. Внутри. Только… ещё и там. — Она как-то болезненно дёрнула подбородком, указывая за пределы звонницы. — Только, мне кажется, там теперь гораздо больше. Уж не знаю… как, но это из-за него.
— Мне это известно, — подтвердил Хардов. В его глазах плавали льдинки. Добавил: — Забавное место эта «Комсомольская».
Раз-Два-Сникерс подняла на него осторожный взгляд. Покачала рукой с ракетницей.
— Это сигнал, — пояснила она. — Мои люди готовы. И… в общем, я смогу остановить его в любой момент.
Хардов пристально посмотрел на неё:
— Решила поджарить своему дружку мозги?
На сей раз она ответила ему прямым взглядом.
— Нет, — сказала просто, — если это будет возможно.
Хардов всё так же смотрел на неё, стараясь определить степень её искренности:
— Как тебе удалось настроить против него команду?
Она покачала головой:
— Никто не настроен. Они его спасают. Вытаскивают из Станции. Я ухожу.
Хардов обдумал услышанное:
— Ловкая интрига.
Она устало усмехнулась:
— Знаю, что ты меня презираешь. Только, Хардов, согласись, что для игр уже, — развела руками по сторонам, — несколько поздновато.
— Не в этом дело, — вздохнул Хардов. — Боюсь, Шатуном наши проблемы теперь не исчерпываются. Мы кораблик, отыскивающий тайфуны.
Словно в подтверждение завыли гораздо ближе, возможно, уже на площади. Хардов не шелохнулся.
— Обе блондинистые прыгуньи были у меня на прицеле, — призналась она.
— Отчего же не стреляла?
— И без меня справились. — Снова повела подбородком в сторону Фёдора, однако почему-то избегая смотреть на него. — А ты понял, что они задумали?
Хардов медленно кивнул:
— Наверное.
— Мне сверху было хорошо видно. — Она щёлкнула языком. — Решили вытащить из нас все серебряные пули. Знают, что их наперечёт. Понимаешь? Так и будут прятать Королеву, подставляясь, нападая в её одежке, пока мы не отстреляем всё. А потом просто придут и возьмут нас.
— Им этот замок тоже не по зубам, — сказал Хардов.
Она передёрнула плечами:
— Ты убил их Королеву. Кто знает, на что они способны ради мести?
— Ладно, идём, поможешь мне закрыть люк.
Хардов извлёк потускневший ключ, отпер им массивную дужку замка, склонился над дверью и холодно посмотрел на Раз-Два-Сникерс.
— Прежде чем я решу оставить тебя здесь, — начал он, и на мгновение в её глазах мелькнул ужас. — Хочу, чтобы ты знала: малейший фокус — и я пристрелю тебя.
Она молчала. Покусала побледневшие губы. Посмотрела исподлобья, горько, затравленно.
— Не надо меня отчитывать, Хардов, — попросила тихо. — Можешь меня презирать. Так уж вышло. Унижай.
Но знаешь, каждый может ошибиться. Ты тоже когда-то называл Шатуна братом.
— Ты права, — согласился Хардов. — Ошибиться может каждый. Вопрос, что ты после этого выберешь. Унижать тебя не собираюсь. Просто чтобы между нами осталось понимание: как только я запру эту дверь, любой фокус — последний.
Угрюмо кивнула.
— Не будет фокусов, Хардов, — сказала она.
И тут Фёдор решил вмешаться.
— Я видел тебя, — вспомнил он. Глядел дружелюбно. — У Ступеней. Я знаю тебя? — И сразу же поправился: — Точнее, знал?
Она моментально отвернулась от Хардова. Словно давно ждала этого. Нерешительно улыбнулась. Кивнула.
— Да, вы знали меня.
Как-то странно поклонилась. У Хардова родилась дикая мысль, что она наметила в своём движении что-то типа книксена.
— Я училась в школе гидов. Во время вашего второго визита.
— О, тогда ты должна была сильно измениться, — разулыбался Фёдор. Затем его карие глаза чуть сузились. — Я знал тебя ребёнком?
— Да. Вы… нашли меня в лесу. С Тихоном.
Он смотрел на неё. Немного склонив голову. И во взгляде мелькнул отсвет догадки.
— Ты та маленькая девочка? — изумлённо произнёс Фёдор.
Уголки её губ горько опустились, такая вот вышла у неё улыбка:
— Моей наставницей была…
Она прервалась. Попытка скрыть, как дрогнул голос. Хардов отвернулся. Всё же она решила договорить:
— Лия была моей наставницей.
Веки Фёдора на мгновение сомкнулись. Когда глаза вновь открылись, в них была не только радость узнавания. В самых краешках застыла боль. И ещё сострадание.
— Да, это ты. Конечно… Улыбка. И глазки той девочки ещё на месте, — участливо подтвердил Фёдор. — Что с тобой произошло?
Раз-Два-Сникерс молчала. Что-то подкатило к самому горлу. Она бы удивилась, узнав, как близко впервые за много лет к глазам подступили слёзы. Хардов предпочёл разглядывать белёные, словно высохшие под палящим солнцем, стены звонницы.
Фёдор ответил вместо неё.
— Снова заблудилась в лесу, — сказал он тихо. — Шатун, как же, помню, симпатичный был юноша… Такое бывает. — Он мягко улыбнулся ей. — Это ничего.
Она порывалась было что-то сказать, но Фёдор уже отвернулся. Посмотрел на Хардова. И спросил:
— Ты когда-нибудь простишь меня?
У Хардова дёрнулась щека. Он коротко вздохнул. Произнёс:
— За то, что оставил меня жить?
— Зато, что оставил тебя одного.
Теперь вздох Хардова вышел долгим. Он медлил, словно поглощённый воспоминаниями, наконец отрицательно помотал головой.
— Она была гидом. Она это выбрала, — сказал он. — И твоей вины в том нет.
— Лия, — прошептал Фёдор. — Я ведь любил её… — Нахмурился, и опять в его взгляд на миг вернулась эта рассеянность.
«Всё очень хрупко, — подумал Хардов. — Ты можешь не выдержать. Промедление здесь губительно для тебя».
— Она приходила ко мне недавно. На болотах. — Фёдор почти шептал. Потом его голос окреп. — Хардов, я так виноват перед вами обоими.
Хардов вдруг с трудом подавил внезапный приступ гнева.
— Тогда возьми себя в руки, — одёрнул он Фёдора. — Она не для того умерла, чтобы ты развалился перед самой целью. Этот резонанс в твоей голове может убить тебя!
Он всё сказал правильно. Но во рту остался этот омерзительный кисловатый привкус. «Мы находимся в очень плохом месте. — Хардову не составило труда определить источник своего гнева. — И это оно теребит нас. Нащупывает, пытается пролезть в наши раны».
И опять Фёдор умудрился удивить его.
— Тогда прости её, — попросил он мягко, указав на Раз-Два-Сникерс. Потом кивнул Хардову. — Не беспокойся.
Я уже в порядке, друг мой. — Несколько отклонился, чтобы обозреть из звонницы всю площадь, и спокойно заметил: — По-моему, наши новые друзья появились.
Хардов тут же бросил взгляд на Раз-Два-Сникерс:
— Давай помоги мне!
Она, не мешкая, подошла к люку, оружие приставила к простенку. Они вдвоём перекинули тяжёлую крышку, и дверь с сухим металлическим лязгом захлопнулась.
«Вот тут мы и окажемся в западне», — подумала Ева. Словно в момент этого сухого, зловещего в своей окончательности хлопка пережила острое чувство дежавю. Словно из мутной тьмы совсем уже близкого грядущего пришло знание о том, что их ждёт. «Стоит ли сказать Хардову? — Ева оценивающе посмотрела на гида. — Или он и сам знает?» Девушка невольно передёрнула плечами, но удержала себя, чтобы не произнесли вслух: «Туман уже близко. И этот человек, который в нём, — он идёт сюда».
27
Фёдор следил за быстрыми и пока будто боязливыми перемещениями в тумане. Они явно всё не решались показать себя — всё же серебряные пули оставались их главным страхом, их главным запретом. Оба подстреленных оборотня уже умерли. Но сила Королевы была с ними: порой казалось, что на площади лежали две мёртвые светловолосые женщины, обретшие в смерти странную красоту, и глаза обеих были открыты, устремлены куда-то ввысь, как немой укор тем, кто укрылся в звоннице.
— Как ты думаешь, когда они нападут? — не отрывая взгляда от площади, спросил Фёдор.
Хардов чуть пожал плечами:
— По идее, они вообще не должны здесь находиться. Их логова в северной части города. А эта церковь для них тем более что-то типа табу. Но ты сам всё видел.
— Да-а, — согласно протянул Фёдор. — Много здесь всего изменилось, пока я… Скажи, белый кролик должен был выдать меня?
Хардов вскинул на него взгляд, Фёдор усмехнулся:
— В трактире в Дубне? Ловко ты, но…
— Да, он был скремлином. Так почти и случилось. Я думал, мне придётся вмешаться. Но подоспевший Мунир нейтрализовал воздействие кролика, и мое вмешательство не потребовалось. А тебе намяли бока. Мне было больно и смешно смотреть, как ты летал по всему трактиру. Прости.
Фёдор хмыкнул, впрочем, совсем без укора.
— Вам с Кальяном здорово досталось. Но всё закончилось. Остальное тебе известно.
Фёдор задумался и снова посмотрел на Еву, но тут же отвёл глаза. Улыбнулся.
— К Сестре ты зашёл специально? — решил уточнить он.
Хардов отрицательно покачал головой:
— Честно говоря, я знал, что это может быть полезным. Но собирался пройти до линии застав под покровом темноты, пока они опомнятся. На канале как раз стояли плохие дни. Я положил на всё пару суток. План был дерзким, но выполнимым. И если бы Мунир так не пострадал… Только в итоге вышло даже лучше — за месяц они перевернули вверх дном весь канал. А мы появились там, где никто не ждал. Практически у них под носом. И Анна, конечно. Её помощь неоценима. А на линиях застав они уже не посмели. Всё же к открытому столкновению пока не готовы.
— Да, действительно, много всего поменялось, — задумался Фёдор. — А Шатун? Как же это случилось?
Хардов опустил голову. Нахмурился:
— Боюсь, здесь всё намного хуже. Сначала я думал, что это вызов мне. Или даже тебе. Но Шатун, он… Я теперь понимаю: он решился бросить вызов самому порядку вещей. Пройти сквозь туман.
Фёдор коротко усмехнулся, но в глазах его впервые появился масляный блеск.
— Возможно, он рехнулся, — предположил Хардов. — Возможно, считает себя кем-то вроде Бога. Это самоубийственно, но… он очень опасен. И думаю, уже не может повернуть обратно. Знаешь, что-то происходит, какой-то сдвиг, и мне это очень не нравится.
Фёдор молча переложил оружие из одной руки в другую:
— Считаешь, это опять началось?
Хардов посмотрел на Фёдора. Подумал: «Твоё возвращение необходимо. Поэтому столь многим готовы жертвовать».
— Не знаю, — ответил он уклончиво. — Может, всё и обойдётся.
Внизу снова послышался вой. Они оба повернули головы, но площадь пока оставалась чистой.
— Эту дверь им не выбить, — заверил Хардов. Кивком головы указал на люк, закрывающий подъём в звонницу. — Семидесятимиллиметровые промасленные доски, уложенные в два слоя.
— Возможно, — пробормотал Фёдор. Только как-то с сомнением. Отвернулся от площади, посмотрел на люк, перевёл взгляд на Хардова.
— Знаешь, честно говоря, думал, они давно перевелись, оборотни, — признался Фёдор. — Когда-то я потратил немало времени, изучая их. Меня восхищали их манипулятивные способности, сулили ключ к познанию психики. — Вздохнул. — Пустое дело…
— Что тебя беспокоит? — Хардов проницательно взглянул на него.
— Ты сказал, они обитают в северной части города? Вспомни, где находятся их логова?
— Они селятся в брошенных домах. Правда, всё равно предпочитают рыть под ними норы.
— Вот именно, — подтвердил Фёдор. — И они тоже меняются. По крайней мере, сегодня мы увидели очень необычный способ охоты.
— Что ты?.. Ты хочешь сказать… — Хардов настороженно замолчал, хотя в его глазах уже мелькнул ответ пугающей догадки.
— Они землерои, Хардов, — сказал Фёдор и снова оценивающе посмотрел на деревянный люк. — И достаточно неплохие. В отличие от псовых, их когти устроены подходящим образом.
28
Ева тоже думала о Звере. Но не об оборотнях, о другом. Том, что преследовал её всю её жизнь. Ещё на линии застав она почувствовала его приближение. И сейчас он пришёл. Ева знала это. Глядя на стягивающийся к крохотному пятачку церковной площади туман, она вдруг поняла, что зверь был здесь. Повсюду. Весь этот поражённый туманом город стал им.
Но он больше не принюхивался, движимый ненавистью. Зверь был напуган, и это только усиливало его ненависть. Ева всегда понимала, что наступит момент, когда она должна будет посмотреть Зверю в глаза. И вот момент пришёл, и она оказалась уязвимой.
Хардов считает, что туман пропустит её. Но он не прав. Так было, только теперь всё изменилось. Так было, пока в её жизни… не появился Фёдор. Она не знала, к чему это, лишь чувствовала обречённость и снова думала о нём. И это Зверь ненавидел больше всего. Он искал Фёдора, и это он подгонял оборотней. Но не только. Они оба… Ева не знала почему, но именно это пугало Зверя. Когда она думала о Фёдоре. И вот сейчас она ощущает его близость, и нежно и больно в груди. И Зверь бьётся в неистовстве — больше он не станет тянуть. Он пришёл не только за ней. Ева не знала почему, но они были нужны ему оба.
29
— По моему, началось, — позвал Хардов.
Туман уже выполз на площадь и продолжал прибывать, всё более густея. Здание с надписью «Продукты» было теперь еле различимо. Однако туман как бы весь подобрался, уплотняясь вдоль кромки, как будто каждый сантиметр продвижения к церкви давался ему всё труднее.
Сейчас в проёме мелькнула первая тварь. Быстро показалась и снова исчезла. Потом появилась другая. Боязливо озираясь, как молоденькая актриса на жуткой премьере, она прошла на четвереньках несколько шагов и уселась посреди площади. Подняла голову, глядя на звонницу, и завыла. Они были такие же, как предыдущие, похожие, как клоны, бесчисленные близнецы. Хардов с сожалением согласился, что Раз-Два-Сникерс оказалась права. Эту, что сидела, видимо, решено было принести в жертву первой.
— Не стрелять, — сказал Хардов.
Появилась ещё одна «блондинка». В несколько лихорадочных, меняющих направление прыжков, словно ошалевшая от испуга, пересекла площадь и снова нырнула в туман у самого кладбища.
— Страшно?! — Хардов сплюнул. — Даже этому муравейнику хочется жить.
Раз-Два-Сникерс как-то болезненно поморщилась. Хардов стоял у соседнего проёма звонницы и наблюдал за площадью, как через бойницу. Раз-Два-Сникерс отклонилась от прицела.
— Это не муравейник, — с тоскливой хрипотцой заметила она. — Вовсе нет. Гораздо опасней. Эта их готовность к жертвам…
«Совсем не муравейник, — добавила мысленно. — Много хуже для нас. Это какое-то утраченное нами братство, всеобщность существования. Мы их ненавидим, и это правильно. Но и восхищения они достойны».
И вдруг поняла, что Фёдор смотрит на неё. Он подошёл бесшумно, став между ней и Хардовым, понимающе ей улыбнулся. Сказал:
— Не позволяй тому, по чему тоскуешь, затуманивать свои чувства.
Она смутилась. Она что, говорит вслух? Потом посмотрела прямо на него. Но в его взгляде не было вызова и вообще какого-либо напора.
— Видишь ли, я тоже когда-то пытался их понять, — позволил себе вспомнить Фёдор. — И ты знаешь, мне кажется, Хардов всё же прав. Они готовы жертвовать во имя целого, но это не взаимовыручка. — Он выглянул на площадь и добавил: — И боюсь, совсем скоро мы в этом убедимся.
Неожиданно он как-то странно дёрнул головой, непонимающе захлопал ресницами и рассеянно повернулся к Хардову.
— Иногда как во сне, друг мой, — тихо поделился Фёдор. — Только я не знаю, кто кому снится. Этот мальчик или… я. И… ускользает всё. Нет этого центра, на который можно опереться. Понимаешь меня?
— Ещё как, — откликнулся Хардов. И мрачно подумал: «Надо срочно вытаскивать тебя отсюда».
Но каким образом? Даже если Раз-Два-Сникерс удастся остановить Шатуна, город вновь наполнит неконтролируемый туман, прежде чем они успеют добежать до шестого шлюза. Но даже если попытаться успеть — на пути оборотни.
И словно в подтверждение слабый стон сорвался с губ Раз-Два-Сникерс:
— О боже… Хардов!
Скрытое туманом присутствие угадывалось и прежде. Но сейчас что-то многочисленное приблизилось к кромке, а потом её будто прорвала тёмная масса. И ледяной ужас прошелестел над звонницей. Они решились, оборотни, выступили из тумана. Целые шеренги. Туман буквально кишел ими. И тут же раздался призывный вой. Совсем близко. Прямо под ними.
— Они в церкви, — хрипло произнёс Хардов.
30
Вой оборвался. Только эта мгновенная пауза густой тишины была ещё страшнее. Четыре пары человеческих глаз обратились к деревянной крышке люка. Впрочем, пытка ожиданием действительно оказалась недолгой. Низкий гул родился внизу, и сразу стало ясно, чем он был. Топот многочисленных ног раздался на лестнице. Они приближались, поднимались, спешили вверх. И в этом нарастающем гвалте улавливались особенно мерзкие звуки — торопливое, соскальзывающее царапанье по деревянным ступенькам лестницы множеством когтей.
Мощнейший удар о крышку люка последовал с ходу. Но деревянная дверь выдержала. Лишь послышался кошмарный хруст, с каким обычно ломаются кости. Люди мрачно переглянулись. Ещё один удар, жалобный скулёж и топот напирающих снизу. Ворчливая грызня между собой тех, кого придавило накатывающей по лестнице волной; хриплые, почти человеческие стоны. Новый сильный удар, хруст, затихающее поскуливание.
И послышались иные звуки. По всей нижней поверхности двери. Шершавое поскрёбывание. Как множественная дробь. И всё более быстрый, царапающий скрежет. Злобное истерическое рычание, скулёж из-за издираемых в кровь лап, и скрежет, скрежет…
— Они обезумели, — сипло произнесла Раз-Два-Сникерс. — Но что они делают?
Хардов мрачно посмотрел на люк. И хоть они никогда прежде так себя не вели, похоже, Фёдор оказался прав. Хардов знал, что они делали. То, что могли, — рыли норы.
Скрежет, как миллионы взбесившихся молоточков, царапающих, бьющих, лихорадочно истирающих толстые доски; бессмысленно, по сотой части миллиметра, словно им отведена целая вечность. Когти и зубы, грызущие ещё даже не опилки, а деревянную пыль…
— Землерои, Хардов, — сказал Фёдор.
— Задубелые доски не земля.
— Их очень много. А капля точит камень. Они возьмут количеством.
Глаза Раз-Два-Сникерс сузились, словно по их лицам она сумела прочитать ответ на свой вопрос.
— Они пройдут сюда, так? — В её сиплый голос теперь прокралась отчаянная усмешка. — Наше убежище оказалось ненадёжным?
* * *
(Отдай нам мужчину. Скажи ему.)
Ева отшатнулась, как от удара.
(Отдай мужчину. Мы заберём его жизнь и уйдём.)
Оборотни теперь не просто говорили с ней. Они были напуганы. Они пришли сюда за Хардовым, но их подгоняла чужая воля. И они не смогут от неё освободиться, не смогут противостоять ей, пока не вернут себе силу Королевы. Они попали в свою собственную западню.
(Отдай нам мужчину. Скажи ему. И мы сможем уйти.)
«Ах, Фёдор, как же быть? — подумала девушка. — Как?! Чтобы не потерять всё? Сохранить хоть что-то…»
(Отдай! Туман всё равно убьёт их всех. Отдай, и мы уйдём.)
Оборотни были очень, смертельно напуганы, как тогда взбесившаяся зайчиха в лодке. Паника подстёгивала их.
Они были обязаны вернуть силу Королевы, и это обязательство стало западнёй. И пока это так, чужая воля гнала, безжалостно толкала их вперёд, требуя страшной платы.
Наверное, туман всё ещё не сможет сюда подняться, и оборотни стали его орудием.
«Ах, Фёдор, ну почему ты не взял у них скремлина? У Анны?! Не верил? Но ведь я могла бы помочь, как тогда зайчихе в лодке».
(Отдай нам мужчину. Только мужчину. Скажи ему. И мы сможем уйти.)
— Нет, — прошептала Ева, когда пронизывающий до костей вой снова поднялся по церкви. Она смотрела на Фёдора. Она не знала, как ей быть.
«За что? За что… так?»
Вернее, знала. Только тогда то хрупкое, что ещё можно сохранить, безнадёжное, но что ещё может остаться воспоминанием, будет стёрто в пыль, втоптано в грязь. А ей останется лишь отчаяние или хуже того — жалость и брезгливое презрение.
Но она не отдаст им Хардова! Не скажет ему. Не скажет, о каком страшном обмене они просят. Ева не сомневалась, что знай Хардов, не раздумывая бы согласился, чтобы спасти их. И не сомневалась, что тогда она будет проклята. Но… как… быть? Ева смотрела на Фёдора, и только Раз-Два-Сникерс уловила что-то в её глазах, понятное лишь женщине: непомерную любовь и непомерную печаль, утрату, потому что так прощаются с любимыми.
«Ах, Фёдор, — беззвучно, одними губами шептала Ева. — За что такое?.. Я не хочу, я не могу, я ведь хотела унести свою тайну с собой. И потом только… помнить, лишь только вспоминать… тебя. Но не останется даже этого. Как быть?»
* * *
— Берега канала совсем очистились, — словно бы невзначай сказал Фёдор. — Весь туман стянулся сюда. Взгляни внимательно, друг мой.
Хардов посмотрел вниз. Туман, клубясь по фронту, медленно сжирая площадь, полз к церкви. Это был тот самый ядовитый туман, что лежал на Тёмных шлюзах, и даже в обычные дни не хотелось думать о том, что за тварей он скрывает. Только Хардов успел заметить ещё кое-что. Там, где осталась теперь уже почти нечитаемая вывеска «Продукты». Это можно было принять за случайную игру, обман зрения, как мы видим порой знакомые образы, например животных или корабли, в очертаниях медленно плывущих облаков. Но это не было обманом зрения. Лицо, сотканное из тумана. И Хардов узнал его.
«Вот и наш мальчик пожаловал, — подумал он. — На это ты решил указать мне?»
Хардов перевёл взгляд на крышку люка. И лицо его застыло. Что-то леденящее коснулось затылка. Ровно посередине двери только что образовалось крохотное отверстие, прорезанное самым остриём загнутого когтя. Следующий удар чуть расширил его. «Быстро же они работают. — Мрачное опустошение попыталось овладеть Хардовым, но он крепче сжал в руках ружьё, и это тягучее чувство отступило. — Землерои…»
— Сколько у нас есть времени, чтобы привести свои дела в порядок? — невесело усмехнулась Раз-Два-Сникерс. — Завещания? Последнее прости?
Хардов с удивлением посмотрел на неё, она ответила угрюмым взглядом. Она не шутила: в левом углу деревянного люка прямо на глазах появлялось ещё одно отверстие. То, что было посередине, разрослось настолько, что стало возможным увидеть зубы, перемалывающие стружку: бешено рыча, оборотни пытались вгрызться в дерево; зубы, окровавленные когтями соседей и ранящими дёсна иглами заноз.
Хардов как-то брезгливо поморщился. Склонил голову. Молчал. Затем задумчиво пожал плечами; большой палец плавно поглаживал затвор.
— Королева где-то там. Недалеко. — Он пристально смотрел на люк. — Без неё они беспомощны. Стоит попробовать.
— Это твой план «Б»? — с тёмной ухмылкой отозвалась Раз-Два-Сникерс.
Уголки рта Хардова чуть растянулись, такое подобие бесцветной улыбки одними губами.
— То же самое, что искать иголку в стоге сена, — помотала головой Раз-Два-Сникерс.
— Это наш единственный выход, — возразил Хардов.
Оборотни лихорадочно скребли дверь. Хардов, широко расставив ноги, встал над люком, передёрнул затвор. В ответ визгливо зарычали вперемешку с паническим поскуливанием, но ещё более интенсивно забарабанили лапами в дверь. Взгляд Хардова блеснул, на миг в нём появилось что-то тёмное, но тут же прошло.
— Каждый выстрел серебряной пулей здорово их ослабляет. По крайней мере, так было. Но главное, меня может убить только Королева. — Хардов исподлобья взглянул на Фёдора и Раз-Два-Сникерс. — Вы понимаете, о чём я? Надо будет внимательно следить.
Раз-Два-Сникерс дёрнула подбородком, несколько ошеломлённо глядя на Хардова. Потом раскрыла ладонь.
— У меня три, — сообщила она. В руке лежали патроны, в каждой гильзе по серебряной пуле.
— Семь, — тут же отозвался Фёдор.
— У меня тоже осталось семь, — без всякого выражения произнёс Хардов.
— Много меньше, чем их. — Усмешка Раз-Два-Сникерс вышла прежней, пропитанной отчаянием и усталостью. — Что ж, значит, я им дорого продам свою жизнь.
— Шатун уже здесь, — тихо сказал ей Хардов, поведя взглядом за пределы звонницы. Она не шелохнулась.
— Если удастся добраться до Королевы. — Хардов мягко указал на ракетницу, заткнутую в одну из пазух поясного ремня Раз-Два-Сникерс, — то дальше вся надежда на твой пугач.
Она также не шевелилась, потом быстро кивнула в ответ, но отвернулась. Фёдор молча смотрел на них, словно что-то взвешивая.
— Далековато, — наконец оценивающе заключил он. — До шестого шлюза. Даже если всё выгорит, можем не успеть.
— Бежать придётся со всех ног, — подтвердил Хардов. — Как будто черти палят нам пятки.
— Пожалуй, — согласился Фёдор.
Хардов извлек ключ, которым прежде запер амбарный замок. Потёр им подбородок, покрытый трёхдневной щетиной. Искоса взглянул на Раз-Два-Сникерс.
— Сейчас они проходят шестой шлюз. Капитан Кальян остановил лодку на широкой воде ждать Тихона. Думаю, где-то через пару часов Анна и Подарок с отдохнувшими скремлинами смогут пробиться сюда, — как-то словно виновато, не поднимая глаз, разъяснил Хардов. — Такой был план «Б». Только боюсь, у нас не осталось этой пары часов.
Раз-Два-Сникерс вздохнула.
— Тогда нет смысла ждать, — бросила она в ответ. Посмотрела, как растёт отверстие по центру двери. — Открываем. Внезапная атака — лучшее им угощение.
— Можно попробовать, — согласился Фёдор.
Хардов улыбнулся. Кивнул:
— Они сразу бросятся на меня. И потащат к Королеве. Следите внимательно.
Бесшумно вставил ключ в скважину замка.
«Сражаемся голыми», — подумал он. И тут же отогнал эту мысль.
— Все знают, что делать. Ты, — Хардов указал на Раз-Два-Сникерс, — идёшь за мной. Фёдор прикрывает Еву. Готовность десять секунд. И открываю. Я скажу, когда пора.
* * *
Никто не обратил внимания, как Ева отвернулась к белой стене звонницы. И крепко зажмурилась. И впервые решилась ответить оборотням.
«Вам нельзя сюда, — толкнула она мысленный посыл. — Уходите».
«Отдай мужчину! — тут же взорвалось у неё в голове. — Не мешай ему. Он уже готов идти к нам».
Ева сжала кулачки и зажмурилась ещё сильней. И увидела. Густой туман стоял в церкви. Она почувствовала тёмную маслянистую жуть, обволакивающую оборотней. Панику и силовые линии, связывающие их воедино и уходящие далеко в черноту, где они прятали Королеву. Хардову не пробиться туда, не дадут. Но вовсе не Королева управляла сейчас оборотнями. Ева смогла взглянуть ещё дальше, и черты рослой светловолосой женщины расплылись к периферии, как распускающийся чёрный цветок, что решил явить упрятанное в его центре. Маслянисто-дымное лицо человека, который пришёл сюда вместе с туманом. Его отстранённый и одновременно алчущий взгляд.
Ева никогда не видела Шатуна прежде, но сейчас многое узнала о нём. Боль, которую он причинял себе и окружающим, стала его сутью. И наверное, в глубине души, в потаённом и сокровенном, открытом лишь снам и воспоминаниям, он желал бы избавиться от неё, если бы момент не был уже давно упущен. И ещё с ужасом Ева поняла, что этот человек был любим, — в самом центре черноты еле тлела искорка, — любим этой женщиной-воительницей со странным именем. И тем страшнее будет его падение. Потому что, как и прежде с Королевой-оборотнем, он тоже не являлся конечной фигуркой, спрятанной в жуткой матрёшке. Там, за опустошением, которое причинил себе этот человек, как за слоями луковицы, таилось что-то ещё. Подлинное и беспощадное, оно совпадало с его стержнем, но не являлось им. И Ева осмелилась посмотреть ещё глубже. Внутрь лица Шатуна. И оказалась в черноте, о которой не подозревала прежде. У границ, за которыми следует непостижимое для глаз и о чём, оказывается, ведает лишь сердце. То зрение, которое в состоянии выдержать беспощадную, убийственную нежность ослепительного света и непроглядного мрака. Ева поняла. Её зверь был там.
Впервые в смутных очертаниях бездонной воронки она увидела его глаза, горевшие тусклой желтизной. Он был причиной всего. Он пришёл сюда за её тайной и теперь уже не отступится. Ева в ужасе отпрянула, успев пожалеть этого человека в тумане, пожалеть оборотней и пожалеть себя. Теперь она не сможет по-другому, по-другому им не сдюжить.
И всё же она снова обратилась к оборотням. «Уходите, — в отчаянии попросила она. — Вы ведь знаете, что я… могу».
И немое ошеломление прошло от Королевы, и на миг оборотни затихли, хотя тут же из чёрной глубины распустившегося цветка пришло им повеление продолжать.
(Отдай мужчину).
«Уходите! — повторила Ева твёрже. — Я могу».
Только что Хардов произнёс:
— …открываю. Скажу, когда пора.
Ева медлила. Чёрный хищный цветок судорожно трепетал в предвкушении, алкал добычи. Хардов начал поворачивать ключ. Ева поняла, что всё висит на волоске. А потом она не узнала свой собственный голос:
— Нет! Это ошибка. — Надтреснутый голос был чужим, низким и несколько монотонным. — Западня.
* * *
Рука Хардова, поворачивающая ключ в замке, застыла.
— В чём дело, Ева?
Девушка смотрела на него, и Хардова поразил её даже не несчастный, а какой-то обречённый вид.
— Только говори, пожалуйста, быстро, — попросил он.
— Там, под крышкой, туман. — Её голос всё ещё звучал непривычно монотонно, бесцветно, словно из него вышли все силы.
— Знаю, — сказал Хардов.
— Там на вас нападут не только оборотни.
Гид помолчал. Его взгляд блеснул.
— Шатун?
— Он тоже только часть всего этого. — Ева устало покачала головой. Потом, будто решившись, снова посмотрела на Хардова.
И он подумал, что никогда не видел у неё прежде таких бледных щёк, а огромные тени под глазами сделали Еву на миг много старше её возраста. Как будто исчезла куда-то беспечная весёлая девчонка, отцвела скоротечной весной её юность, и вся устало-мудрая тяжесть мира взрослой женщины внезапно обрушилась ей на плечи. «Не бойся, Ева, я смогу тебя защитить, — чуть было не сказал Хардов. — Пожалуйста. Не беспокойся ни минуты». Только это был не страх, а что-то совсем иное.
— Я знаю, что вы пытались уберечь меня, Хардов, — тихим, исполненным безмерного страдания голосом произнесла девушка. — Но поздно, нет другого выхода.
— О чём ты?
— Я не позволю, чтобы вы из-за меня страдали.
Тёмным холодком, как из бездонной пропасти, повеяло на Хардова:
— Что ты задумала? Ева?!
Но она его уже не слушала. Отвернулась. Подняла взгляд на Фёдора, тихая беззащитная улыбка — словно пыталась что-то запомнить. И тут же горячо, сокрушённо проговорила:
— Ах, Фёдор, но почему ты не взял у них скремлина?
Тот удивлённо заморгал, не зная, что ответить, и это на короткий момент вернуло ему сходство с пареньком, великовозрастным олухом из Дубны.
— Ева?! — с нажимом позвал Хардов.
Её щёки всё ещё были бледными, глаза испуганно застыли. Она слабо протянула к Фёдору руку.
— Я так боюсь, Фёдор, — еле слышно вымолвила она. — Но ты не бойся.
Фёдор склонил голову, наверное, сбитый с толку или застигнутый врасплох её нежностью, но потянулся к ней.
— Ева, нет! — хрипло приказал Хардов.
— Чего не бойся? — спросил Фёдор.
— Поклянись, что не будешь, — попросила она. — Что постараешься.
Хардов увидел, как отверстие по центру двери только что пробила тёмная поросшая шерстью лапа, тут же ставшая мощным согнутым кулаком с длинными искривлёнными когтями. Словно оборотни знали, что происходит, словно Королева горячечно, на последнем дыхании спешила передать им все оставшиеся у неё силы.
Ева и Фёдор смотрели только друг на друга.
— Постараешься? — с испуганной, безвозвратной доверчивостью повторила девушка. — Пожалуйста.
— Ева, — прошептал Фёдор. И вдруг почувствовал, что у него кружится голова. — Я не понимаю.
— Тогда просто услышь меня.
— Что?! Но я и так…
— Нет, Ева, — снова попытался одёрнуть её Хардов, только голос его прозвучал тихо, почти шёпотом. — Не смей!
Девушка смотрела на Фёдора. Ещё секунду щёки её казались сокрушённо, болезненно белыми, а потом мучительный стон отлетел с Евиных губ. И эта бледность словно сменила свойство, истончаясь, наполняясь чистым внутренним светом. Странным, новым для Евы жестом, открывающим её всю, не ведающим стыдливости, она ещё подалась вперёд, чуть прикрыв глаза, будто ожидая поцелуя. Хардов замер.
— Фёдор, — позвала Ева. И глаза её широко раскрылись. — Услышь моё сердце.
— Что?! — Фёдор еле заметно дёрнул подбородком. Но в его округлившихся глазах не было осмысленности, он не понимал, что услышал.
Хардов молчал, время для любых увещеваний кончилось: «Ты не знаешь, что делаешь, Ева. Никогда прежде…»
— Услышь! — с требовательным отчаянием повторила она. — По-другому нам не выбраться.
— Ева… — Фёдор отрицательно замотал головой.
— Я не та… Прости! Но ты сможешь. Только услышь.
Обескураженно, даже как-то испуганно Фёдор потянулся к девушке, коснулся пальцев. Она вздрогнула от неловкости, или потому что их прежних уже не было, но заставила себя не отвести руки. «Любовь выбирает нас, когда мы меньше всего к этому готовы, — подумал Хардов. — Но нас прежних нет. Бедная…»
— Но я не понимаю, — прошептал Фёдор. — О чём ты говоришь, Ева?
Почти капризно посмотрел на Хардова, будто требуя немедленного ответа. Гид и ответил ему прямым пронзительным взглядом, от жара которого Фёдор отпрянул. Только своим безошибочным чутьём Хардов определил, что это уже происходит. Больно и радостно защемило в груди, и он ощутил эту новорожденную, ещё не сознающую себя, поднимающуюся силу. Увидел, как изменилось вокруг пространство, какими яркими и необъяснимо полноценными вдруг стали предметы, каким кристально чистым сделался воздух. Будто бы, невзирая на весь кошмар происходящего, мир вокруг спал, а теперь ожил. А ещё Хардов ощутил хрупкую радость. Обнажённая непорочная чистота, которой оставалось существовать несколько мгновений. Лишь роковым отсветом всплыла мысль: «Слишком рано. Вы ещё не готовы», — тут же вытесненная другой: «Господи, какая она красивая…»
— Делай, что она говорит, — вдруг сказал Хардов.
Фёдор молчал; застенчивый, не самый смекалистый юноша в ужасе смотрел на окружающий мир. Если б не обстоятельства, Хардов позволил бы себе посмеяться над мрачным комизмом ситуации.
— Делай что должно, Фёдор!
«Делай, теперь можно, — с неожиданной жёсткостью подумал Хардов, наблюдая, как в расширившееся отверстие по центру люка, невзирая на катастрофическое несоответствие диаметров, желала протиснуться окровавленная морда оборотня. — Ты, чёртов тупица, заслужил любовь скремлина. Она единственная. И всё это впервые. Её отец и мы с Тихоном хранили эту тайну, но и тут вмешался ты! Не знаю, через что пришлось пройти Еве, чтобы принести сейчас в жертву своё чувство. Не тебе, а какому-то голодранцу из Дубны, и если ты её обидишь… Но ты, чёртов везунчик, заслужил то, чего не выпадало никому прежде, поэтому делай».
Странное опустошение пришло к Хардову. Тишина. Вся его длинная бурная мысль заняла, наверное, не более секунды. Но всё переменилось. Никого прежнего здесь не осталось. И Фёдор всё понял. Хардов внимательно смотрел в его застывшие глаза, где отцветали тревожные тени: мучительный вопрос, сокрушительное прозрение и тёмная вода, где плавали обломки обрушенной вселенной.
«Только попробуй пожалей её». — Хардов всё ещё слушал эту тишину.
Но когда Фёдор начал говорить, никаких следов того, что видел Хардов, в его глазах не осталось. И гид вспомнил, что давно простил его. Человека, ставшего ему когда-то больше чем Наставником, научившего не бояться тумана, выживать в нём и видеть, открывшего тайну Возвращения и рассказавшего о том, как сражаться голым. Человека, который когда-то, пожелав спасти, отнял у него самое дорогое. Но Хардов давно простил. И стал жить дальше. Возможно, ради этого самого момента. Когда ответно и трепетно, и очень осторожно, словно они видятся впервые, Фёдор чуть подался к девушке.
— Ева, я слышу твоё сердце, — пообещал он.
Никакой тёмной воды в мире больше не оставалось.
31
Губы Евы раскрылись совсем немного, будто она и вправду ждала самого чистого, нежного и страстного поцелуя в своей жизни. Хардов почувствовал неловкость и потребность отвернуться, но теперь было нельзя. Из щёлочки между губами девушки выскользнул крохотный огонёк. Весело и будто удивленно качнулся, осыпался игривыми искорками небесного цвета, хрупко и беззащитно поплыл к Фёдору. Остановился. Все посторонние звуки отодвинулись куда-то по краям звонницы, хотя сквозь отверстие в люке сумела полностью протиснуться истерично, злобно огрызающаяся голова первого оборотня.
Огонёк начал разрастаться. Заиграл ласковыми отсветами на лицах Фёдора и Евы, словно в благодарность за эти подаренные ему мгновения бытия. Ощущение пронзительной нежности, заливающей всё пространство звонницы, сделалось непереносимым. Огонёк рос, набираясь внутренней силы.
— Бог мой, Хардов, что происходит? — прошептала Раз-Два-Сникерс. — Кто она?
— Молчи, — оборвал её Хардов. — И приготовь оружие, если ты гид.
* * *
«Я слышу твоё сердце», — обескураженной восхищённо повторил Фёдор. Только он не говорил вслух.
«Да, слышишь, — тут же отозвалась Ева. — Теперь я знаю, как это…»
«Ева…»
«Подожди, Фёдор, не спеши. Я ещё боюсь. Держи меня крепче».
«Как держать? Я ведь…»
«Крепче. Держи. Не отпускай. И…»
На миг Фёдору показалось, что его сердце словно остановилось. И дальше два сердца забились как одно. А потом был свет.
* * *
«Не-е-ет!» — чуть было не завопил Хардов, впервые в жизни борясь с желанием зажмуриться от этого света. Ярчайшая вспышка ударила во все стороны. Звонница буквально взорвалась миллионом солнц.
«Ева… Господи». — Хардова будто оглушило контузией, из которой он сейчас выплывал. Сглотнул ком, подступивший к горлу. Оборотень, застрявший в крышке люка, в ужасе завизжал, пытаясь убраться обратно во тьму. Хардов ещё медлил доли секунды, а потом помог ему ударом ноги.
«Ева… Как же ты хранила столько в себе?! Как справлялась?»
Но пора было убираться отсюда. Хардов наклонился нал люком, чтобы наконец открыть его. Увидел, как по крышкам разбегается множество каких-то мелких тварей, которых невозможно было различить в прежнем освещении. Туман уже был здесь, хотя выше этой, оказалось, ненадёжной перегородки подняться не смог. Только теперь Хардов, пожалуй, не стал бы зарекаться…
— Помоги мне! — бросил он оцепеневшей Раз-Два-Сникерс. — И береги серебряные пули! — Всё же торжествующе улыбнулся. — Теперь обойдёмся простыми.
Но свет, о котором Хардов знал многое, знал, что внутри него, пусть в крохотной точке, всё же бушует беспокойное тёмное пламя, продолжал прибывать, изливаясь волнами и затопляя всю звонницу. По церкви, окруженной непроглядной мглой, нисходил ослепительный свет, как будто она была ракетой на старте, запускаемой в сумеречное небо. Хардов решил, что это сравнение пришло совсем из другой жизни, где существовали ракеты, готовые к взлёту, и тех, кто о них помнит, осталось совсем немного. «Ну что же, Анна, вот ты и оказалась права. — Не мешкая, Хардов раскрыл амбарный замок. — Надеюсь, ты видишь это».
Но он понимал, что такое будет продолжаться недолго. Очень недолго. «Господи, как сильно, — подумал Хардов. — Невероятно сильно! Они сгорят».
* * *
Ярчайшая вспышка ударила во все стороны, и мир стал светом. Сначала Фёдор ощутил боль и лёгкость и тут же захотел найти Еву. Но он её и не терял. Ещё никогда она не была так близко к нему. Ещё никто не был.
«Не отпускай меня».
«Не отпущу!»
Они смотрели глаза в глаза, не отрываясь, словно им впервые в жизни было дозволено насладиться, утолить жажду видеть, забыв о застенчивости, познать друг друга в этом созданном ими свете, который отгородил от всего остального мира.
«Ева, у нас с тобой что, одно сердце?»
«Я не знаю».
Их связь была глубже, нежней и интимней, чем при самом откровенном поцелуе, чем в самую бесконечную ночь любви, которых у них ещё не было. Фёдор захотел что-то сказать, но они попали в мир, где пока не придумано слов. И вдруг шагнули друг к другу. Ещё ближе, в головокружительную пропасть другого — шаг опрометчивый, за которым неминуемо следует расплата, — но не упали. Оказалось, в сотворённом ими мире не существует расплат, а только дары, и с каждым восхитительным мгновением они всё более щедро обменивались этими дарами. А потом самые простые истины облеклись в самые простые слова.
«Ева, — ошеломлённо и восторженно произнёс Фёдор. — Я люблю тебя».
«Я тоже тебя люблю, Фёдор».
«Ева…»
Самые простые и самые древние слова.
«Я так боялась, а оказалось так просто… и легко».
Свет куда-то двигался, и они в нём.
«Ева».
«Я здесь… Какая я была глупая».
* * *
Хардов увидел, как источник света невероятной интенсивности приблизился, мягко поплыл к люку.
— Ты готова? — окликнул он Раз-Два-Сникерс.
— Да. — Она уже была в форме.
* * *
«Ева, это наша свадьба».
«Свадьба?»
«Если ты согласна».
Улыбка… Улыбка, как лёгкое дуновение света.
«Фёдор, мы куда-то плывём?»
«Наверное».
«Но я не сделала и шага».
«Да, движемся. Как будто летим».
«Но как же, Фёдор, такого не бывает».
Они действительно кружились, как в танце, невесомые, так и не оторвав друг от друга глаз. Свет, который не был порождением одного лишь неба, увлекал их куда-то бережно, деликатно, но и настойчиво, словно выделенное ему время заканчивалось, и он торопился, вправду опасаясь, что их сердца могут не выдержать. Не выдержать обрушившейся на них расточительной роскоши, и сгорят без остатка.
Но вот уже Хардов сумел различить их: Фёдор держит Еву за руку, свою слегка приподнял и отвёл в сторону. Такое приглашение к танцу, чей ритмический рисунок совпадает с линией их судьбы. И на миг Хардов и сам потерял, где верх, где низ. А потом он увидел свободную правую руку Фёдора. В ней находилась скинутая с плеча автоматическая винтовка, уже переведённая в боевое положение. Свет увлекал их прочь из звонницы, будто родился не для взаимных признаний, а лишь чтобы пройти сквозь хищный мир, пропитанный мглой. Видимо, на каком-то протоуровне Фёдор понимал это. Возможно, помнил, что надо делать. А может быть, они оба сейчас узнавали всё заново.
Хардов кивнул Раз-Два-Сникерс. Указал знаками порядок выхода. Та кивнула в ответ.
«Быстро ты справилась с шоком, — мелькнуло в голове у Хардова. — Ты действительно могла бы стать прекрасным гидом».
Защёлкали затворы. И Хардов открыл люк. В образовавшийся проём сразу же хлынул свет. Ответом ему стали рёв, панические визги, шипение. С холодеющим сердцем Хардов увидел, как много тварей таилось там и сейчас отпрянуло прочь. Некоторые, в основном оборотни, принимавшие в этом свете свой истинный облик, не выдержали и бросились врассыпную, скатываясь по лестнице, падая вниз. Но были и другие. Создания тумана, скользкие, как мокрицы, в тех местах, куда свет ещё только проникал, и чудовищные в его фокусе; эти, будто порождённые кошмаром, что поджидает на границе яви и сновидения, прятались в теневые изгибы лестницы, всё ещё готовые напасть.
Фёдор и Ева встали на верхней ступеньке лестницы. На какой-то момент Раз-Два-Сникерс показалось, что они парят в воздухе. Ева так и не убрала руки, и они не отводили глаз друг от друга, словно всё происходящее их не касалось. Они шагнули вниз, начали спуск. Света на лестнице сразу стало больше, но Хардов увидел, с каким трудом свет проникает в эту противостоящую ему маслянистую жуть, что висит в церкви.
Фёдор и Ева сделали ещё шаг вниз, и опять ощущение, что они просто, лицом к лицу, кружатся над деревянными перекрестиями, не касаясь их. Фёдор отвёл правую руку куда-то за спину, как будто находящаяся в ней автоматическая винтовка была лишь пушинкой, но даже не обернулся, не посмотрел в том направлении. Раз-Два-Сникерс поняла, что сейчас произойдёт, и почувствовала, какими сухими и горячими сделались её губы.
Фёдор открыл огонь. Подкравшуюся тварь, что попыталась напасть со спины, разнесло в клочья. Ствол оружия плавно переместился в сторону, на доли секунды предвосхищая следующее нападение. Как будто Фёдор мог видеть телом — животом, спиной, затылком, потому что взгляд его был полностью поглощён Евой. Мелькнуло перепончатое крыло, Хардов приготовился к ведению огня, но опять Фёдор опередил его. Следующее па; они неотрывно смотрят в глаза друг другу, танцоры, для которых не существует окружающего мира, не существует ничего, кроме друг друга и той истины, что утверждает сейчас их танец. Грациозным движением оружие перекладывается в другую руку, плавные полоборота, оглушительный выстрел.
Они уже на середине лестницы. Вот и Хардов открывает огонь. Следом присоединяется Раз-Два-Сникерс. Света становится больше. Гарь отработанных пороховых газов висит в спёртом воздухе. Они спускаются вниз, идут сквозь мглу, потому что этот свет действительно рожден не для взаимных признаний. Но их сердца не перестают слышать, будто попирая законы этого тёмного места. Попирая свинцовую необходимость любых мест, что дали себя пожрать туману, попирая твердокаменное враньё всего, что позволило себе превратиться в логово зверя, зловонное и пропитанное безумием.
Свет… Свет уже внизу, ворота церкви выпускают его на площадь; он словно ударяется о землю, расходится кругами, и туман лихорадочно расползается. И какой-то крик:
— Всё, Ева! Фёдор, всё! Ради бога, всё!
Только время их танца ещё вовсе не окончилось, совсем чуть-чуть, но есть.
— Глупцы, разойдитесь! Немедленно! Вам не выдержать такого…
Совсем чуть-чуть времени.
«Наша свадьба. Потом будет другая. Но эта настоящая!
Если ты, конечно, согласна».
Улыбка. Улыбка тает в воздухе, однако ещё жива. Они на площади, и свету всё труднее справляться со мглой, но улыбка пока есть. Слабый щемящий укол в сердце, нарастает какой-то надлом, и Ева вдруг чувствует, что силы Фёдора на исходе. Да и она… И о чём-то кричит Хардов.
«Ты согласна? Скажи сейчас, и мы со всем справимся. Согласна?!»
«Глупый, я давно согласна».
«Ева…»
Надлом не уходит, лишь немного отстраняется, но сил становится больше. И миг света продолжается ещё, радостного, спокойного.
«Фёдор».
«Что?»
«Просто зову тебя».
Танец, который заканчивается.
«Ева…»
«Мне так хорошо».
И который никогда не забудешь.
«Ты моя любовь…»
«Ты моя любовь…»
«Ты моя любовь».
И голос Хардова (какая-то внешняя сила разъяла их?):
— Разойдитесь, безумцы. Разойдитесь немедленно. Вы погибнете.
32
А потом пришла темнота. Они покачнулись, не сразу понимая, что случилось. Чувствуя только, что всё стало по-другому. Их двоих больше не было. Они потерялись, разносимые всё дальше. И сердца, бившиеся как одно, теперь наполнила немота. Неведомая прежде грусть нанесла свой первый укол. И откуда-то вдруг хлынуло тоскливое ощущение невыразимого, неизбывного сиротства.
«Фёдор», — ещё позвала Ева. Ответом стало молчание. Холодное, непроницаемое, равнодушное, как камень. И словно что-то вырезали в груди, там, где только что бились сердца.
Свет иссяк. Лишь тёмный шершавый холод снаружи. И такое же кромешное одиночество внутри.
* * *
Фёдор застонал. Глаза на бледном лице вот-вот закатятся. Он снова покачнулся, готовый упасть без сил, но Хардов успел подхватить его под руки.
— Ничего-ничего, — бережно шептал гид. — Сейчас… Сейчас всё будет нормально. Идти сможешь?
Фёдор пытался что-то ответить, но голова его безвольно повисла.
* * *
Ева стояла. Теперь одна. Туман, словно поджавший хвост зверь, ещё отползал от них, но, очевидно, его отступление замедлялось, всё менее походя на бегство. Где-то поскуливали оборотни, дезориентированно шарахаясь вдоль кромки мглы, стараясь сбиться в кучки.
Она, наверное, ничего не чувствовала, кроме этого холода необоримой тоски. Её словно лишили чего-то, той части, без которой она не сможет жить. «Это была лишь грёза, — думала она. — Сладкий сон. И я проснулась в кошмар».
Она видела, как Хардов оттаскивает от неё Фёдора, — она поняла! — и теперь не смела пошевелиться.
«Моя жизнь и есть кошмар. Это я сделала с ним. Чуть не убила его. Потому что я чудовище! И теперь он знает». Они признались друг другу в любви? Как глупо и безжалостно. Им показалось, что они могут… Какой чудесный сон. Грёза… И от этого сердце может превратиться в камень. Потому что на самом деле в этом мире нет никаких даров, а только расплаты. Кто станет признаваться чудовищу? Кто станет говорить с ним и даже смотреть в его сторону? Если только закидать камнями, чтобы убиралось с глаз долой! В те кромешные, пропитанные зловонием обломки, куда не проникает дневной свет, где ждёт Зверь. И честно говоря, только там ему и место…
— Фёдор, идти сможешь? — снова повторил Хардов.
Ева, вжав голову в плечи, чуть подняла взгляд.
— Фёдор, посмотри на меня! — Хардов перевернул его лицом к себе, вздохнул. — Ничего, просто слишком рано… Ничего, я потащу. Ева, помоги мне. Надо взять с другой стороны. Ева!
Она молчала, не шевелясь, будто всё у неё внутри умерло.
— Помоги мне, Ева! — прикрикнул Хардов. — Оборотни не ушли далеко. Мне нужна свободная рука.
Ева в ужасе смотрела на них. И наверное, она не услышала озабоченный, но при этом холодный голос Раз-Два-Сникерс:
— Хардов! Нужно срочно убираться отсюда.
* * *
Как только свет иссяк и Хардов разнял этих двоих, однако не касаясь девчонки, Раз-Два-Сникерс сморгнула, всё ещё напряжённо, обескураженно разглядывая Еву. «Вот почему Хардов тащил тебя с собой, — подумала Раз-Два-Сникерс. — Вот уж воистину что было самым ценным грузом! И никто, ни Новиков, ни даже Шатун, никто из них (из нас?) такого не смог бы предположить. Вот уж силы небесные…»
Она вспомнила Юрия Новикова. Сладенького доморощенного плейбоя, маменькиного сынка. Или папенькиного. «Женишок, — холодно, даже удивлённо усмехнулась. — Недоносок! Не по зубам тебе такое…» Мысль была посторонней, но позволила ей перевести дух. Раз-Два-Сникерс снова посмотрела на Еву и неожиданно для самой себя пожалела её. «Кто ты, бедная девочка? Несчастное создание, издёвка равнодушной природы или чудо, которое надо беречь как зеницу ока?»
Собственно, эта мысль тоже вышла посторонней, но Раз-Два-Сникерс вдруг захотелось улыбнуться Еве.
«Хардов не стал до тебя дотрагиваться, когда разнимал вас? Правильно. Никогда настоящий гид без надобности не коснётся чужого скремлина. Это даже не кощунство…
Но ты девушка! И это удивительно. В другие моменты Хардов не раз обнимал тебя, успокаивал, был нежен, насколько он вообще может быть нежен. Но он любит тебя, как собственное дитя. И это не просто удивительно. Это что-то большее. Вокруг чего вертится мир, если ему ещё суждено… Не о чём-то подобном когда-то ранним утром, от которого осталось лишь солнечное пятно, говорила одиннадцатилетней девочке Лия, светлая королева детства? И не потому ли я сейчас здесь?»
Раз-Два-Сникерс очень захотелось улыбнуться Еве. Подбодрить её, сказав какую-нибудь правильную глупость: «Ничего, сестрёнка, ничего. Всё хорошо. По-нашему, по-девчачьи, я тебя не выдам. А тому, кто постарается, я лично натяну задницу на затылок».
А потом она увидела Шатуна.
В мглистом изломе тумана сгустком дымного пятна мелькнула жалкая скрючившаяся фигурка. Он то ли полулежал, то ли, странно уклонившись на один бок, сполз с чего-то, на чём сидел, и Раз-Два-Сникерс физически ощутила его ужас, холод, ознобом утвердившийся в теле, паническое недоумение. Человек, с которым она когда-то делила постель, сейчас стонал, и его пробивала дрожь.
«Вот что с тобой происходит на самом деле в этой твоей Станции», — подумала она.
Но глаза, всё ещё живые, смотрели прямо на неё. И на миг Раз-Два-Сникерс показалось, что она уловила в них не только укоризну, а что-то, в чём Шатун себе никогда бы не признался, что-то очень похожее на мольбу о помощи. Но всё это продолжалось недолго. Взгляд стал пустым, а когда в него вернулась осмысленность, она принесла с собой нарастающую клокочущую ярость.
«Оставь нас в покое, и я смогу помочь тебе», — обратилась она в своих мыслях к человеку, который когда-то изменил её судьбу, сделал отступницей, но и сумел заменить собой всё, к чему она стремилась. Может, не очень-то и стремилась? А может, была глупая, одинокая и слишком молодая. Но сейчас времени анализировать свою жизнь уже не осталось.
Шатун попытался подняться. И сразу вырос.
Раз-Два-Сникерс машинально дотронулась до ракетницы.
«Оставь нас! И я не стану этого делать. Я вернусь за тобой».
Она не знала, говорит ли себе правду. Потом поняла, что только в той части, где не хочет причинить ему вреда. Потому что она ни за что больше не вернётся.
Шатун смог встать. Туман, как будто наполняя его лёгкие, дохнул и замер. Раз-Два-Сникерс услышала радостные визги оборотней, ещё тихие, слабые; кто-то из них попробовал завыть, но пока безрезультатно. Королева была обессилена, однако такое тоже будет продолжаться недолго.
— Привет, малыш! — сказала она, всё ещё обращаясь к тому Шатуну, которого знала, и еле уловимое воспоминание о нежности прокралось без спроса в её голос, смешавшись с тихим сожалением. — Что, решил пожить в тумане?
Шатун сделал шаг вперёд. И словно наткнулся на невидимый вязкий барьер. Он оглянулся, но не больше, чем вполоборота, и у Раз-Два-Сникерс создалось впечатление, что он к чему-то прислушивается. Были эти торжественные марши? Где-то на грани слуха, в другой вселенной, ослепительной и, как ракета из её «пугача», навсегда застывшей только в своей высшей точке?
Шатун снова двинулся вперёд. Барьер по кромке тумана качнулся, не пропуская. Но дымная голова Шатуна, пытающаяся прорвать границу, неестественно искривилась, а шея вытянулась, как будто была телом змеи. Шатун отпрянул, глаза его гневно сверкнули. Раз-Два-Сникерс похлопала по ракетнице. И поняла, что пустит её в ход не раздумывая, но… Пока рано — Учитель
(Тео? Фёдор?!)
безвольно повис на руках Хардова, его придётся тащить, и они просто не успеют. Если б они смогли бежать…
Шатун развёл в стороны руки, будто бы рвал какую-то невидимую цепь. С запоздалым ощущением ужаса Раз-Два-Сникерс поняла, что он теперь много выше собственного роста. Шатун совершил ещё одну попытку, удачную. Туман осторожно и очень медленно пополз за ним.
«Нет, Хардов, — подумала Раз-Два-Сникерс, — нам недостаточно, чтобы Фёдор мог идти. Нам надо бежать. Со всех ног».
— Хардов, — позвала она, чуть растягивая последнюю гласную. — Нужно срочно убираться отсюда.
* * *
Страшное решение пришло к ней само собой, когда они уже покидали площадь.
Хардов с Евой, подхватив, тащили Фёдора, его ноги заплетались, подолгу становились бездвижными, оставляя во влажной земле длинные полоски следов. Ева смотрела только вниз, даже не мрачная или беспомощная, её движения выглядели пугающе механистическими, и когда Хардов спросил её о чём-то, девушка, словно не понимая, дёрнула головой, зябко вздрогнула, но так и не подняла взгляда. Оборотни пока не показывались, хотя их гнетущее присутствие чувствовалось всё острее.
Прямо за домом с вывеской «Продукты» улочка сворачивала к склону, который, резко обрываясь, вёл к Дмитровскому тракту. Дальше предстояло пересечь железнодорожные пути, сейчас ненадолго оставленные туманом, а там до шлюза № 6 действительно рукой подать.
«Если доберёмся до Дмитровского тракта, — подумала Раз-Два-Сникерс, — то вот там и придёт время ракетницы. Тогда, пожалуй, успеем. Выберемся. Даже если Фёдор не очухается, даже если его придётся тащить и дальше, должны выбраться».
Они вышли к началу склона. Раз-Два-Сникерс увидела вдалеке внизу шестой шлюз, и надежда тихонько постучалась ей в сердце. А потом она в очередной раз оглянулась. И поняла, что ничего из этого не выйдет.
Клубы тумана, наползая тёмным фронтом, пожирали остатки площади. И не надо было обладать глазомером профессионального стрелка, чтобы определить, что расстояние между ними сократилось ещё. Они уставали, а Шатун двигался всё быстрее.
Раз-Два-Сникерс остановилась. Тёмный холодок подул ей в лицо. Она с сожалением посмотрела на шестой шлюз и на короткое мгновение подумала о Лии. Улыбнулась.
— Вот и пришёл мой черёд, — проговорила чуть слышно. И затем громко окликнула: — Хардов, всем не уйти. Не успеем.
* * *
Гид обернулся, перехватив Фёдора за талию, чтобы не повалился вперёд.
— Давай быстрее! — резко поторопил он. Раз-Два-Сникерс покачала головой:
— Бегите. Спасай их! Я знаю, как его остановить.
— Какого чёрта…
— Только постарайтесь добраться до Дмитровского тракта.
— Ты о чём?
— О ракетнице, Хардов. — Она усмехнулась, однако он заметил, каким тоскливым сделался её взгляд, скользнув по звоннице, которую они только что покинули. — Лия научила меня многому. Да я не всё усвоила. Пришло время отдавать долги.
— У меня нет времени выслушивать…
— Прекрати, Хардов, — перебила она. — Ты знаешь, что я права. Давай проваливайте. Уводи их! Как я понимаю, это ведь главное, так ведь? Я возвращаюсь. Побеседую с Шатуном. Ещё разок.
— Решила поиграть в героя?
— Нет.
— Это больше не Шатун. Туман убьёт тебя.
— Возможно. Но по-другому он убьёт всех. Я не для того забралась так далеко, чтобы нас пожрали какие-то твари. — Обернулась, как-то брезгливо и презрительно посмотрела на туман. — Я не нужна оборотням. По крайней мере, не столь срочно, как ты. — Снова усмехнулась. — Мне есть где отсидеться.
Тёмный огонёк тоски чуть было не вернулся в её глаза, хотя она больше не смотрела на звонницу.
— Идём, — сказал Хардов.
— Уходи! — вдруг выкрикнула она. Но тут же заговорила ровнее. — Бегите. Если вы сдохнете, то всё было напрасно. А так у меня появляется шанс… — Попыталась улыбнуться, изобразить запоздалое кокетство, в которое не очень-то веришь. — Главное, успейте до тракта. — Она взяла рукоятку ракетницы. — И я сделаю большой «бум».
Теперь её взгляд блеснул привычным холодом пасмурного неба, и Хардов понял, что она уже всё решила. Захотел что-то сказать, но она опять не позволила, перебив его на вздохе:
— Нет времени болтать! — Быстро посмотрела на шестой шлюз, недоступный больше для неё островок спасения, и не сумела скрыть ноток отчаяния, хрипотцой прокравшихся в голос: — Это не для тебя, Хардов, хочу, чтобы ты знал. Для себя.
Кивнула на спутников Хардова:
— Не для тебя, из-за них, — и совсем тихо добавила: — а ещё из-за Лии.
Всё это время Ева не поднимала глаз, словно во всём происходящем была лишь статистом, но сейчас как-то исподлобья, вбок посмотрела на Раз-Два-Сникерс. И та неожиданно широко ей улыбнулась:
— Давно хотела тебе сказать — ты отличная девчонка! И просто молодец. Ты спасла нас всех! Запомни, мы всё ещё живы только благодаря тебе. Береги этих тупых мальчиков, — усмехнулась, — честно говоря, они часто в этом нуждаются.
Недоумение мелькнуло во взгляде Евы, и Раз-Два-Сникерс тут же ей по-свойски подмигнула:
— Но знаешь, сестрёнка, чем чёрт не шутит, может, ещё свидимся? — А потом серьёзно добавила: — Была рада познакомиться. А теперь забирай их, и бегите со всех ног.
— Послушай, я попытаюсь… — начал было Хардов.
— Уходите, пока не передумала, — отмахнулась она. Заметив, что Хардов всё ещё мешкает, набрала полные лёгкие воздуха, но в итоге голос её дрогнул. — Давай… Жаль, что ты так и не услышал меня. Может, я и не настолько дрянной человек, Хардов. — На миг замолчала, словно обдумывая своё заключение, и заявила с нарочито бодрой улыбкой: — Сейчас и проверим.
Хардов покачал головой. Впервые посмотрел на неё как-то по-другому. Еле заметно благодарно кивнул.
— Я… — крепче перехватил Фёдора. — Я обязательно вернусь за тобой.
— Выживи, Хардов, — сплюнула она.
— Я обязательно вытащу тебя. Обещаю. Так или иначе вытащу.
— Бегите, а то и вправду передумаю. — Она резко развернулась и увидела, как приблизился туман. — Беги, чёртов болтун!
Широко расставила ноги, положила правую руку на ракетницу. Обратила внимание на пока чистый проулок по задним дворам между домами и поняла, что это тот самый короткий путь в звонницу. Она не стала оборачиваться, услышав за спиной тихое хардовское «Держись. Спасибо тебе», а затем их быстро удаляющиеся шаги. Лишь прошептала, глядя на надвигающийся туман:
— Бегите…
И только тогда поняла, насколько ей страшно.
33
Тихон стоял на носу лодки, пристально вглядывался вдаль на возвышенность, обложенную туманом, и пытался понять, что он увидел. Икшинское водохранилище казалось вымершим. Лодки пироговцев следовали за ними в отдалении какое-то время, но так и не решились атаковать. И без того слабый ветерок стих окончательно, парус пришлось свернуть, и теперь они шли на вёсельном ходу.
Эти вспышки невероятной силы, чем они были?
Свет скремлина настолько яркий, что видно даже отсюда? Тихон провёл рукой по подбородку. Хардов с Евой вынуждены были уйти в Икшу, возможно, им пришлось укрыться в колокольне, но… Хардов не мог. Зарок не позволял ему. Зарок ненарушаем и связан с возвращением Учителя. Только тот и только когда это возвращение состоится, когда он вновь окажется на мосту, где в предыдущий раз поджидала его смерть, сможет освободить Хардова от зарока. Тогда… что же?
Тихон снова поднял руку к подбородку, потёр указательным пальцем краешек рта. Тёмная неясность, плохое предчувствие пронзительным холодком кольнуло в грудь. Мунир принёс весть, что Хардов с Евой в Икше вдвоём. А с утра Мунир всё более беспокоен — что-то пошло плохо. Но стоит признать, что это мог быть только свет скремлина. Невероятно сильного скремлина. Даже хардовский Мунир…
— Кто это мог сделать? — вдруг сказал Тихон.
Это предчувствие навалилось сильней, повисло тяжестью в груди. Он вдруг подумал о невероятном, невозможном, таком же, как и яркость этого света. Хардов не мог нарушить зарок. Выходит…
— Фёдор и… Ева? — изумлённо прошептал Тихон.
И в этот момент надрывный мучительный крик, похожий на плач, вырвался из глотки Мунира. Тихон развернулся к ворону, с тревогой посмотрел на него, пытаясь успокоить, но когда Мунир закричал вновь, в ясных глазах Тихона мелькнул отсвет боли.
«Хардов в беде? — И теперь эта тяжесть в груди поднялась и застыла чем-то твёрдым, холодным и пустым, она уже не казалась только предчувствием. — Случилось что-то плохое?»
До шлюза № 6 оставалось меньше часа хода.
34
Дорога вниз оказалась скользкой, и Хардову пришлось отыскивать относительно сухие камни, ступая по ним, чтобы не упасть. Справа от них низину затянуло болотом, под которым повисла сероватая дымка. Там что-то хлюпнуло, будто скользнуло в жидкую грязь, и Хардов немедленно повёл туда стволом оружия — так же, как и недавно Фёдор, он держал свой ВСК в одной руке. Правда, автомат был заряжен серебряными пулями, потому что близкое присутствие оборотней становилось всё очевидней, и Хардову не хотелось тратить драгоценное серебро на какую-то тварь из болота, безмозглое порождение гнилостной тени, мутаций, проистекающих во влажном сумраке.
Склон вёл ниже уровня тракта, и Хардов решил пересечь его по траверсу, отклоняясь от болота. Рыхлый туман теперь лежал тенью по левую руку, со стороны Евы, но он был пустым. Просто дымка. То хищное, что, собственно, являлось сутью тумана, ушло. Видимо, Раз-Два-Сникерс удалось как-то отвлечь Шатуна, увести его за собой, и это дало им короткую передышку.
«Успейте добраться до Дмитровского тракта» — так она сказала? А потом она пустит ракету и останется ждать неизвестности. Будем надеяться, что сигнал сработает. А если уж совсем повезёт, то и оборотни очухаются не так скоро, всё же им прилично досталось. Но это если уж совсем повезёт.
Хардов быстро посмотрел на Еву, и у него сжалось сердце. Наверное, стоило подбодрить её, — Хардов подумал, что дважды сегодня должен быть благодарен Раз-Два-Сникерс, — но, скорее всего, она сейчас закрыта для любых слов. Она просто идёт, просто тащит Фёдора, как тягловая лошадка, но она на грани, всё больше отдаляется, погружается вглубь себя. В обломки катастрофы, которую только что пережила, и может уйти ещё дальше. И это очень плохо. Для Хардова сейчас главное — доставить её живой. Их обоих. Раны глубоки, но излечимы, если будет кого лечить. Но то, что происходит с Евой, очень плохо. Потому что дальше им, возможно, придётся идти вдвоём. Некоторую часть пути они будут одни. Еве предстояло позаботиться не только о себе, но и о Фёдоре. Хардов уже понял это. И она не имеет права на ошибку. Хардов должен не только дать ей окончательные инструкции, он обязан достучаться. Возможно, сейчас всё будет поставлено на Еву. Хардов не знал, сколько продлится их передышка. И может ли он позволить себе такую роскошь, как эмоциональное сопереживание. Но он решил попробовать.
Только что ему пришлось немного свернуть, чтобы обойти небольшой контруклон, и внизу, у самого тракта открылись развалины сгоревшего здания. Когда-то, ещё до падения Икши, там находился тот ещё постоялый двор со странным названием «Мотель Норд», и в нём самый пропащий трактир на канале. Каких только головорезов, искателей приключений и прочих подозрительных личностей он не собирал под своей крышей. Славные были деньки. Здесь, у шестого шлюза проходила граница, форпост; все полагали, что главная угроза исходит из Пустых земель, а беда явилась, откуда никто не ждал. Её привёл туман. Теперь «Мотель Норд» чернел своим обугленным скелетом, зато сразу за ним было спасение.
«Совсем близко», — подумал Хардов. Только предостерёг себя от излишних иллюзий. Потому что прямо в обугленных развалинах заметил быстрое хоронящееся движение. Если какая-то тварь из болота, ничего, но если оборотень…
— Ева, — позвал Хардов.
Она вздрогнула. Хардов постарался, чтобы его голос звучал как можно мягче:
— Ева, милая…
Она вжала голову в плечи, и её подбородок как-то мелко затрясся; потом черты её лица застыли, она отвернулась, словно всё более отгораживаясь непроницаемым барьером.
Но её хватка, поддерживающая Фёдора, не ослабла.
«Плохо дело», — мелькнуло в голове у Хардова. Она не услышит его, и когда ему придётся уйти, окажется беспомощной. Конечно, он уйдёт лишь в крайнем случае, и надежда ещё остаётся, только этот назойливый холодок в спине оставляет ей всё меньше места.
«Погоня уже началась? А я ничего не знаю?»
Всё же Хардов продолжил:
— Мне надо сообщить тебе кое-что важное. Послушай меня, девочка моя. Слушай внимательно. Вы не интересуете оборотней, ни ты, ни Фёдор. Им нужен я. И может случиться, что единственным выходом…
Он дал ей все инструкции. Изложил их сухо и чётко. Только это были лишь слова. Она его не слышала, отдалялась, уходила всё дальше. А Хардов обязан пробиться, время на исходе. И тогда он понял, что не стоит спешить. И заговорил о другом, лишь цепкий внимательный взгляд всё более настороженно оглядывал окрестности.
— Ева… — Он мягко задумчиво улыбнулся, словно ему предстояло поделиться приятными воспоминаниями, да так оно и было. — Когда-то в Дубне давным-давно, больше пятнадцати лет уже… В тот день мы выводили группу учёных с Реактора на другой стороне. И угодили в засаду. На нас напали в тумане возле плотины. Мне здорово досталось, думали, не выживу. Меня принесли в дом друзей Тихона. Потом он стал и моим домом, пристанищем в моей скитальческой жизни. Была весна, и когда я впервые открыл глаза, увидел очень много света. А второе, что я увидел, была маленькая девочка, совсем кроха, даже слова ещё путала, забавно коверкая буквы. Она посмотрела на меня внимательно и даже строго и спросила: «Ты что, подрался с медведем?» Я удивился, хотел сказать, что такого не бывает, если только на ярмарочных представлениях. Только потом понял, что она ухватила самую суть того, что со мной произошло. Медведя можно бояться, можно приручить или обложить и застрелить на охоте. Но с ним невозможно подраться. Только она оказалась права, и мне уже было не так страшно.
Ева его не слушала. А Хардов теперь уже знал наверняка, что увидел в обугленных развалинах. Это был оборотень. Возможно, разведчик, лазутчик, первая ласточка… Но продолжал спокойно рассказывать:
— Выражение оказалось настолько точным, что, скажу по секрету, гиды даже иногда им пользовались, не зная, откуда оно взялось. Это когда кто-то попал в переделку, что вроде бы хуже некуда… Да, жизнь порой заставляет нас подраться с медведем. И тогда ты можешь либо сдаться и погибнуть. Либо выстоять и навалять ему хороших тумаков. По мне тогда словно катком прошлись, и всё у меня внутри будто исчезло, умерло… Думал, конец, не оправлюсь уже. Да и мне было всё равно. Я очень многое потерял, в том числе и смысл барахтаться дальше. Я спокойно ждал конца… Только девчушка со своим медведем… — Хардов усмехнулся. — Она с тех пор выросла и стала красавицей. А мне ещё не раз пришлось подраться с медведем. Но теперь я оставлял только тумаки.
Хардов вздохнул:
— Сегодня ты встретилась со своим первым медведем, Ева. И здорово наваляла ему. Я горжусь тобой. Ты спасла нас всех, а что может быть ценнее?.. Но на то он и медведь, чтобы прилично нас намять. Только ранки затянутся и даже зудеть перестанут. Первый — он самый главный и самый сильный, потом намного проще. Но я хотел рассказать тебе не об этом…
Хардов теперь знал, что это была не просто «первая ласточка», оборотни не просто следили. Они подошли очень близко. Совсем. Они крались рядом, преследовали их группами и молча. Они ждали, когда Королева снова поднимется и обретёт силы. И тогда они сразу нападут. А Ева всё ещё не слышит его…
— Вообще-то хотел рассказать другое. — Хардов снова безмятежно улыбнулся, словно позволил себе самое светлое воспоминание. — Эта маленькая девчушка, я тебе говорил, оказалась очень славной. Наверное, ей было три года или четыре… «Да, — ответил я на её вопрос, желая подыграть ей. — Ты права, я подрался с медведем». Она поджала губы, всё ещё строго глядя на меня. И я понял, что, сам того не желая, напугал малышку. «Я ему задам!» — пригрозила она пальчиком. Но стала всё чаще спрашивать, не придёт ли за ней этот медведь ночью? Ведь даже если ты, такой большой и сильный, и то тебе досталось, а она ещё совсем маленькая… И тогда я решил рассказать ей про добрых медведей. И знаешь как? Я сочинил для неё песню. Колыбельную. Как только пошёл на поправку, так и сочинил.
Оборотни показались внезапно. Они больше не прятались. Несколько тварей устремились к развалинам, где таился лазутчик, перекрывая им путь к тракту. Вот каких ты теперь принимаешь постояльцев, «Мотель Норд»…
— Я спел ей песню про добрых медведей, которые охраняют её сон. И всегда будут охранять. И она больше не боялась, Ева.
Эта дымка слева теперь не была пустой. Крупная светловолосая тварь, женщина, передвигающаяся на четырёх мощных конечностях, вынырнула, совершила несколько прыжков и снова скрылась в ней. А где-то в оставленном за спиной городе нарастал лающий хор голосов, ликующее завывание. Словно дикари из детских книжек готовились к нападению. Хардов оглянулся и понял, что не ошибся. Успел подумать: «Как жаль. Тракт был совсем рядом».
Он не ошибся. Королева восстановила силы. Погоня началась.
— Да, пел ей колыбельную…
Оборотни у «Мотеля Норд», хищно скалясь, опасливо двинулись на них.
— …и она больше никогда не боялась. Не надо бояться.
Хардов снял оружие с предохранителя и затем сделал то, чего никогда никто от него не ждал. Он запел.
35
Когда до тумана оставалось несколько шагов, Раз-Два-Сникерс извлекла ракетницу из пазуха поясного ремня. Туман полз клином, в острие которого тёмным пятном угадывалась фигура Шатуна.
Её руки стали совсем холодными. Но скорее от напряжённой сосредоточенности. Она ждала. Страх, наверное, достиг такой иррациональной величины, что перестал ощущаться.
Она заставила себя действовать. Быстро отступила в проулок, ведущий вверх по склону, обратно в звонницу. Клин, не останавливаясь, полз мимо. Взгляд Шатуна равнодушно скользнул по ней и устремился вперёд, вслед за беглецами. Её не тронули. Но вовсе не из милосердия. Она поняла это. И уж тем более не из-за остатков сантиментов. Она просто больше не представляла интереса, как букашка, случайно оказавшаяся на дороге, но если сама не уберётся, то в тумане будет кому с ней разобраться.
— Эй! Я не заслужила такого безразличия! — с внезапным возмущением громко выкрикнула она. В других, нормальных обстоятельствах, обида на невнимание показалась бы ей дикостью. — Не хочешь хотя бы поздороваться?
Она услышала свой собственный нервный смешок и поняла, что время игр кончилось. Всё же она сказала:
— А ведь я могу остановить тебя.
Туман так и двигался дальше, но фигура тёмным пятном заскользила по стенке клина и, колышась, повисла над ней. Очертания тела куда-то пропали, но голова, лицо сразу увеличились. В дымных, лишённых выражения глазах Шатуна плескались багряные отсветы.
Она показала ему ракетницу:
— Знаешь, что это такое?
Взгляд Шатуна оставался непроницаемым, но голова угрожающе накренилась. Раз-Два-Сникерс отступила на шаг и тут же увесисто покачала ракетницей в руке.
— Это сигнал. Я заминировала дверь в «Комсомольской», где ты сидишь. А это сигнал.
В глазах Шатуна наконец блеснуло выражение недоуменной задумчивости, словно он не знал языка, на котором она говорит, да и вообще не понимал, кто она такая.
Раз-Два-Сникерс сделала ещё пару шагов назад. С трудом удерживая себя, чтобы не развернуться и уже бежать без оглядки. Укрыться в звоннице и забиться там в угол, пока её не спасут. Ведь Хардов обещал… Но она взяла себя в руки. Её дело ещё не окончено.
Голова покачнулась, но осталась на месте.
— Такая вот неожиданность, — сказала Раз-Два-Сникерс насмешливо. По крайней мере, ей хотелось бы говорить насмешливо, хотя всё внутри неё онемело. — Достаточно мне сделать выстрел, и по сигналу ракеты дверь будет немедленно взорвана. И всё! Конец. Я же сказала, что неожиданно… Но мы могли бы договориться.
Мыслительная работа продолжалась пару секунд. На протяжении которых в глаза вернулось человеческое выражение. Человек, который ещё полностью не исчез, не до конца растворился в этом дымном призраке, был озадачен. Потом всё стало чередоваться. В глазах промелькнули понимание, страх, раздражение, гнев… А затем эти багряные отсветы заставили глаза налиться хищной беспощадностью зверя. Туман остановился, хотя и с трудом, словно кто-то заставлял Шатуна двигаться только вперёд, вслед за беглецами. Шатун, накренив голову, как бы стараясь вырваться из окутывающего его тумана, чтобы устранить угрозу, двинулся на Раз-Два-Сникерс.
— Что, малыш, у вас с твоими новыми приятелями, оказывается, разные цели? — и теперь её презрительная усмешка вышла действительно настоящей.
Туман ещё сопротивлялся, но затем, изменив направление, быстро пополз к ней. Голова Шатуна опять чудовищно трансформировалась, шея вытянулась, и жалящий ужас ледяными пальцами потянулся к горлу Раз-Два-Сникерс. Потому что на короткое мгновение ей показалось, что она видела перед собой голову змеи. И чем-то чудовищно-притягательным полоснуло из её глаз…
— А вот теперь беги! — сказала себе Раз-Два-Сникерс.
* * *
(Мы теперь свободны. Тебя не тронем. Не бойся. Только не делай больше нам больно. Мы заберём мужчину и уйдём. Иначе убьём всех.)
Ева молчала. Она хотела, чтобы эти голоса оставили её в покое. Она хотела забыться и не слышать больше ничего. И не испытывать ничего. Даже боль прошла, она хотела только неподвижного покоя. Ещё, словно эхом от той Евы, что могла чувствовать, пришёл тупой укол ненависти к себе, но это, видимо, была последняя сколько-нибудь сильная эмоция. Дальше пришло полное безразличие, ровное и белое, как кафельная поверхность. Высохшая пустыня внутри.
(Мы заберём мужчину. Это наша драгоценная ноша. А ты со своей ношей можешь уходить.)
Ева молчала. У неё нет никакой ноши. Все эти слова обозначали что-то неявное, потеряли смысл. Когда всё теряет смысл, остаётся чудесный спасительный покой.
(Мы заберём своё — силу. Наша ноша. А ты своё. Только не делай больно.)
Больно? Да, наверное, она что-то помнит такое. Но в покое нет боли.
Она вдруг услышала, что ей мешают. Какие-то слова стучатся в кафельную плитку покоя. Хардов что-то говорил ей, но ведь она не понимает неявное выцветшее значение слов. Нет, наверное, всё-таки понимает. Только ей безразлично. Он говорит, что должен куда-то уйти, только ей всё равно. Куда-то уйти, и она останется одна со своей ношей. Но что это они все заладили про ношу?
Безразлично…
Только слова становятся назойливыми и растягиваются. И лезут. Они лезут к ней, кроша кафельную поверхность, и от этого ей нехорошо, какая-то тяжесть… Она не хочет этих назойливых, растянутых слов, потому что они могут вернуть боль.
Это не слова. Это песня.
Хардов поёт? Зачем?! И откуда он знает об этом? Этой песни нет на самом деле. Она её выдумала. А потом забыла. Куда её тянет эта забытая несуществующая песня? В то место, куда-то далеко-далеко, где всё осталось по-прежнему? Но этого места тоже больше нет. Как и песни.
И кто пел её? Чей это был голос, охранявший границы детства, успокаивая, обещая защитить от боли и чудовищ? Ей потом больше никогда не пели этой песни. И она решила, что это выдумка, детская грёза типа невидимого друга. Она забыла. Ева давно забыла эту песню, и та не подстерегала её даже на тропинках её снов. И песня исчезла. Как уходят все выдуманные друзья.
Так зачем?!.. Это нехорошо. Жестоко.
Что-то проникло в дальнюю-дальнюю кладовую памяти, от которой и ключ-то был давно утерян. Проникло, разворошило. И извлекло на свет то, что, оказывается, действительно существовало. Ева её услышала, эту песню. Стало горько. Невыносимо. Ей захотелось закрыться, но эта горечь колыхнулась, готовая перелиться через край. И в этом обступившем тяжестью мутном трепете было столько боли и столько света, нежного, от которого можно задохнуться, что Ева не выдержала.
И в высохшую пустыню упала первая капля влаги.
* * *
— Хардов…
Она не сразу смогла говорить. Разлепила губы. Высохшая пустыня.
— Хардов, это были вы? — прошептала Ева.
Хардов замолчал. Его лицо было совсем близко.
— Вы мне пели?..
Он еле заметно кивнул.
— Значит, это правда? Я думала…
— Ты была совсем маленькая.
Нижняя губа у неё вдруг задрожала, и такая же трепещущая влага поплыла перед глазами.
— Ева, нет, — ласково попросил Хардов. — Не сейчас. Вам надо уходить.
Она слабо и непонимающе улыбнулась.
Очень бережно, деликатно и в то же время твёрдо Хардов высвободил руку, поддерживающую Фёдора, чуть отстранился от них, словно обозначив, что теперь их пути расходятся. Ева покачнулась, изумлённо глядя на Хардова, и тут же, ощутив тяжесть, крепче ухватила Фёдора.
— Ева, милая, тебе сейчас придётся позаботиться о вас обоих. — Хардов пристально посмотрел на неё. — Я должен знать, что ты справишься.
Она дёрнула головой. Но из горла вышел только хриплый шёпот:
— Прошу вас…
Затем она оглянулась. Ещё крепче обняла Фёдора. И всё поняла. Она увидела, что творится вокруг, и поняла всё, что ей говорил Хардов. Почему, для чего он должен уйти. Тут же почувствовала, что у неё как-то болезненно затвердели мышцы лица.
— Нет, — выдохнула она.
— Оборотни сейчас нападут. Но им нужен я, не вы. — Хардов поднёс к губам своё украшение, то, что называл «манком». Поцеловал его, потом быстрым движением снял и повесил Фёдору на шею:
— Он поймёт. Вспомнит.
Глаза Евы расширились:
— Нет, Хардов, не смейте!
— Ева, слушай. — Хардов скосил взгляд. Оборотни, что сжимали кольцо от «Мотеля Норд», преодолели уже половину разделяющего их пути. — Я уведу их. Шлюз совсем рядом. Идите.
— Не-е-е-т…
— У нас нет другого выхода! Смотри, — Хардов указал ей на ближайших оборотней. — А из города бежит ещё целая стая. Счёт на минуты, если не секунды. Пожалуйста, иди.
Она затрясла головой:
— Я не могу так… Прошу. Не так…
— Ева! — В его голосе прозвучала сталь.
— Нет, прошу вас. Я больше не могу! Не могу… прощаться.
Хардов, смягчаясь, подошёл к ней, дотронулся до щеки, проговорил нежно:
— Ева, милая, на тебя вся моя надежда.
— Не-е-ет. — Она всё ещё мелко трясла головой. — Я не выдержу… — И вдруг закричала: — Фёдор, он хочет уходить! Очнись, Фёдор. Он уходит!
— Ева…
Но она не желала слушать. Как-то странно развернув Фёдора, она внезапно шагнула к приближающимся оборотням.
— Вы не хотели больно, да?! — заорала она на них. — А я могу! Я могу очень больно. Фёдор, очнись! Фёдор, услышь моё сердце…
От неожиданности оборотни остановились. Начали топтаться на месте, злобно скалясь. Некоторые заходили кругами, как собаки, чью ярость сдерживает длинная привязь. Потом осторожно всё же двинулись вперёд.
— Не верите?! — кричала Ева. — Хотите больно? Очнись, Фёдор. Услышь… Услышь меня, Фёдор!
— Ева, что ты делаешь? — изумлённо произнёс Хардов. — Он не сможет.
И тут, словно подтверждая его слова, Фёдор с трудом приподнял голову, прохрипел:
— Хардов, не уходи…
И голова его безвольно повисла.
— Ева, это убьёт его. Да и ты тоже… Идите.
— Ну пусть услышит… — Мольба захлебнулась в горле Евы. — Ну как же…
Фёдор снова поднял голову, посмотрел на Хардова тусклым взглядом. И тогда Хардов позволил себе ещё одну прощальную улыбку для них обоих:
— Это не конец. Я знаю, что это так. — Передёрнул затвор, досылая серебряную пулю в патронник, услышал, что Ева начинает рыдать, и понял, что его время закончилось. И всё же он ещё миг смотрел на Еву и на Фёдора, словно любуясь ими, желая их запомнить, а потом указал стволом в направлении шлюза № 6. — Идите, и тогда мы ничего не потеряем. Идите!
* * *
Раз-Два-Сникерс вбежала в церковь, не оглядываясь, и устремилась к лестнице. Труп подстреленного оборотня преграждал путь наверх, о другой она споткнулась и чуть не упала, ей с трудом удалось сохранить равновесие. «Тут бойня, — мелькнуло у неё в голове, — и эту бойню учинили мы».
Винтовой подъём показался ей бесконечным, хотя она преодолела его в два присеста, буквально впрыгнула в звонницу и тут же перекинула за собой люк. Закрывая эту деревянную дверь, Хардов попросил у неё помощи, но она даже не почувствовала тяжести. Защёлкнула дужку замка, скрипнула зубами. Сердце бешено колотилось. Взгляд приковало к себе отверстие, что выскребли при помощи когтей и зубов оборотни. Над ним веяла тонкая дымная струйка. И оно затягивалось всё больше. Туман действительно наступал ей на пятки, и она увидела, как туман вдруг повалил из этого отверстия, заполняя всю звонницу, двинулся к ней… Она снова заскрипела зубами. Ничего такого не было. Это видение. От страха, перенапряжения и усталости.
«Держи себя в руках», — сказала она себе. Туман выполз на деревянную поверхность люка, но дальше двинуться не сумел. В нём мелькнуло что-то, похожее на скользкое тело червя или тошнотворно-чёрное щупальце, и тут же убралось обратно в отверстие.
— Значит, ты всё-таки не можешь выше? — произнесла она каким-то пустым, механическим голосом, обращаясь то ли к Шатуну, то ли ко мгле. Неожиданно остро почувствовала, что это теперь одно и то же.
«Мгла приходит, чтобы получить нас, — мелькнула отчаянная мысль. — И Шатуна она уже получила. Так или иначе, получит всех».
Раз-Два-Сникерс тряхнула головой. Сделала пару глубоких вдохов. Если потребуется, она сделает больше. Сначала эти видения, потом дурацкие мысли… туман действительно не преминёт воспользоваться нашими уязвимыми местами, но она не позволит копаться в своей голове. Она всё-таки гид, чего бы там ни говорил Хардов. И если потребуется, она готова сделать целую дыхательную гимнастику. Если потребуется.
— Не надо играть со мной, — сказала она ровно. И тут же поняла, что по крайней мере на какое-то время находится в безопасности, поняла, чем была эта попытка манипулировать её психикой.
— Ну что, это всё, на что ты способен? — усмехнулась она презрительно. — Всё, что можешь предложить?!
Хардов…
Раз-Два-Сникерс ещё некоторое время пристально наблюдала за отверстием. Туман над ним бездвижно застыл и вроде бы даже потерял яркость. Она осторожно отошла к проёму звонницы, чтобы выглянуть наружу.
Шатун был там.
Вся площадь перед церковью оказалась затянутой плотным неспокойным туманом. И Шатун, покачиваясь, возвышался над ним, почти вровень со звонницей, как тёмный болезненно-трухлявый гриб. Однако дорога к тракту была сейчас чистой. Ей удалось дать им необходимую передышку. Она видела, как они уходят, тащат Фёдора, по-прежнему обхватив его с двух сторон. Даже пытаются бежать вниз по склону, но медленно, недопустимо медленно…
Шатун смотрел на неё. Его глаза, в которых завихрялись дымы, ухватив, перетянули её, и Раз-Два-Сникерс потребовалось усилие, чтобы отстраниться. Возможно, Хардов прав, возможно, это уже не совсем Шатун, но глаза были живые. Что она в них увидела? Что, кроме настороженности? Был ли короткий миг сожаления, или даже…
— Шатун, — хрипло позвала она. — Ещё не поздно остановиться.
Шатун покачнулся, его взгляд стал пустым. А потом в этих дымах словно разверзлись два бездонных провала. И она услышала холодное, злобное и непререкаемое повеление: «Брось мне ракетницу!»
Раз-Два-Сникерс дёрнула головой, как от оплеухи. В висках сразу же заболело. Она отступила в глубь звонницы. Затем передумала. Вернулась.
— Нет, — сказала она. — Потому что я гид. Я пришла сюда, чтобы понять это. Здесь я поняла, что я гид! Так что выкинь свои дрянные телепатические фокусы. Лучше вспомни, что была Лия. И Хардов. И все остальные. Вспомни, чего ты хотел! Но вряд ли мечтал об этом — стать пустой и злобной куклой. Это твоё всемогущество, Шатун?! Не смеши меня. — Она подняла ракетницу. — И я сделаю это. Потому что лучше так, чем то, что с тобой происходит.
Какое-то время в глазах Шатуна плескалась лишь настороженность. А затем она услышала вой. И поняла, что происходит. Сверху ей открывался прекрасный обзор. Весь прежде застывший в неподвижности город словно ожил. Только он напоминал поражённый болезнью, разворошенный муравейник. Рассеянные по всей территории, бежавшие в панике оборотни повыползали из своих укрытий. И все они начали движение. Всё ещё держась в тени, перебегая от одного островка жиденького тумана к другому, они двигались в сторону склона, по которому спускались три человеческие фигурки. Раз-Два-Сникерс увидела, что несколько оборотней пытаются перекрыть Хардову дорогу к тракту, и неожиданно услышала свой собственный голос:
— Хардов, что ты делаешь? Зачем вы остановились?
Вой нарастал и нёсся уже со всех сторон. Оборотни очухались. Королева вновь обрела силу. Раз-Два-Сникерс смотрела на пугающе ожившую Икшу и, повторяя слова Хардова, жёстко выдавила из себя:
— Проклятый муравейник.
И почувствовала, как её наполняет тупое отчаяние. Потому что большая группа тварей, целая стая, прежде укрытая туманом, наконец решилась показать себя. Выступила на край площади и с завывающим улюлюканьем, не разбирая дороги, бросилась прямо по склону вслед за беглецами.
Контур вышел на охоту.
Шатун покачнулся. Она тут же увидела, каким злорадством засветились его глаза. Она заставила себя забыть о Шатуне. Лишь крепче обхватила рукоятку ракетницы. «Хардов, бегите, они уже близко…»
Эта стая, наверное, являлась чем-то вроде их гвардии, и, несомненно, Королева находилась там, среди таких же крупных «блондинок». Расстояние между ними и беглецами стремительно сокращалось.
— Ну почему ты стоишь? — снова прошептала она.
И вдруг всё поняла. Их было очень много, этих тварей, сжимающих кольцо. И Раз-Два-Сникерс всё поняла ещё прежде, чем Хардов каким-то непривычным для себя жестом, словно отталкивая от себя Еву, указал ей на Дмитровский тракт. А сам резко развернулся и побежал в сторону. Совсем недавно она сказала ему, что не нужна оборотням столь срочно, как он. Никто не нужен. Хардов бежал в сторону тумана, уводя за собой оборотней. Он уводил беду от Фёдора и Евы, чтобы стая в мстительной ярости не растерзала их.
Непомерная усталость вдруг тяжестью навалилась на плечи. С трудом, но всё же удалось отогнать мысль: «Ну что, Хардов, теперь пришёл твой черёд?» Но она почувствовала, как ей стало холодно.
— Что ж ты стоишь, дурёха? — протянула Раз-Два-Сникерс. — Давай, Ева, тащи его… Тащи! Хардов сейчас из-за вас…
Манёвр удался. Стая отклонилась с линии падения склона, сворачивая вслед за Хардовым. Ева наконец начала движение. Потащила Фёдора к Дмитровскому тракту. Она в буквальном смысле тянула его прямо на себе. Путь был свободен.
И Шатун увидел это. Если дымное лицо и могло передавать какую-то мимику, то ею стала озадаченность. Потом его взгляд обратился куда-то внутрь, и Раз-Два-Сникерс опять посетило это неприятное щекочущее ощущение, будто бы он к чему-то прислушивается. Шатун качнулся, теперь уже значительно сильнее, в сторону беглецов, и весь туман на площади двинулся, готовый к перемещению.
— Оставь их в покое! — вдруг громко, зычно и одновременно каким-то низким, будто пустотным голосом произнесла Раз-Два-Сникерс. — Дай им уйти, и будешь спасён.
Шатун дёрнул головой, пытаясь повернуться, преодолевая нечто мешающее, принуждающее его этого не делать. Всё же смог подплыть обратно к звоннице, словно безумная пародия на влюблённого под балконом своей избранницы.
«Вот во что ты превратил нашу жизнь», — мелькнуло в голове у Раз-Два-Сникерс. Но эта мысль тут же растворилась. Этого всего больше не существовало. Она не знала, были ли в глазах Шатуна сожаление, мольба или даже боль, но за мгновение до того, как его взгляд снова сделался пустым, в нём мелькнула самая настоящая паника.
Туман потемнел, заволновался и вот теперь уже сдвинулся окончательно. Пополз вслед за беглецами. Раз-Два-Сникерс опустошённо смотрела, как трухлявый гриб осаживается, пожираемый основной массой, и как всё это снова выстраивается в клин.
И тогда прозвучал первый выстрел. Она не видела вспышки, крыло тумана накрывало город. Но вой на мгновение стих.
«Семь… Ты сказал, что у тебя семь», — подумала Раз-Два-Сникерс. Только тут она поняла, что надо было отдать Хардову все серебряные пули. А ещё поняла, что вряд ли бы это ему помогло.
«Семь. Это была первая».
Туман быстро полз к берегу канала, настигая Фёдора и Еву. Раз-Два-Сникерс осталась считать выстрелы. Она крепко сжимала в руках ракетницу и ждала. Ждала. Лишь повторяла:
— Давай, Ева, беги. Беги!
* * *
— Пожалуйста, Фёдор, миленький, — прошептала Ева. — Мы справимся. Пожалуйста…
По её щекам безостановочно текли слёзы, она этого не знала. Чувствовала, какими слабыми и холодными становятся его руки, и шептала:
— Потерпи… Справимся. Миленький…
Ева шагала вперёд, шаг за шагом. Из обугленных развалин появился некрупный оборотень. Принюхиваясь, следил за ними своими маленькими глазками.
— Прочь! — заорала на него Ева. Но они его и не интересовали. Отвернувшись, он засеменил за основной стаей. Вдалеке ухнул первый выстрел. Оборотень вжал голову в плечи и чуть свернул. Сейчас он напоминал побитого пса.
— Прочь… — Ева зарыдала в голос. Ухватив Фёдора за плечи, быстро обернулась. По всему склону тёмной густеющей массой полз туман. Он уже миновал то место, где они расстались с Хардовым. Ева двинулась вперёд.
Следующий выстрел ухнул глуше и дальше.
Ева всхлипнула, ещё крепче вцепившись в Фёдора.
Спи, малышка, ночь чиста,
Ведь добрый медведь не спит.
Поваленные сгнившие стволы деревьев пришлось обходить. Ева повернулась и увидела, что туман совсем близко. Она решила больше не оборачиваться.
Третий выстрел прозвучал где-то совсем далеко. Ева рыдала в голос и поняла, что считает выстрелы.
И твои соседи, добрые медведи,
Будут всегда стеречь тебя,
Будут всегда любить тебя,
Спи же, малышка, — ночь чиста.
Хардов что-то сделал с ней. Он спас её, как спасал всегда. Он спасал их сейчас, но… Даже если туман сейчас пожрёт их, она больше уже ничего не боится. Он вытащил её из кошмарной высохшей пустыни, где она чуть не оказалась. Спас. И она поняла, что на это способно лишь огромное любящее сердце, и поняла, как она любит это сердце, сердце её доброго медведя. Перед тем как уйти, он вернул ей себя. И это самое дорогое, что она несёт сейчас на руках… Она спасёт его. Будет идти вперёд, пока достанет сил. Как она могла не верить, как могла бояться, когда вокруг столько любви? Это самое дорогое, с кем у неё был миг, который, возможно, больше никогда не вернётся. Но только она его спасёт. И если он захочет в ужасе отказаться от неё, она это поймёт. Она это примет. Но она его спасёт…
Ева вдруг обнаружила, что они уже переходят тракт. Попыталась чуть разогнуться и поняла, что всё это время спина неимоверно болела. Ноги почти не слушались. Но она пошла вперёд ещё быстрее. И почувствовала, что рука Фёдора ожила. Её сердце застучало быстрее. Фёдор слабо сжал её плечо, попытался поднять голову, прохрипел:
— Где Хардов?
Холодная тень дохнула в спину, мгла подползла к тракту. Ева не стала оборачиваться. Лишь переместила руку, взяла Фёдора за ладонь, сжала пальцы. И беззвучно рыдая, всё же смогла улыбнуться ему:
— Всё хорошо, Фёдор.
Он поднял взгляд, успел прошептать:
— Где?.. Туман поглотил его?
Ева покачала головой:
— Справимся…
«Будут всегда стеречь тебя».
* * *
Когда прозвучал седьмой выстрел, пришли мгновения страшной тишины. А потом голоса оборотней переросли в торжествующее улюлюканье. Вой наполнился ликованием. Охота контура закончилась.
— Хардов, — прошептала Раз-Два-Сникерс.
Что-то непостижимо печальное сдавило ей грудь. Она не стала думать о том, что оборвалась ещё одна ниточка, связывающая её с Лией. Она чувствовала что-то совсем другое: сейчас, в эту самую минуту, от неё отняли часть, отняли огромную невосполнимую часть того, что, оказывается, было её… контуром.
— Хардов, как же так?.. — Ей нечем себя успокаивать. Нечем, кроме того, что она гид. И у неё оставалось в этом проклятом городе одно небольшое дело.
Ева с Фёдором только что перешли Дмитровский тракт. Вот и пришёл срок. Было пора. Она выдержала. Дала им уйти достаточно далеко. Туман полз и снова накрыл почти весь город. Но даже дети знают, что «почти» не в счёт.
Раз-Два-Сникерс подняла ракетницу высоко над головой.
— Ну, Волнорез, не подведи, — проговорила хмуро. И вдруг улыбнулась. И увидела, что небо в этот страшный день, оказывается, необычайной синевы. Той, прежней Раз-Два-Сникерс больше не существовало.
Ракета взлетела высоко, прорезая в этом синем небе большую дугу, падающую в сторону канала. Колюня-Волнорез не спал. Не подвёл. Тут же взлетела вторая сигнальная ракета. Потом следующая. И совсем вдалеке — ещё. Раз-Два-Сникерс не особо-то рассчитывала на ненадёжную телефонную связь. Поэтому расставила «своих мальчиков» от линии застав вдоль всего канала вплоть до «Комсомольской». Так надёжней. И когда тёмную массу мглы в острие клина стали наполнять сжирающие её изнутри огненные языки, она убедилась, что и Фома тоже не спал.
— Как ярко, — произнесла чуть ошеломлённо. Словно прощальным приветом мелькнула мысль: «Зря ты, Шатун, меня не послушал»; но она не стала произносить это вслух.
Отсветы пламени ещё играли в холодных глазах Раз-Два-Сникерс, когда сделалось очевидным, что всё сработало. Туман встал. Замер. Пусть, вероятно, и ненадолго, но прямо сейчас он будто выцветал, теряя колорит, становился пустым, безжизненным.
Ева обернулась, возможно, чтобы убедиться, что погоня на время прервалась, а возможно — бросить прощальный взгляд на колокольню. А потом, перехватив Фёдора поудобней, двинулась дальше. К шестому шлюзу, за которым для них было спасение.
Раз-Два-Сникерс отогнала лёгкое облачко печали, повисшее над ней, развеяла, затрясла головой. «Я не буду грустить, — мысленно обратилась она неизвестно к кому. — Обещаю… Я даже постараюсь выжить».
Страх и опустошение, наверное, были совсем рядом. Но сейчас их оттеснило какое-то другое, гораздо более сильное чувство.
— Давай, Ева, тащи, — произнесла Раз-Два-Сникерс. — Не подведи! Не подведи… Хардова.
Она замолчала. И вдруг поняла, что должна закончить эту фразу по-другому. Что теперь имеет на это право. Она улыбнулась и прошептала:
— Не подведи нас.
Глава 17
Дар скремлина
1
Фёдор стоял на берегу Икшинского водохранилища и смотрел, как лодка увозит от него Еву. Внутри была тишина, которая накрыла тонкой вуалью огромную скорбь, разрывающее отчаяние. Рядом стоял Тихон, но и его обволакивала эта тишина, когда что-то кончилось, и неизвестно, сможешь ли ты создать что-либо заново.
Фёдор помнил её прощальный взгляд, который он теперь никогда не забудет; сколько всего она сумела сказать ему за одну секунду… А потом сразу ушла, позволила себя увести в приготовленную для неё каюту. И скольким он не ответил. Потому что знал, что не выдержит. И станет ещё хуже, больнее. Он только что нашёл её и тут же потерял. Он только обрёл Хардова… и потерял. Скорбь шевельнулась в нём, готовая впиться своими беспощадными или милосердными пальцами в его сердце. Этот юноша из Дубны хотел реветь. Но он не мог позволить себе даже этого.
— Ещё не поздно передумать, — мягко сказал Тихон. Фёдор отрицательно покачал головой.
— Нет, я вернусь за ним. Я обещал.
— Тео, твоё место пока не здесь. Мы позаботимся о… Хардове.
— Не зовите меня больше так, — попросил он. — Фёдор. Так лучше.
Тихон кивнул:
— Я просто пытаюсь помочь.
— Я знаю.
* * *
Фёдор не до конца помнил, как Ева дотащила его. Помнил только, как его подхватили чьи-то сильные руки, и были голоса, и чьи-то рыдания, и кто-то тряс его:
— Что с Хардовым, Фёдор, где Хардов?
Но он только прохрипел:
— Его поглотил туман.
Он помнил, как уже далеко за шестым шлюзом стал приходить в себя, и вокруг было множество незнакомых людей, которых он начал смутно вспоминать. Им навстречу вышел эвакуационный отряд, только Хардова поглотил туман. Он помнил, как сиротливо и холодно стало в груди, когда хардовский манок, что гид успел повесить ему на шею, потемнел и распался на две части. И как Ева поняла, что это значит, и как она разрыдалась. Помнил, как побледнела Рыжая Анна и как отвернулась от него. Было ли обвинение в её красивых глазах? Наверное, нет. Только он этого никогда не узнает. Помнил, как какой-то очень древний старец, но всё ещё не утративший благородной осанки, бросился к нему, припал на колено, радостно ухватил за руку:
— Учитель! Учитель, вы узнаёте меня?..
Фёдор не мог больше этого выносить. Они все радовались его возвращению. И она, и все скорбели по Хардову.
— Это Петропавел, — чуть слышно подсказал Тихон, указывая на старца. — Твой первый последователь, первый ученик. Глава ордена гидов той стороны.
— Петропавел? — бездумно повторил Фёдор.
— Ты сам так его прозвал. — Тихон печально улыбнулся. — За излишнее рвение.
Фёдор больше не мог. Он хотел, чтобы этого всего не было. Он хотел оставаться этим юношей из Дубны. Тот хотя бы мог позволить себе плакать.
— Фёдор, ты ничем ему сейчас не поможешь. — Голос Тихона был таким же тихим, как и его имя, таким же, как плеск за кормой лодки, увозившей от него Еву. — Нас ждёт очень много дел на канале. И ты необходим. Но… не сейчас, Фёдор. Мы найдём его. Мы позаботимся о Хардове. Мы воздадим ему… — Голос Тихона не дрогнул, нет, просто что-то в нём упало, — последние почести. Твоё место сейчас на лодке.
— Я не знаю, где моё место, — сказал Фёдор. — И дело не в почестях.
Фёдор подумал, что несколько человек всё же обвиняют его. Может, и сами пока этого не знают. Только это будет расти. Не все готовы платить любую цену за его возвращение. Рыжая Анна и Ваня-Подарок среди них. И… Ева. И за это он любил её ещё больше. Быть может, он её больше не увидит. Но уйди он сейчас с ней, она никогда бы ему этого не простила. Ничего не построишь на костях тех, кого любишь. И вопрос не в долге. Вопрос…
Отчаяние вдруг непереносимой горечью наполнило его, ухватило за горло. И так захотелось расплакаться. Ведь мужское сердце тоже имеет право на скорбь. И на слёзы. И тогда ему станет легче. Хоть чуть-чуть. Но глаза оставались сухими. Не станет ему легче.
— Что там? — спросил Фёдор, указывая на водную даль впереди.
— Место, где кончаются иллюзии, — тут же отозвался Тихон. — Ты должен туда добраться.
— Да, наверное.
— Фёдор, он очень любил тебя. И… очень ждал твоего возвращения. Очень. И… — Голос Тихона наконец-то дрогнул. — Фёдор, он не погиб напрасно.
Фёдор промолчал. Он не знал, что ему отвечать. Никто не гибнет напрасно. Но разве от этого легче?
Стало зябко. Голос Тихона показался больным:
— Ты должен довести всё до конца. Иначе…
— Знаю.
Они все скорбели по Хардову. И все радовались его возвращению. Только всё больше вокруг него образовывалась какая-то пустота. Отчуждение. Действительно, не все оказались готовы платить за его возвращение любую цену. Он оказался один, на ледяной вершине, куда не стремился, и это было непереносимо. Неправильно. Он что-то сделал не так. Эта пустота вокруг… Он терял что-то самое важное, то, ради чего когда-то всё и началось.
То, ради чего гиды готовы были жить и были готовы умирать.
Отчаяние стало бесконечным. И плач Мунира, который кружил над ними, плач ворона, обезумевшего от горя, потому что он потерял половину своего сердца, и был тем самым обвинением, которого никто не высказал прямо.
— Фёдор, надо возвращаться на канал. Это плохое место.
— Возвращайтесь.
— Мы не можем оставить тебя одного. — Хрипотца предательски прокралась в голос Тихона. — Уже поздно, ему не помочь.
Рыжая Анна стояла здесь же, на берегу, провожая лодку.
И хоть Тихон говорил чуть слышно, при его последних словах она вздрогнула, отвернула голову. Чтобы никто не видел, как из её красивых глаз потекли слёзы.
И плач Мунира в вышине…
А потом раздался пустотно-металлический лязг на верхней голове шлюза № 6. Внезапно заработали двигатели, медленно опуская ворота под воду. Взгляд Тихона потемнел. Гиды взялись за оружие, но Фёдор знал, что сейчас нет никакой опасности.
«Наверное, Тёмными шлюзами действительно управляют демоны машин», — равнодушно подумал он. Но оказался прав лишь отчасти. Двигатели стихли. Послышалось какое-то нарастающее тарахтение. Из шлюза появилась надувная полицейская лодка. Её команда состояла всего из одного человека, да и тот сейчас не особо управлял её движением. На месте моториста восседал Трофим и, уставившись в одну точку, счастливо улыбался. С уголка рта свисала капелька слюны. Лодка двигалась неверными дугами, грозя врезаться в берег. Все провожали её изумлёнными взглядами.
— Что с ним случилось? — сказал Тихон.
— Думаю, побеседовал с Морячкой, — отозвался Ваня-Подарок. — По-свойски.
Ну вот, они уже пытаются шутить. На поминках всегда пытаются шутить.
— Ясно, — коротко бросил Тихон. Подумал и вдруг добавил: — Ну что ж, у нас появилась вторая лодка. Заберите его кто-нибудь.
Фёдор как-то странно повернул голову, посмотрел на Тихона. Что-то очень важное было в его словах, важное и ускользающее. Что? Фёдор заморгал, он утерял этот короткий миг… Стало совсем зябко. Он опустил руки в карманы куртки.
Лодка с Евой была теперь далеко. Что-то внутри него ещё потянулось за ней, потянулось и… оборвалось. Горечь внутри шевельнулась и застыла, стала чем-то твёрдым, холодным. Он видел вздрагивающую спину Рыжей Анны, подумал, что, пока Ева была здесь, та не позволяла себе открытых слёз. А может, просто больше не выдержала. Есть время для силы, но есть и время для скорби. Никто не обязан сдерживать слёз. Никто, кроме него.
Внезапно ему жгуче, до удушья захотелось найти слова утешения для Анны, но примет ли их она? Вправе он утешать Анну? И вправе ли утешать себя? Фёдор лишь смог издать беззвучный стон, чтобы отогнать удушье. Он не подозревал, что отчаяние может быть настолько безнадёжным.
А потом что-то нежное дотронулось до кончиков его пальцев. В правом кармане. Фёдор не понимал, как это, но ощущение было именно таким — нежность. Его пальцы нащупали что-то, упрятанное в куртке. И тут же этот хрупкий импульс повторился, и тиски, сжимающие сердце, чуть ослабили хватку.
Фёдор обескураженно опустил взгляд на собственный карман: что происходит? Рука вдруг наполнилась силой, он сжал нечто, какую-то ткань, а в ней…
Фёдор быстро извлёк то, что находилось в кармане, посмотрел на свою ладонь. Его глаза расширились — этого предмета там прежде не было. И… он был там! Мешочек с вышитой серебром буквой «С»…
(Хардов поведёт тебя в места, где безумие подкрадётся совсем близко…)
Фёдор сумел сглотнуть то, что застряло в горле.
(Доверься Хардову…)
Вот чем была эта хрупкая нежность — далёкий, чистый, как радостное журчание ручейка, голос Сестры.
(И если станет совсем невмоготу, доверься собственному сердцу.)
Пальцы Фёдора трепетно задрожали. Он начал открывать мешочек. И уже знал, что там найдёт.
Это была серебряная монета.
Серебряная монета лежала у Фёдора в руке, и она сияла, как пойманная ладонью капелька солнца.
(Это мой подарок. Убери его подальше и забудь о нём. Когда придёт срок, он сам тебя найдёт.)
— Срок пришёл, — монотонно прошептал Фёдор.
(Доверься Хардову…)
(Доверься своему сердцу)
Эти тиски разжались ещё, и сердце тут же благодарно отозвалось, забилось сильнее. Фёдор поднял обескураженный взгляд, посмотрел на Тихона. Теперь ему стал ясен смысл прощальных слов Сестры, эти слова открылись для него полностью. Он тогда не расслышал последнего слова, но это было «тебя». «Фёдор, мой мальчик, верни мне его, как я когда-то вернула… тебя», — вот что она ему тогда сказала. И значит… Он услышал, как с его собственных губ сорвалось тихое, но упрямое:
— Никогда не поздно.
— Фёдор… — Тихон озадаченно смотрел на него.
Он покачал головой.
— Конечно…
— Что с тобой, Фёдор?
Краска вдруг отступила от его лица. Он перевёл потемневший взгляд на монету, что лежала в его ладони. И низким, странно отсутствующим голосом произнёс нечто безумное:
— Много человек я убил?
Теперь лицо Тихона потяжелело. Застыло. Он уже видел, что ему показывает Фёдор. Непонимание, озадаченность переросли в тревогу:
— Откуда у тебя это?..
— Много? — перебил Фёдор. Его взгляд сделался ещё более испытующим.
— Ты не убийца. — Выражение лица Тихона не изменилось. — Но иногда нам приходится защищать себя, своих близких. Или то, что нам дорого.
— Я не об этом. Не о мотивах.
— Да. Ты отнимал жизни.
— Значит, мой долг к Паромщику. — Тень, что упала на лицо Фёдора, отступила. Он вдруг рассмеялся и вспомнил занятия с батей по бухгалтерии. Милый добрый батя. — Значит, мои отношения с ним строятся по графе «Кредит»…
— Что ты такое говоришь?
В ответ Фёдор крепко сжал монету в кулаке. Пристально посмотрел на Тихона. Вот тогда и застывшее лицо старого гида побледнело. Но он тут же взял себя в руки, быстро справился с хрипотцой в голосе:
— Нельзя… Ты понимаешь, что ты задумал?
Фёдор усмехнулся.
— Это… — Оказывается, Тихон совладал с голосом не полностью.
Фёдор ему кивнул:
— Я знаю.
— Фёдор…
— Иногда приходится платить всем, что есть.
Тихон молчал. Но Рыжая Анна теперь смотрела на Фёдора. Отчаяние, неверие в её глазах сменились мольбой, а ещё в них застыл совсем-совсем слабый, еле уловимый проблеск надежды. И этого «совсем-совсем» Фёдору хватило, чтобы улыбнуться Рыжей Анне. Пустоты отчуждения вокруг него больше не было.
2
— Уходите быстрее, — продолжал говорить Фёдор, хотя надувная полицейская лодка на полных оборотах двигалась в направлении шлюза № 6. Он остался на берегу один. — Скорее уходите все! Он уже плывёт сюда.
Фёдор протянул раскрытую ладонь с монетой в сторону канала:
— Уходите. — С другого берега наползала тьма, и она отражалась в глазах Фёдора, стылым дуновением играла на его лице. — Скоро это место станет непригодным для живых.
3
Фигура Паромщика, окутанная бледным мертвенным светом, приближалась. Тьма теперь стояла вокруг, и вода, по которой скользила его лодка, казалась неподвижной, как умершее зеркало. Он был грозен и непреклонен, как тогда у Ступеней, закутан в рубище, но Фёдор видел, что Паромщик не привёз товар для коммерции.
Лодка встала. Паромщик молча смотрел на него.
— Здравствуй, Харон. — Фёдору показалось, что его слова с трудом пробиваются через этот вязкий сумрак.
— Добрая встреча, — прозвучал надтреснутый голос. — Хоть и не первая.
Фёдор медленно покачал головой:
— Не могу сказать, что рад ей.
— Здесь все забывают о радости, — церемонно, но и с еле уловимой насмешкой отозвался Паромщик. — Что ж, молодой гид, теперь ты понял, кто второй скремлин. И кто второй воин.
— Почему ты меня так назвал? Тебе ведь известно, кто я.
Глаза Паромщика горели тёмным огнём:
— Потому что ты сам не знаешь, о чём собрался просить.
— Я пришёл сюда не просить, — возразил Фёдор. Его ладонь так и оставалась раскрытой, и он видел, с какой жадностью Харон пожирал глазами лежащую в ней монету. Фёдор поднял перед собой распавшийся на две части манок Хардова. — Но прежде ответь: ты уже перевёз его на другую сторону?
Повисло молчание, холодное, исполненное тоскливой тяжести. Тогда Фёдор протянул паромщику монету:
— Ты знаешь, что это?
На древнем лице Харона заиграли отсветы. Он неспешно кивнул.
— Ответь словами.
Лицо Паромщика сделалось непроницаемым, лишь сумрак плыл сквозь него.
— Ответь! — потребовал Фёдор.
— Монета-королева, — отозвался Паромщик, в голосе полыхнул жар.
— Верно, — согласился Фёдор. — Поэтому повторяю свой вопрос: ты перевёз его на другую сторону?
— Никому не дано нарушать равновесия. — Теперь голос прозвучал, как далёкое эхо. — Есть законы, через которые не переступить.
— Не рассказывай мне об этом, Харон! — гневно оборвал его Фёдор. — Я дважды вернувшийся воин! И некоторые из этих законов писал я сам. Желаешь проверить?!
Харон молчал. Затем бесцветна произнёс:
— Грозя мне, ты грозишь себе.
— Верно. Поэтому не грожу. Предлагаю коммерцию.
— Нет, пока не перевёз на другую сторону, — быстро сказал Харон. — Это ответ на твой вопрос. Но он уже сидит на берегу, ожидает переправы в сумраке, откуда не возвращаются.
— Значит, не перевёз? — кивнул Фёдор. — Тогда всё, что ты сказал, не имеет значения. Знаешь почему? Это, — Фёдор покачал ладонью с монетой, — перевесит.
Взгляд Харона не смог скрыть жадного нетерпения и снова алчно блеснул.
— Монета-королева, — задумчиво протянул он. И тут же поднял руку, в которой держал весло, и предостерегающе ткнул ею в своего собеседника. — Эта встреча не первая. Но представь, какой будет последняя.
— Я готов попробовать, — сказал Фёдор.
— Готов потерять больше, чем получить? — Глаза Харона исполнились тьмой, раскрылись, как два завихряющихся бездонных туннеля, где стыло лишь завершение, конец всяких обещаний и всяких надежд. Но Фёдор выдержал взгляд.
— Да, — заверил он. — И это ответ на твой вопрос.
Харон трескуче расхохотался, тяжёлая тьма неба ответила ему далёким громом.
— Что ж, молодой гид, — повторил он своё обращение. — Слишком много жара в твоём сердце. Слишком требовательно и очень многое готово погубить. Её дар оказался слишком велик для тебя, той, кто была вторым скремлином. Не мешает подрасти.
Харон замолчал. Его взгляд опять притянула к себе монета. Фёдор сомкнул кулак, но её свечение не иссякло, пробивалось сквозь его пальцы.
— Может, ещё и подрастёшь, — неопределённо заключил Паромщик.
— Мы здесь не для того, чтобы обсуждать меня, — сказал Фёдор.
Паромщик выжидающе кивнул. Но так и не смог оторвать взгляда от монеты.
— Дважды вернувшийся, говоришь? — наконец промолвил он. — Это да. Но ничто не повторяется дважды. Как вышло у тебя, больше не получится.
— Не темни, — попросил Фёдор.
Паромщик повёл рукою, в которой сжимал весло, указывая на разрушенный манок Хардова:
— Он ещё не стал тенью, но и тем, кем был, тоже больше не является.
— Не темни, Харон! — теперь повелительно повторил Фёдор. — Иначе я отправлюсь с тобой и сам заберу его. Желаешь проверить?!
Далёкий раскат грома повторился, и фигура Паромщика словно бы уменьшилась. Фёдор опустил руку с монетой, Паромщик сморгнул.
— Подожди, — наконец произнёс он, темно озираясь. — Это не те рубежи, которые стоит переступать.
Фёдор шагнул к неподвижной воде, заставив себя не видеть бледных теней, что скользили под днищем лодки.
— Харон, — произнёс он, чувствуя, как могильный холод тут же стал пробираться в него. — Если я взойду на твою лодку, то коммерция закончится.
— Говорю же, подожди, — остановил его Харон; в глазах стоял алчный блеск. — Гляжу, и впрямь готов зайти слишком далеко… Есть другой выход.
Фёдор встал у края воды.
— Есть выход. — Тяжёлый взгляд Харона масляно блеснул. — Он ещё не стал тенью, но торопись. Иначе ты пожалеешь, что он не мёртв.
— Харон…
— Это правда! — выкрикнул Паромщик. — Ты знаешь, что это так.
Фёдор помолчал, наблюдая, с каким алчным огоньком собеседник буравит его сомкнутую в кулак ладонь. И вдруг всё понял:
— Он… Каким он вернётся?
— А вот это зависит от тебя. — Слова Харона были серьёзны, но мрачные глаза блеснули насмешкой. — От того, что с тобой произойдёт в месте, где кончаются иллюзии. Поэтому торопись. Если, конечно, согласен.
— А… она? — тихо спросил Фёдор.
— Та, чей дар слишком велик для тебя? — Сейчас Харон усмехнулся в голос. — Всё теперь связано. И я не знаю, как повернётся… Может, нарожает тебе детей, и мне будет кого в своё время перевезти на другой берег, а может… — Харон нетерпеливо повысил голос. — Ну что, готов совершить сделку? Согласен?!
Фёдор раскрыл ладонь. Посмотрел на монету. Подумал о Еве. Он может её потерять… Подумал о Хардове. Монета светилась тихим печальным светом.
— Я согласен, — сказал Фёдор.
Вздох, похожий на стон, слетел с губ Харона.
— Сделано, — глухо отозвался он. — Монету.
Фёдор, словно не понимая, медлил.
— Сделка состоялась, — зычно провозгласил Харон. Каким-то непостижимым образом серебряная монета оказалась у него в руке, и морщинистые старческие пальцы тут же с жадностью сомкнулись вокруг неё.
А Фёдор ощутил тяжесть манка в своей ладони. Манок больше не был разрушен, его половинки соединились, он стал целым и сиял тем же серебром, что и монета-королева, принесенная за него в уплату. Фёдор смотрел на ту величайшую драгоценность, что сейчас обрёл, а затем бережно прижал её к груди.
— Поэтому я и назвал тебя «молодым гидом».
Харон снова позволил себе усмешку, но Фёдору было всё равно. Прижимая к груди манок Хардова, он прошептал в этом тёмном безнадёжном месте: «Ева, я найду тебя…»
Когда он поднял голову, Паромщик уже уплывал. Что-то в нём неуловимо переменилось; наверное, он ещё не стал похож на злобного старикашку, но теперь его вполне можно было спутать с обычным лодочником, решившим прогуляться по тёмной воде. И прощанием с этим местом где-то вдали прозвучал голос:
— Хорошая у нас вышла коммерция, молодой гид. А Хардов чего, он всегда был добр ко мне. И всегда припасал доброго самогону, чтобы угостить старика.
Его голос стихал, всё более поглощаемый тяжеловесной тьмой. Но Фёдор всё же смог различить:
— Однако торопись, молодой гид, иначе ты и вправду пожелал бы для него смерти.
4
Фёдор словно проснулся. Или очнулся после тяжёлой болезни. Он обнаружил себя рядом с лодкой «Скремлин II», выкинутой носом на берег и привязанной к стволу дерева прочным канатом. Кто-то явно возвратился сюда и позаботился о лодке.
Он не знал, сколько прошло времени. Встреча с Хароном запомнилась ему, как короткий и очень тяжёлый сон, но луна, будто потерявшаяся на утреннем небосклоне, вовсю прибывала, входя в третью четверть, значит, минуло не меньше недели.
Фёдор вдруг понял, что на него кто-то выжидающе смотрит. Он поднял взгляд. На мачте сидел Мунир. Фёдор выдохнул. Чёрные глаза-бусинки весело блеснули. Фёдор слабо улыбнулся и показал ему хардовский манок.
— Смотри, Мунир…
Ворон издал радостный крик, торжествующе расправив крылья, а потом взлетел в небо. Пикирующе устремился к лодке, сделал вираж и снова взмыл вверх. И Фёдор услышал то, чего ни одному гиду не удавалось услышать от чужого скремлина. Описывая в воздухе круги, Мунир пел песню радости. Потому что сердце верного ворона больше не было разбитым на две половинки. И в это напоенное нежностью солнца утро казалось, что по-другому и не может быть.
Фёдор посмотрел на простирающуюся перед ним гладь воды. Она играла весёлыми бликами, эта новая дорога, что лежала перед ним. Лёгкий ветерок, обещавший к обеду усилиться, оказался попутным. Фёдор прикинул, что запросто стащит лодку в воду. Обошёл её. Обнаружил на дне заботливо свёрнутый парус. Понял, что знает, как его поставить, хотя это и займёт какое-то время. А ещё понял, почему с самого начала остановили выбор на лодке с мачтой.
— Сукин ты сын, — усмехнулся Фёдор. — Хардов, ты сукин сын! Ты с самого начала предполагал, что я окажусь в лодке один, и мне не управиться без паруса…
Сейчас он отвяжет лодку и стащит её в воду. Но у него на этом берегу оставалось ещё одно неоконченное дело. Очень приятное дело. Он поманил Мунира и справился с неожиданной неловкостью, когда ворон доверчиво спорхнул ему прямо на руку. Мунир уселся, устраиваясь, весело переминаясь, вцепился когтями в ткань куртки. Фёдор рассмеялся. А затем быстро надел на Мунира хардовский манок. Ворон встрепенулся, раскрыл крылья, да так и замер, склонив голову. Глаза-бусинки…
— Да-а-а! — сказал ему Фёдор. — Лети, старый друг Хардова. — Почувствовал, как в горле запершило. — И мой друг. Лети! Отыщи Тихона и остальных. И отыщи Рыжую Анну, — снова запершило в горле, — ту, что так долго безнадёжно любила его. Но закончилось время, когда угасали надежды. Лети, найди их и разнеси радостную весть.
Ворон ещё какое-то время смотрел на него, словно вопрошая, справится ли он теперь один, а потом захлопал крыльями, торжествующе крича, и взлетел в небо.
— Лети! — крикнул ему Фёдор.
Начал неторопливо отвязывать лодку, свернул бухту каната. Столкнул лодку в воду, и это оказалось легче, чем он предполагал. Ветер подул сильнее. И хоть небо и не заволокло тучами, Фёдор понял, что сюда приближался грибной дождь.
«Хорошая примета», — подумал Фёдор. Нагнулся, чтобы начать разворачивать парус, а потом поднял голову. Посмотрел на водную даль, вперёд. Прошептал:
— Ева, я иду к тебе. Я найду тебя.
5
Но ворон Мунир не полетел сразу на канал, как попросил его Фёдор. Он пересёк Пустые земли и пересёк леса, окутанные туманом, и когда оказался над Пироговским водохранилищем, увидел лодку, что шла на вёсельном ходу в сторону Москвы. Мунир уже бывал в этих краях и знал, что путь им предстоит ещё долгий, тем, кто в лодке.
Ева сидела одна на носу и, обняв себя за плечи, смотрела в воду. Её никто не беспокоил, и Петропавел запретил саму возможность какого-либо обсуждения того, что произошло на Тёмных шлюзах, но даже он не знал, как заговорить с ней.
«Ничего, нужно время, — думал Петропавел. — Время лечит всё. И когда-нибудь она снова улыбнётся».
Утро выдалось зябким, где-то далеко начинался дождь, Петропавел бесшумно подошёл к девушке, чтобы накинуть ей на плечи лёгкое одеяло, да не решился. Негромко кашлянул, девушка вздрогнула, начала оборачиваться. Петропавел захлопал глазами и чуть не выронил из рук одеяло. Он долго не решался заговорить с ней, но и представить не мог, что первые слова окажутся такими.
— Ева! — прохрипел он. — Посмотри… Посмотри перед собой.
Мунир, спикировав, уселся на самый нос лодки. Ева покачнулась. Петропавел крикнул:
— Все сюда! Скорее…
Ева и Мунир смотрели друг на друга. Ворон немного склонил голову набок.
— Мунир, — выдохнула Ева. И протянула руку. Ворон не отстранился. И позволил девушке дотронуться до манка.
За спиной послышались голоса:
— Это ворон Хардова.
— Смотрите, он принёс манок.
— Манок снова цел. Вон, ворон Хардова!
Ева почувствовала, как какая-то пружина внутри неё разжалась.
— Мунир, — снова прошептала она.
Ворон встрепенулся, и издав громкий торжествующий клич, взмыл в небо. Описал над лодкой большой круг и полетел обратно. Мунир возвращался на канал.
Ева смотрела на ворона, и все радостные возгласы куда-то отодвинулись. Однажды, очень давно Хардов принёс ей в подарок старую книгу. Ева любила её, перечитывала много раз, книгу о мире, которого давно нет. Заканчивалась она словами древнего языка, которого тоже уже никто не помнил:
Cras amet qui numquam amavit
quique amavit, cras amet
Это была латынь. Но Ева знала перевод. И сейчас почему-то вспомнила об этой книге. Она смотрела, как летит Мунир, и улыбалась. Подняла руку, помахала на прощание. Она знала перевод. Мунир улетал всё дальше, вот он превратился в точку, а потом и точка растворилась в безбрежной синеве.
Еве был известен перевод:
«Завтра познает любовь не любивший ни разу,
И тот, кто уже отлюбил, завтра познает любовь».
ДВИЖЕНИЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО
Wyszukiwarka