Джордж Бейкер
Тиберий. Преемник Августа
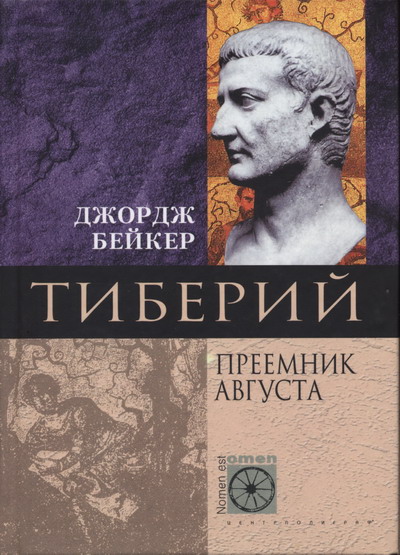
Аннотация
Книга в увлекательной форме рассказывает о жизни и правлении преемника Августа — римского императора Тиберия. Личность этого правителя, представляющая несомненный интерес с исторической точки зрения, до сих пор остается психологической загадкой. Автор, используя свидетельства великих историков древности — Тацита, Светония и достижения современных исследований, наиболее полно воссоздает образ Тиберия.
Джордж Бейкер
«Тиберий. Преемник Августа»
ПРЕДИСЛОВИЕ
Правление Тиберия, второго римского императора, было политическим полем битвы со многими поражениями и победами. Потерь было больше, чем побед… Эти проблемы немногим отличаются от тех, что беспокоят сегодня нас.
История Тиберия не имеет прямых параллелей с современностью. Эти параллели — если они вообще существуют — касаются следующих после нас поколений. Рассказ пойдет о том, что происходит в Дальнейшем с однажды установленной диктатурой… Установленная Гаем Юлием Цезарем диктаторская власть имеет одинаковую природу с другими автократиями. Фактически, она продолжалась в течение восемнадцати столетий. Ни одна из греческих диктатур не была столь длительной. Лишь преемники Цезаря дали нам представление о том, что может случиться с диктаторской властью… И мы видим, как она неизбежно оборачивается властью монархической.
Тиберий был активным проводником временного правления Цезаря, а затем рискового принципата Августа, сущность которого в последующей реальности едва ли расшаталась.
Природу монархической власти не обязательно изучать в ее окончательных формах. Надо рассматривать ее проблемы, пока она еще молода и подвижна и постепенно приобретает форму под воздействием времени. Следует понять, какая именно сила заставляет монархию становиться наследуемой, а не выборной или назначаемой; какова необходимость делать ее постоянной; надо наблюдать за ней с ее первых начальных шагов, подмечая те особенности, которые впоследствии, при близком с ней знакомстве, кажутся изначально присущими ей, но которые в действительности были приобретенными — или, скорее, завоеванными.
Исходящая из диктатуры Цезаря, или, можно сказать, с трибунской власти Гая Гракха, через диктатуру Суллы, римская монархия положила начало монархии европейской, и ее прямое наследование продолжалось до 1453 г., когда ее свергли турки. Ее преемство через Священную Римскую империю продолжилось до времен Наполеона, а через Маробода и Арминия стало основой монархической власти Англии, Франции, Испании, России и Скандинавии. До Цезаря Северная Европа управлялась вождями, которые до сих пор сохранились в шотландских кланах.
Конкретная история всегда лучше теоретических размышлений. Читатель сам в состоянии увидеть водоворот текущих событий. Реальная истина, в конце концов, никогда не лежит полностью в области теории; большая часть ее — это рассказ, который с появлением письменной истории должен рассматриваться лишь как первая часть книги, которая продолжается сегодня и будет продолжена завтра в соответствии с определенным сюжетом… Если кому-то покажется, что рассказ о Тиберии оставляет много неясного и неопределенного, ему следует напомнить, что это лишь часть сериала, который продолжат следующие за нами поколения.
Однако история Тиберия вызывает не только политический интерес. Он всегда был и остается величайшей психологической загадкой в истории. Он одновременно Гамлет, и Лир, и Отелло, и в то же время нечто большее. Мы располагаем о Тиберии массой сведений, которые за девятнадцать столетий так и не помогли полностью его понять. Из этих данных мы можем составить представление, полностью достоверное, о двух разных людях: один — жесткий, прямолинейный и суровый, справедливый, талантливый государственный деятель; другой — жестокий, развращенный и безнравственный монстр. Когда мы начинаем соединять его в одного человека, тут-то и начинаются неожиданности. Некоторые свидетельства неоднозначны и могут истолковываться по-разному… Поэтому, вероятно, всегда останется место для различных суждений относительно истинного положения вещей… В том огромном хранилище чистосердечных признаний, что, несомненно, существует на небесах, мы найдем записи, которые компенсируют нам бесплодные поиски в этом изменчивом мире.
Многое из описанного в этой книге теперь стало очевидностью. Нет необходимости отвергать обвинения в аморальности Тиберия или сложность его характера в целом. На свете бывали и гораздо более дурные люди, и современные читатели Тацита или Светония скорее должны оценивать их произведения как написанные на хорошей латыни, блестящие памфлеты и занимательную подборку сплетен, нежели выражать признательность авторам за бесстрастную картину объективной реальности.
Что же касается самого рассказа — помимо того что он освещает отрезок политической истории, — если он сможет воздействовать на наш разум так, что мы уясним вытекающие из него уроки, мы, по крайней мере, сможем надеяться, что, что бы с нами ни происходило, с нашей цивилизацией ничего подобного не случится. Известный миф об Ионе выразил ту вечную истину, что цель пророчества не предсказывать будущее, а увериться в том, что оно станет неожиданностью. Правдивый предсказатель — это лжепророк.
Дж. П. Б.
Элмер, Сассекс 1928
Глава 1
ТРИУМФ АВГУСТА
13 августа 29 г. до н. э. колесница, запряженная четырьмя конями, стояла за воротами Рима в лучах италийского солнца. По обе стороны ее готовы были сопровождать двое конных юношей четырнадцати и тринадцати лет. Первым был племянник Августа, сын его сестры Октавии Марк Марцелл, другим — его пасынок Тиберий Клавдий Нерон… Так Тиберий вышел на историческую сцену, — что ждет его впереди, вероятно, уже тогда занимало умы зрителей.
Подростки были частью пышной торжественной процессии, которая три дня, в блеске золота и серебра, в богатом восточном убранстве, в сиянии вымпелов, медленно продвигалась от Марсова поля через Триумфальные ворота, вокруг Палатинского холма вверх по Священной дороге. Впереди шествовали ряды сенаторов в окаймленных пурпуром мантиях, за ними следовали трубачи, сверкавшие медью труб, повозки, полные трофеев, белые, увенчанные Цветами быки с позолоченными рогами, несущие священные сосуды жрецы, рослые иллирийцы, смуглые египтяне, светловолосые галлы, одетые в алые одежды ликторы с фасцами, обернутыми лавровыми ветвями, толпа музыкантов и певцов — все они двигались медленным маршем в сопровождении бронзовых от египетского солнца и киликийских ветров, сверкающих блеском оружия легионеров, несущих позолоченные штандарты с орлами… Впереди всей процессии на триумфальной квадриге, за которой следовали высшие магистраты государства, возвышалась легкая фигура человека с бледным лицом, печальными глазами и почти девичьим рисунком рта. Гай Юлий Цезарь Октавиан был главным персонажем всего этого великолепия. Это был триумф Августа.
Никогда прежде не бывало подобного триумфа.1 После двадцатилетней гражданской войны, разбросавшей и унесшей жизнь многих замечательных людей, воссияла золотая заря нового века. В этой процессии шли бы закованные в цепи Антоний и Клеопатра, если бы они сами не позаботились о том, чтобы этого не случилось. Корабли, участвовавшие в сражении при Актии, двигались на повозках, а за ними везли восковые фигуры мужчины и женщины, бежавших с поля битвы. И если бы какие-то души могли витать в тот полдень над процессией, здесь оказались бы тени Брута и Кассия, Марка Катона, сыновей Помпея и внуков Суллы, все с оковами на руках в знак поражения. И над всеми витал бы невидимый, но все же ощущаемый дух увенчанного Цезаря Диктатора, который инициировал и организовал ряд событий, завершившихся триумфом Августа. Но все они ушли с арены, остался один Октавиан. Это он возвышался над шествующими медленной поступью белоснежными конями, которые влекли процессию через заполненные народом улицы и многолюдный Форум, мимо храмов Весты и Кастора, мимо тянущихся вдоль Форума лавок менял, мимо храма Сатурна к Капитолийскому холму, к стоящему на вершине святилищу отца богов… Когда процессия подходила к Триумфальным воротам, она миновала еще недостроенные здания, которые через несколько лет Август посвятит дорогой памяти ушедшего Марцелла… Огибая храм Сатурна, она прошла через площадь, на которой впоследствии будет воздвигнута Триумфальная арка Тиберия.
Когда, одетый в пурпурную тунику, вытканную цветами и расшитую золотом, Октавиан возложил лавровый венок на статую бога, когда совершены были жертвоприношения и посвятительные дары, какие только возможно поднести смертному человеку, началось веселье. Были открыты цирки и театры, были готовы актеры: профессионалы и любители, колесничие и гладиаторы — наступил новый век.
Август, кем он стал два года спустя, должно быть, радовался тому, что праздники позади и люди могут возвратиться к серьезным повседневным делам. Его никогда не привлекала лишь декоративность. Ему, должно быть, доставило удовольствие закрытие дверей храма Януса. Римляне наслаждались миром. Он вряд ли упустил возможность осмотреть двери храма. Если их петли были бы смазанными, римлян следовало счесть невиданными в истории оптимистами. Однако смазанные или ржавые, они были закрыты, и люди, проходя мимо храма, могли глазеть на то, чего не довелось видеть их пращурам, — закрытые двери храма Януса. Война — на какое-то время — была окончена.
Волна надежд и ожиданий будущего захлестнула государство. Когда в 27 г. до н. э. Август начинал формировать конституционные очертания монархии, его взор уже остановился на молодом Марцелле как на возможном наследнике, который продолжит его дело. В том году он устраивал Троянские игры, древний праздник римской молодежи, уходивший корнями к дням Энея. Двое юношей, выбранные возглавить их, были Марк Марцелл и Тиберий Клавдий Нерон.
Более того, в том же году Август намекнул Вергилию, что будет приветствовать какое-либо поэтическое признание своего могущества. Великий поэт интуитивно угадал, чего хочет Август. Представленный ему труд был не чем иным, как «Энеидой», символом римского патриотизма и римской веры… В пятой книге он изобразил и сами Троянские игры,2 которые возглавляли Марцелл и Тиберий; игры представляли собой описание воображаемого прибытия Энея в Италию, и через слезы воспоминаний и надежду на будущее, в которых проявили себя сыновья изгнанных троянцев, он выражал такие же чувства, охватившие людей и на заре новых дней.
Разумеется, именно Вергилий внес эту символику в изображение Троянских игр, проведенных в тот год, когда Октавиан стал Августом; однако его полупророческое чувство было достаточно реальным, и оно, несомненно, тронуло душу Августа. Такое возрождение, и не только государства, но и основавших его знаменитых фамилий, было тем, к чему он искренне стремился… Отбор лидеров для проведения Троянских игр всегда имел особенное значение. Избрание на эти роли Марцелла и Тиберия было равносильно признанию их наиболее обещающими юношами тех дней, показателем того, что Август возлагает на них большие надежды и предрекает великую карьеру… В этой книге содержится изложение того, что сбылось из этих надежд, какие карьеры их ожидали.
Тиберий был пасынком Августа. Ему было четыре года, когда его родители Ливия Друзилла и Тиберий Клавдий Нерон расстались. Август столь поспешно женился на Ливии, что ее второй сын Нерон Клавдий Друз родился уже в новом браке. Естественно, об этом много говорилось, и слухи, что Друз был собственным сыном Августа, едва ли долго оставались неизвестными подрастающему Тиберию. Эти подозрения, возможно, имели основания, поскольку Август всегда выказывал предпочтение Друзу.
Кроме необычного имени и особого пристрастия к нему Августа, Друз очень отличался от Тиберия по темпераменту и характеру. Его дар очаровывать людей и совершенные черты лица в самом деле могли быть унаследованы от семьи его матери, где мужчины всегда выделялись высокими нравственными и интеллектуальными качествами и манерами, однако этим он мог быть обязан и Августу. С другой стороны, Друз отличался в лучшую сторону от Октавиев, среди которых Август был скорее исключением. Все кровные потомки Августа в той или иной степени не выделялись умом… Наконец, Друзу досталась в наследство несчастливая судьба почти всех мужчин рода Ливиев…3 По всей вероятности, точно установить отцовство Друза так никогда и не удастся.
Тиберий и сам принадлежал к этому роду. Ему было девять лет, когда скончался его отец, и его отослали жить к матери, таким образом он перешел под опеку Августа. Девять лет жизни с отцом — срок достаточный для того, чтобы сформировать и развить черты характера, полученные от природы и от предков. Одинокий маленький мальчик, сменивший общение со своим заурядным отцом на тот большой и блестящий мир, в котором правили Ливия и Август, был достаточно взрослым, чтобы почувствовать значимость перемены. Он справлялся со своими трудностями с теми же упорством и почти угрюмым мужеством, что впоследствии всегда были заметны в его характере.
Были вполне объяснимые причины, по которым Август не мог взять на себя все заботы о своем новом подопечном, старшем пасынке Тиберий. Девятилетний мальчик обладал таким характером, что сумел произнести публичную речь на похоронах своего отца. Эта попытка, возможно, и не была шедевром, однако девятилетний мальчик, способный выступить на публике в торжественном случае, выказывал качества необычные. Он был распорядителем погребальных игр своего отца. Август и Ливия позаботились о том, чтобы у него было для этого достаточно средств… И эта способность совершать поступки, причем без изъяна и ошибок, как и всякую работу, которую Август ему поручал, была тем средством, которое открыло ему сначала путь к славе, а затем к империи.
Хотя поначалу отношения его с Августом носили характер некоторой неловкости, отпечаток чего остался навсегда, у нас нет оснований полагать, что Август был плохим отчимом. Юный Тиберий получил прекрасное образование по всем дисциплинам — литературе, праву и военной науке, — необходимое для его будущей карьеры. Он был хорошо развит физически, привлекателен, светлокож, с жесткой копной волос, доставшейся по наследству от Клавдиев. Как большинство хорошо образованных людей, он был чувствителен и мог бы почувствовать розовый лепесток под двенадцатью перинами, подобно сказочной принцессе. Физическую чувствительность можно преодолеть упражнениями, и Тиберий вырос крепким, здоровым юношей. С чувствительностью душевной справиться труднее, и он едва ли получил такое образование, которое способствовало бы этому; он оставался застенчив и несколько неловок, его утонченность обнаруживала себя в очевидном непостоянстве, в таких вещах, как нелюбовь к выражению чувств, любовь к поэзии, в том, что он не терпел глупцов, в склонности к простоте; он настолько выделялся свойствами, которых люди обычно стесняются, что оставался загадкой для его критиков. Он понимал разницу между смелостью и нахальством или между прямотой и наглостью и никогда их не путал. Порою он принимал извне симпатию к себе, однако чаще отвергал ее. Его трудно было раскусить. Он тщательно оберегал свой внутренний мир и сторонился тех, кто пытался перейти грань.
У него с самого начала было некое духовное убежище, что-то вроде позднейшего Капри. Он укрывался в своей крепости при малейшей провокации. У него было обостренное чувство справедливости и чувство беспристрастности, где не было места почитанию отдельных личностей — включая самого себя. В то же время он необычайно остро ощущал несправедливость по отношению к себе и в этих случаях замыкался… Странные вещи чувствительность производит с душой человека.
Большие способности, основанные скорее на трудолюбии и здравом смысле, чем на блеске натуры, отчужденность и индивидуализм, точность восприятия и самостоятельность в суждениях делали его хорошим лидером. С теми, с кем сталкивался, он оставался холоден, беспристрастен и осторожен, глядя на вещи трезво и оценивая их в целом; и в то же время он был точен в суждениях, был великодушным, однако не всегда приветливым начальником: тип человека, который поделится рубашкой, но не симпатией. Характер скорее полезный, чем удобный.
Ни одна причуда судьбы ни на чем не сказалась так сильно, как на имени Нерон. Это был когномен одной из самых выдающихся фамилий знатного рода Клавдиев. Его не запятнал ни один член этой семьи, законно носящий это имя. Слава Гая Клавдия Нерона, который отправился маршем в Метавр и одержал победу над Гасдрубалом, а также способствовал окончательному поражению Ганнибала, никогда не угасала в Риме. Однако все Нероны померкли, когда их имя было украдено бесславным человеком, который не был Нероном — он вообще не относился к роду Клавдиев, — императором «Нероном», чье настоящее имя было Луций Домиций Агенобарб. И никакая сила теперь не сможет отменить этого обстоятельства и устранить эту несправедливость, ни восстановить фамильную честь Неронов, отнятую Домицием. Император Нерон не был Нероном. Однако Тиберий им был, он заслуженно носил это имя, в его жилах текла кровь консула, который перехитрил Ганнибала и победил Гасдрубала. И он также был военным и политиком, с присущими этой фамилии качествами сильного и живого характера.
Август был человеком поверхностным, что, впрочем, не мешало его власти. Он становился основательнее по мере роста своего влияния, но, мудрея, он все-таки не приобрел того, что дается воспитанием в истинно древних родах… Он никогда не притворялся, что любит Тиберия. Любя общество, беседы и будучи скорее широким, чем глубоким, он не испытывал симпатии к переменчивому, более сложному, основательному и в то же время эксцентричному характеру своего пасынка. С некоторым неприятием и удивлением он наблюдал и не одобрял неторопливость, врожденную и воспитанную интеллигентность, сдержанность, утонченность, которые как бы проскальзывали сквозь его ум, ни в чем не совпадая с чертами его собственного характера.
Ливия была третьей женой Августа. Первую вряд ли стоит считать таковой; если он даже и жил с ней, то этот эпизод был слишком короток и не оставил никакого следа. Его второй брак со Скрибонией был гораздо серьезнее; однако это был прежде всего дипломатический брак. Луций Скрибоний Либон был тестем и главным сторонником Секста Помпея в те стародавние дни гражданских войн. Август — тогда он был еще просто Октавианом — женился на его сестре Скрибонии, чтобы не дать молодому Помпею объединиться с Марком Антонием. Через год такая необходимость отпала; и с поспешностью, которая могла против него свидетельствовать, он развелся с ней в тот же день, когда на свет появилась единственная его дочь Юлия, о которой мы еще не раз услышим, прежде чем закончим рассказ о Тиберии.
Его истинным браком в высоком смысле был брак с Ливией, дорогой его сердцу (а сердце у него было); с ней он делил симпатии, вкусы и личные пристрастия. Для Августа было истинным несчастьем, что этот брак оказался бездетным. В этом отношении счастье, которое не покидало его в других делах, оставило его. Ему хотелось бы иметь родного сына от Ливии, которого он мог бы вырастить и воспитать и который продолжил бы его дело. Но он так и не родился.
Ливия происходила из старого аристократического рода и славилась красотой и сильным характером. Дамы из аристократических родов жили дольше своих мужей, и Ливия, кругом общения которой был лишь двор Августа, где она могла проявить себя, была достаточно сильной, чтобы проложить себе путь сквозь жестокую конкуренцию эпохи поздней республики, когда Цезарь еще только начинал свою карьеру. В имперском Риме она главенствовала в обществе, подобно орлице среди цыплят. В соответствии с заведенными ею правилами легкомысленная и свободная жизнь периода республики определенно вышла из моды. Они с Августом подавали пример простой и добропорядочной семейной жизни, не нарушаемой скандалами или ссорами, эти люди считались с мнением и чувствами друг друга и сумели прожить в гармонии.
Ливия, естественно, была достаточно влиятельна, чтобы продвигать двоих своих сыновей. Насколько распространялось ее влияние — одна из неразрешенных загадок истории. Если она рассчитывала на естественный ход событий, которые приведут их к власти, она рассуждала разумно; однако некоторое холодное благоразумие и умеренность характера, который служил Августу некоей защитной атмосферой, могли распространяться и на Ливию, сдерживая ее энергию. Естественно, что в душе Августа Юлия была на первом месте. Ливия, похоже, не боролась против этого естественного предпочтения. Август отвечал на ее сдержанность тем же вниманием к ее предпочтениям. Едва ли заботясь о Тиберии, он искренне любил Друза, но к обоим он был равно справедлив и даже щедр. Весьма вероятно, что он учитывал их значимость во втором ряду наследников. Если бы Юлия умерла, они стали бы самыми вероятными наследниками. Об атмосфере, царившей при дворе Августа, многое говорит то обстоятельство, что мы не слышали ни о малейшем намеке на интриги или соперничество между ребенком Скрибонии и детьми Ливии. Да и трудно было в присутствии Августа зародиться чему-то столь дикому или ужасному. Он решал все человеческие проблемы с присущими ему спокойствием и разумностью.
Таким образом, Юлия была важной персоной. Вокруг нее сосредоточивались все планы Августа на будущее — планы, никоим образом не связанные с пустыми амбициями, но относящиеся к судьбам великой цивилизации… Не могло быть и речи о том, чтобы место Августа заняла женщина; ибо, кто бы ни стал его наследником, он становился главой огромного войска, охранявшего римский мир; но он вполне мог полагать, что такими наследниками, возможно, станут или ее муж, или родившиеся в будущем дети.
Сама Юлия, разумеется, прекрасно осознавала это свое предназначение. В год триумфа Августа ей было десять лет. Ей было двенадцать в год проведения Троянских игр. Ей едва исполнилось четырнадцать, когда Август официально усыновил Марцелла как своего преемника и наследника и отдал ему Юлию в знак подтверждения его возвышения.
Все это было слишком хорошо, чтобы продолжаться долго… У Августа, разумеется, были свои причины, о которых мы сегодня не знаем. Красивый молодой жених, сын Октавии, и очаровательная умная невеста, дочь Августа, были двоюродными братом и сестрой. Юлию воспитывали очень заботливо, однако сама атмосфера была не слишком здоровой. Чем бы ни руководствовался Август, все произошло уж слишком рано. Оба молодых человека слишком рано развились. Весь блеск Марцелла не мог отменить того факта, что выбор Августом наследника был странным — своеобразной игрой с фортуной. Не только Марцелл был совершенно неискушен, но и в его предках не было ничего дающего надежды ожидать, что он вырастет в выдающуюся личность. Хотя дальние родственники Марцелла и произвели на свет многих способных людей, это не было тем основанием, на которое можно было опереться. Трудно избежать впечатления, что очень много семейных причин — может быть, слишком много — влияло на планы Августа.
Золотой сон продолжался два года. Затем, несмотря на все усилия тогдашних врачей, Марцелл умер в возрасте шестнадцати лет, оставив Юлию очень молодой вдовой. Это большое горе, однако, было скорее потерей для семьи, а не для политики. Сам Август произнес надгробную речь. Когда тактичный Вергилий прочел вслух хвалебные строки, посвященные Марцеллу, Октавия упала в обморок. Все это было очень печально. Наследование принципату, однако, было делом, которое следовало устраивать методами более серьезными, нежели браки и обмороки. Угловатый Тиберий в этом же году получил первую свою официальную должность квестора.
Была некая характерная предопределенность в первых должностях Тиберия: в основном это была работа, связанная с юриспруденцией. Он успешно выступал защитником в имперском суде и перед сенатом, получил два особых производства, в обоих из которых преуспел: одним было расследование дел о поставках зерна, другим — инспекция тюрем для рабов. Поступали сведения, что держатели этих тюрем имели привычку похищать свободных граждан и брать с них выкуп, а также укрывать военных дезертиров… Все это, без сомнения, было очень скучно, по сравнению с карьерой Марцелла, но, очевидно, Тиберию это нравилось. Его давно интересовала именно такая работа. Он также получил первый воинский опыт в Испании, где полным ходом шло покорение кантабрийцев… Пока он был в Испании, Август задумал второй брак Юлии, и теперь он выбрал ей мужа, в корне отличного от предыдущего, а именно человека, который после него был самым влиятельным из живших тогда римлян: Марка Випсания Агриппу, победителя сражения при Актии. Агриппа был ровесником Августа — крепким мужчиной сорока двух лет; крепкого сложения, скорее похожий на сельского жителя, чем на городского модника… Что о нем думала Юлия, мы не знаем.
Было, несомненно, трудно решить проблему поиска мужа для Юлии. Выбор Агриппы был не так уж и плох.4 Он был достаточно силен и способен со временем стать преемником Августа, если возникнет такая необходимость. Более того, он был доверенным и надежным человеком, способным внушить благоговейный страх и произвести впечатление на юную девушку, которая была слегка избалована и потрясена смертью Марцелла. Юлия едва ли выказала слабость, попав в крепкие руки Агриппы. А он, будучи ее мужем, не терял времени. Юлия, длинноносое большеглазое создание, превратилась в римскую матрону с пятью детьми. Два старших сына — Луций и Гай — безусловно были истинными наследниками Августа, родились также две дочери, Юлия и Агриппина. О последнем, пятом ребенке, Агриппе Постуме, мы услышим в свое время.
Слабость второго брака Юлии заключалась в сопровождающих его несоответствиях. Чтобы жениться на Юлии, Агриппа развелся с младшей сестрой Марцелла. Опыт показывает, что двое людей не могут подходить друг другу, если руководствуются лишь холодным расчетом. Когда дети подросли, обнаружилась нестабильность этого соединения; Луций, Гай и Юлия, кажется, переняли все черты у своей матери и ничего — от отца, одна лишь Агриппина унаследовала несгибаемое упрямство своего отца и холодную силу характера; а младший, Агриппа Постум, в опасной степени соединил в себе самые слабые стороны обоих родителей… Судя по всему, и в повседневной жизни они мало общались. Занятый военный человек и администратор имел мало общего со своей молодой женой. Он был ровесником ее отца. Его воспоминания, работа, интересы полностью отличались оттого, что занимало Юлию. Он часто отсутствовал. Испанская и иллирийская кампании завладели его вниманием и временем. Под влиянием всего этого, не находя удовлетворения, которое мог принести ей равный брак, теперь, в отсутствие мужа, она постепенно стала неукротимой. Она была очень красива, ее остроты были известны всему Риму, а положение предоставляло ей безграничные возможности в обществе. Уже тогда поползли слухи, будто она вовсю использовала эти возможности и находила простой способ найти себе компанию, способную предоставить то, чего не мог дать муж…
Августу не следовало удивляться. Юлия очень рано стала слишком взрослой, поощряемой со всех сторон и возбудимой женщиной. Ее природный неудержимый темперамент, в некоторых отношениях слишком несдержанный, в других — подавляемый, становился несколько извращенным. Август, возможно, чувствовал, что успех его семейной политики стоил некоторого риска, и он согласен был не замечать некоторых ее последствий, до тех пор пока соблюдались внешние приличия. Если так, он значительно переоценил свою власть и способность удержать свою дочь, коль скоро она почувствовала свободу.
Тем временем карьера Тиберия развивалась неторопливо и пристойно. Его природный дар иметь дело с вещами непопулярными получил признание, а человек, любящий работать, никогда не останется без дела, даже и не требуя за это наград. Он сопровождал Августа в длительной поездке на восток. Август доверял ему важные дела. Именно он привез захваченные парфянами у Красса после поражения при Каррах штандарты, которые Август путем недолгих переговоров сумел выторговать у парфянского царя. Возвращение на родину этих штандартов считали одним из величайших достижений Августа. Именно Тиберий с поразительной эффективностью уладил армянскую проблему. Армянам требовался новый царь, и Тиберий им вовремя в этом поспособствовал. Он вернулся домой, не проведя ни единого сражения и не пролив ни капли крови, — факт, вызвавший недоброжелательный комментарий в Риме.
Дата женитьбы Тиберия точно неизвестна. Это была скучная, пристойная, обычная счастливая свадьба, не затрагивающая ничьих партийных интересов. Тиберий уже несколько лет был обручен с Випсанией, дочерью Агриппы от первого брака.5 Свадьба Друза была более впечатляющей. Он женился на Антонии, дочери триумвира и сестры Августа Октавии, и таким образом стал племянником Августа. Хотя оба брака носили политический характер, они оказались удачными. Один, несомненно, заставил присмотреться могущественного Агриппу к своему зятю, и отличная военная подготовка, которую, безусловно, получил Тиберий, оправдывала такой интерес. Военные качества Тиберия были скорее основательными, чем блестящими, что весьма импонировало Агриппе. Если Випсания сочетала в себе сильные качества отца с мягкостью и блестящим кругозором своего деда, она, похоже, была идеальной женой для такого сложного, неоднозначного человека, как Тиберий, и неохота, с которой он расставался с ней несколько лет спустя, показывает, что их связывали не только формальные узы.
Однако женитьба Друза, по-видимому, подтверждала его положение любимца: она была и более лестной, и не менее выгодной. Очевидно, что Август пристально наблюдал за судьбой этой пары, нередко вмешиваясь в события на их стороне за счет интересов Тиберия. Последний не возражал, даже когда предубежденность против него была слишком явной, однако вряд ли можно осуждать его за то, что порой он испытывал горечь, вызванную постоянным предпочтением.
Друз был примерным мужем. Не было лучшего примера соответствия строгому моральному кодексу, принятому при дворе Августа, и он, несомненно, повысил престиж благонравной семейной жизни, так ценимой Ливией и Августом и так почитаемой в армии. Люди во все времена внимательно следят за моральными качествами своих правителей. Однако стали ли дети Друза воплощением возлагавшихся на них Августом надежд — вопрос другой и более спорный.
У Тиберия и Випсании был один сын, которого назвали Друзом в честь дяди, он вырос в сильного юношу, которого, как мы увидим дальше, постигла печальная судьба всех Друзов.
Справедливое отношение Августа и, возможно, его осмотрительность, которую Ливия старалась обратить в свою пользу, способствовали тому, что он позаботился, чтобы Тиберий и Друз прошли хорошую школу государственного управления, которую предоставляла общественная магистратура. Разумеется, Друз имел возможность получить любую должность, какую хотел, в то время как лишь способности Тиберия открывали ему доступ к желаемой цели. Оба молодых человека хотя и по разным причинам, стремились проявить себя в серьезном деле как можно более рано. Тиберий в особенности обладал тем даром, который во все времена заставляет расценивать человека как отмеченного судьбой, — а именно даром достигать цели, несмотря ни на какие трудности. Очевидно, обстоятельства не слишком способствовали тому, чтобы он постоянно был счастлив. Не было, однако, и непреодолимых препон, препятствующих его желаниям. Его жизнь была подобна акростиху, который, как ни читай — сверху вниз, снизу вверх или по диагонали, звучит одинаково.
И не имея даже иных причин, Август мог бы занимать и продвигать Тиберия в надежде, что, удовлетворив страсть пасынка к работе, он умерит тем самым его амбиции. План этот был проведен в жизнь. Тиберий творчески относился как к процессу работы, так и к ее результату, он находил удовлетворение в хорошо сделанной работе, любил ее ради нее самой. Для людей этого типа работа есть лекарство, которое подспудно подавляет их амбиции. Держать Тиберия постоянно занятым означало предоставить наследникам Августа неоценимую помощь, оставляя место для них свободным… Таким образом, все в его жизни складывалось так, чтобы продвигать его вперед.
Тиберию было двадцать два года, когда он получил должность претора: это был взрослый человек, стремительно мужавший. Год спустя события повернулись так, что в большой степени определили область его интересов на всю оставшуюся жизнь. Завоевание Цезарем придало северу особый, почти романтический интерес: оно позволило отодвинуть границы Рима к Рейну, к германским землям, оно также сделало Рейн привлекательным, как всегда привлекают дикие, вновь открытые и едва управляемые края, — это чувство знакомо жителям Южной Африки, Техаса или Аризоны в Новое время, когда люди должны были с оружием в руках охранять вновь завоеванные границы. Самые интересные проблемы римского мира были связаны с Рейном и с побережьем Северного моря. Более цивилизованной части римского общества много привлекательного, хотя, возможно, менее полезного предлагала также и неповторимая цивилизация Востока, — но именно к крайним северным границам устремлялись взоры тех, кто любил новизну и приключения.
В 16 г. до н. э. сикамбры, проживавшие на среднем течении Рейна, с помощью тенкретов и узипетов стали совершать рискованные пограничные набеги. Они переправлялись через реку и внедрялись прямо в сердце римской провинции. Были тяжелые столкновения и жестокие нападения; германцы захватили орла Пятого легиона и тем самым растревожили осиное гнездо. Август настолько серьезно оценил ситуацию, что отправился туда сам, взяв с собой Тиберия. В Галлии Август оставался четыре года.
Тиберий уже побывал в Азии, послужил в Испании, однако впервые преодолел Альпы. Он видел эти огромные горы, которые пересекал в разных направлениях Цезарь и через которые Ганнибал переправлял своих слонов, он видел поселения племен на вершинах гор, их красочную варварскую жизнь, их одетых в шкуры бородатых жителей, огромных собак и громадные просторы. Присутствие Августа несколько успокоило потревоженный улей. Сикамбры и их союзники были отброшены римскими войсками и галльскими отрядами обратно за Рейн, после напряженной паузы наступили спокойствие и порядок.
Для Тиберия это была возможность оглядеться и приобрести необходимый опыт. Вряд ли его предпочтения, которые он выказывал, имели большой вес для Августа, однако романтическая природа Друза, очарованного дикой и здоровой жизнью варваров, быть может, была более весомой причиной, по которой Август держал пасынков рядом с собой в Галлии. Друз был слишком молод, чтобы поручать ему важные командные должности. Следовательно, Тиберий — суровый и надежный молодой человек — получил управление Галлией, а также некоторую долю ответственности за своего брата. С Тиберием, который за ним присматривал, Друз мог упиваться приключениями и романтикой сколько влезет, и, судя по последующим событиям, делал это сполна, однако это не слишком заботило Тиберия.
Четыре года, проведенные Августом в Галлии, были необычайно важны. Были ли тому причиной набеги сикамбров, или просто так сложилось, но он получил возможность осмотреть и реорганизовать северные границы Рима. Были проведены некоторые пограничные корректировки. После года правления Тиберий вместе с Друзом были переведены на другие должности, которые помогли им заняться активной службой. Они встали во главе экспедиционных войск, которые вошли и покорили Рецию и Винделикию. Вторжение сопровождалось яростной борьбой, включая морское сражение на озере Констанца.
Тиберий был очень молодым человеком, которому поручили высшее командование. Август тем самым решил его испытать, и Тиберий отлично с этим заданием справился. Он миновал все препоны и не допустил ни единой ошибки. Он не высовывался и прислушивался к опытным воинам, которые знали границу, как собственный сад. К тому времени, когда операция была завершена, он выдержал самое суровое испытание — испытание профессиональной армией. Он не завоевал их безграничной любви — Друз был гораздо более популярен в войсках. Тем не менее он завоевал их уважение.
Завоевание Реции и Винделикии (вместе с той частью Норика, в которой стояла Паннонийская армия) предоставило весь северный склон Альп в распоряжение римлян и позволило установить такие границы, что стали возможными прямые коммуникации между рейнской и дунайской армиями. Источник опасности, которая при определенных обстоятельствах могла обратиться серьезной бедой, был устранен. Стратегические пути стали охраняемыми, так что в случае необходимости по ним быстро можно было добраться из Италии.
Эти меры, еще долго оказывавшие влияние на положение в Европе, не могли быть предприняты без серьезного обсуждения и исследования местности, а также без согласия главнокомандующего. Тиберий подробно ознакомился с причинами аннексии Реции и Винделикии, а также с подготовкой новых линий коммуникаций. Ничего не могло быть полезней для предназначенного судьбой преемника Августа, это дало ему полное понимание военной политики. Однако мысль о том, что именно Тиберий предназначен для этой роли, могла случайно лишь прийти в голову весьма непосвященному человеку. Избранником, наверняка предназначенным на эту роль и обладавшим всеми качествами опытного военного, вне всякого сомнения, был Агриппа. И даже в случае смерти Агриппы между Тиберием и престолом стояли еще три сына Агриппы… Только чрезвычайные обстоятельства могли сделать его вероятным кандидатом, и даже тогда оставался большой вопрос, захочет ли Август, имевший в этом вопросе решающее мнение, принять его в этом качестве.
Некоторые сомнения и подозрительность, от которых он никогда не мог избавиться, определяли его отношение к старшему пасынку. Он наблюдал и направлял Тиберия все эти годы очень пристально и пристрастно, и это принесло свои плоды, привело к тому, что он нехотя признал его. На Тиберия была возложена задача прямой ответственности за военные действия, сообразуясь с соображениями экономики. Это была тема, к которой Август относился очень щепетильно, и здесь Тиберий проявил себя с лучшей стороны. Он отлично справился и с тем и с другим поручением. Его управление Галлией закончилось не по военным, а по политическим причинам. Теперь, когда первая серия невероятных обстоятельств осталась позади, начались удивительные приключения Тиберия.
Глава 2
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЙ ИМПЕРИИ

Последствия смерти Агриппы затронули многих людей и отразились на многих событиях. Изменилась и судьба Тиберия. Август никогда не правил единолично. Он не был индивидуалистом и жил в атмосфере совещаний и обсуждений. Август начал свою карьеру в должности триумвира, и что-то от триумвира всегда оставалось в нем. Он искал другого Агриппу.
Без сомнения, было весьма трудно относиться к Тиберию с теплым человеческим чувством. Он не отвечал сердечностью на радушие Августа, а у Августа не хватало теплоты, чтобы растопить неприятие пасынка. Тем не менее Тиберий естественным образом был назначен на место преемника Агриппы. Тиберий вернулся домой и оказался чем-то вроде мула, осознающего свою полезность. В том, что он преуспел, сомнений не было. В предыдущем году он получил почетную должность консула, что, впрочем, не сделало его более влиятельным, чем Публий Квинтилий Вар (о котором мы еще услышим). Он, таким образом, приобрел титул консуляра и вошел в тесный, избранный круг высших магистратов государства. Было нечто еще важное, что витало в воздухе. Юлия вновь овдовела, и Август прикидывал, как урегулировать ситуацию.
Августу следовало многое обдумать. Такой человек, как он, вероятно, не мог обойтись без советчика. На него, безусловно, влияла Ливия, не важно, понимал он это или нет. На принятие решения у него ушел не слишком большой срок, чтобы обдумать важный для себя план, принятый к осуществлению.
Исследуя решения Августа, мы должны иметь в виду его заботы. Он находился в положении, не ведомом ни одному современному человеку. Если бы мы, словно через темное стекло, могли увидеть гигантскую перспективу политического объединения мира, столь далеко отстоящего от нас, это лишь отчасти диктовало бы наши практические решения. Но Август стоял перед свершившимся фактом. Известный ему мир — весь мир, который он знал, — был объединен единой политической системой, а сам он был его главой. Он видел реально то, что мы можем представить лишь как невозможный идеал, и здесь он обладал опытом, который настолько превосходит наш собственный, что при всей благожелательности мы не можем полностью воспринять эту удивительную истину. И как во всех подобных случаях, следовало отрезвляющее разочарование. Он не мог идеалистически рассуждать о прекрасной мечте, поскольку управление государством таковой не являлся. Это было весьма прозаическим делом: фискальных расчетов, налогообложений, правовых процедур и другой рутины, лежащей в основе внешне привлекательных аспектов руководства.
Август не стремился стать во главе мировой империи, он был предназначен к этому силами, стоящими вне его возможностей и контроля. Если бы он уклонился от задачи, предложенной ему обстоятельствами, он, вероятно, со временем повторил бы судьбу Марка Антония — возможность, которую любой разумный человек с полным основанием постарался бы избежать. Все сомнения были отброшены, оставалось найти наиболее подходящие способы сделать монархическую власть стабильной, поскольку, если бы эта власть начала шататься, она разнесла бы в куски контролируемый ею мир. Император не возглавляет процессы, движущие цивилизацией, он лишь направляет их, поддерживая их мир и гармонию. Мир, порядок и справедливость были тем, что заботило главу римского мира. И заботы Августа не имели других целей, кроме осуществления этих условий. Человечество иного не требовало.
Его власть и положение покоились на его способности предоставить людям эти дары. Если бы он не сумел этого сделать, создавшие его силы безжалостно его же и уничтожили бы. Он не был простым исполнителем — не был он и деспотом, атаманом, управляющим толпами людей. Огромная мощь цивилизации, неукротимая энергия ее созидательных и экономических сил, так легко доступная контролю, поскольку он оговаривал принятый им курс, смели бы его или отправили в заточение, если бы он попытался с ними бороться. Он зависел от общественного мнения и от поддержки тех, кто ему доверял. Степень его свободы действий была, таким образом, ограниченна и определенна. Он мог бы, по невежеству или глупости, развалить эту цивилизацию, однако скорее она смела бы его. Он зависел от разумного обмена мнениями. В соединении своих интересов и интересов окружающих он мог способствовать обеим возможностям.
Скорее всего, он их никогда не различал. Пилоту в его собственных интересах не требуется метафизической отделенности от своего самолета. Единство интересов — вещь слишком очевидная, а их разделение — слишком коварно и опасно.
Таким образом, стабильность принципата — вопрос не простой личной заинтересованности. Он коренится глубоко внутри личных амбиций, так же как и в личных и неличных соображениях, которые переплетены слишком тесно, чтобы их разделять.
Основы мировой империи, которой управлял Август, покоились на общих законах, действующих везде и всегда. Производство, осуществляемое людьми со всеми вытекающими последствиями, торговля (ибо производство может успешно развиваться лишь через обмен товарами между людьми) имеют тенденцию распространяться вовне и увеличиваться концентрическими кругами. Их распространение выходит за рамки старых обособленных общественных групп и способствует появлению новых, более крупных общественных образований. Этот процесс распространения нельзя остановить. Развитие торговли в общественных отношениях можно сравнить с такими не зависящими от нас категориями, как силы гравитации и химические свойства материи: они одинаково неотменимы. Человек может контролировать и манипулировать некоторыми из них, но ни в коем случае не способен устранить эти силы вовсе. Поэтому во все века в любой стране мы наблюдаем на практике схожие процессы: производство поощряет торговлю, а торговля меняет состав мелких общественных образований до тех пор, пока все общество не становится единым. Естественным результатом является мировая империя.
Тем не менее ни один человек, каким бы добродетельным он ни был, не выполняет на практике в точности то, что было задумано в теории. Любое совершенство, как бы мало оно ни было, моментально становится вечным, нерушимым и неизменным. Изъян во всех вещах, созданных смертными, становится отправной точкой процессов, способствующих его изменению. Разумеется, много изъянов было и в мировой империи, в которой господствовали римляне. Римское господство охватывало не весь обитаемый мир, тем более оно не вобрало его в себя. Римляне даже не представляли себе его величины, не имели представления о форме земного шара, хотя несколько древних философов в своем уединении могли привести доказательства того, что земля имеет более или менее выраженную сферическую форму. Римляне в действительности лишь объединили в один политический организм разнообразные человеческие сообщества, принадлежавшие к некоему роду производственного типа. Это была мировая империя, сделанная на скорую руку, она преследовала практическую цель, и мы, оглядываясь назад, можем видеть, что она стала неизменным основанием для последующих процессов, которые ломали старые и создавали новые ответвления — и это строительство продолжается до сих пор… И в самом деле, обозревая ход истории, насколько мы ее знаем, можно заключить, что эволюция общества заключается не в медленном росте одного-единственного организма, но в созидании и разрушении нескольких организмов друг за другом, при этом каждый вносит элементы, опущенные предыдущими.
Во времена Августа оставались народы, не входившие в состав его государства. На востоке это были парфяне, а позади них сомнительный и неизведанный регион, который мог быть, а мог и не быть обширным. На северо-востоке обитали задунайские племена, свирепые и воинственные, за ними скрывалась туманная Скифия, также неизмеримая, поскольку численность скифов, протяженность их страны, их обычаи и возможности были не определены. На севере жили германцы, за ними еще более устрашающие воинственные свевы, позади которых скрывались в туманной дымке севера еще более страшные и свирепые люди: англы, саксы и лангобарды.
В душах людей, скорее интуитивных, чем рациональных, живет определенное любопытство. Эти северные племена, как никакие другие, привлекали внимание римлян. Отчасти это был романтический интерес. Сама личность северных людей вызывала внимательную заинтересованность. Даже атмосфера, в которой они обитали, казалась чудесной. Сам Цезарь ощущал эту привлекательность. Он передал это чувство и своим наследникам: легендарными были темные, непроходимые Гирканские леса, лоси, зубры, светловолосые воинственные жители и полусказочные голубоглазые северные цари. С точки зрения стратегической парфяне не представляли для римлян особой угрозы. Они находились далеко в Аравийской пустыне, на Тигре и Евфрате или в горах Армении и могли лишь вести оборонительные войны на небольших пограничных участках. Скифы были отчасти мифическим народом вместе с киммерийцами и амазонками.6 Германцы же представляли действительную опасность. Всякий знал, что в течение столетий цивилизация Южной Европы находилась в опасности вторжений северных народов. Если римляне могли знать о фригийцах, ахейцах и дорийцах, они слишком хорошо знали о сражении при Аллии, осаде Капитолия, о криках гусей, которые «Рим спасли». Угроза со стороны кимвров не забылась и во времена Августа. Завоевание Галлии следовало осуществить отчасти и для того, чтобы предотвратить повторение тех дней, когда несметные полчища кимвров и тевтонов через сотни миль прорвались к западным воротам Альп и когда Марий и его знаменитые «мулы» стали единственным спасением трепещущего мира.
С другой стороны, германцы были вне экономической жизни Рима, в которой участвовали общественные группы сходного типа, преуспевшие в производстве и торговле; пока что германцы находились на ранней стадии общественного устройства и культуры. Привести их под власть Рима было бы вдвойне полезно. Трудно судить, смогут ли они стать цивилизованными и превратиться в народ, способный воспринять жизненные стандарты римлян. Это было не то же, что в Галлии и Испании, которые в течение столетий, еще до того, как римляне появились на исторической сцене, испытывали длительное влияние греческой и семитской цивилизаций. Завоеванная Германия могла оказаться и тем, что не поддавалось бы ассимиляции, но оставалось постоянно чужеродным центром разрушительных сил. Вопрос заключался и в том, можно ли в самом деле завоевать и покорить эту землю. Германия вовсе не погибала и не чахла из-за несуществующих контактов с цивилизованным югом. Она процветала. Германцы не были похожи на полинезийцев, вымиравших от алкоголя и болезней белых людей, они были народом, все более распространявшимся. Все эти вопросы встали перед мировым Римским государством.
Военные проблемы обороны мировой империи, таким образом, сосредоточились не на восточной и не на африканской, а на европейской границе. Главным сомнением Августа было, сможет ли он действенно защитить римские владения от внедрения совсем иного и чуждого типа культуры, чьи корни лежали где-то на севере Европы, а сердце оставалось на Кимверийском полуострове и прилежащих островах.
Помимо военной проблемы, включающей в себя задачу защиты огромной протяженности укрепленных границ и содержания армии, которую надо было обеспечивать людьми, была еще более серьезная проблема, от которой зависели все предыдущие: насколько велики внутренние силы Римского государства. И в военном, и в политическом отношении Рим был силен, как никогда прежде. Вопрос вопросов, разрешение которого и привело к образованию империи, заключался в том, была ли средиземноморская цивилизация достаточно сильна экономически. И военное, и политическое могущество прямо зависели от экономической состоятельности средиземноморской цивилизации — от ее возможностей, то есть от производства товаров и обеспечения ими населения. Это, несомненно, заботило людей еще со времен Сципиона Эмилиана и Тиберия Гракха. Большая часть производимого богатства расходовалась скорее на предметы роскоши, чем на обеспечение уровня жизни. Оно работало на незначительную группу богатых людей, а не на массу людей средних и бедных. Но и само богатство становилось предметом забот и опасений. Уже не было возможности игнорировать последствия и пускать все на самотек. Осмотрительное руководство Августа, его попытки оживить экономику, показать пример умеренности в личном быту, использовать богатство как должно, чтобы оно работало, — все это в конечном счете коренилось в осознании такой необходимости. Он не был ярым идеалистом, сражающимся за мораль. Он смотрел на вещи скорее как предприниматель, пытающийся скостить цену, сэкономить на необходимых расходах и придать деньгам большую силу. Поздние времена были более откровенными в этом отношении и показали, что при римском господстве население всех территорий, входивших в состав империи, сократилось, что германцы наращивали свою численность более стремительно…
Политикой Августа стало прекращение экспансии. Это была здравая политика с любой точки зрения. Римское господство уже вобрало в себя практически все общества с соответствующим экономическим стандартом. Идти дальше и включать в себя общества иного типа становилось опасным для единства государства, если, конечно, не было других важных причин для их присоединения. Вдобавок ко всему лишь общества соответствующего экономического уровня окупали затраты на их завоевание. Египет оплачивал эти расходы в высокой степени. Галлия, которая поначалу едва ли подходила под этот стандарт, стала окупаться и в перспективе могла стать самым ценным приобретением. Однако покорение обществ, явно не соответствующих стандарту, означало расходование средств, которые, возможно, никогда не окупятся. Поэтому дальнейшее увеличение территории империи было тупиковым путем: такой перспективе вряд ли обрадовался бы любой государственный деятель. Подобный риск мог быть оправдан лишь по особым причинам. Аннексия Реции и Винделикии означала множественные затраты, однако была необходима по причинам военного характера. Она делала более безопасными границы.
Таким образом, отношение римских правителей к затратам на Северную Европу было исключительным. Август не мог не трогать их; он не мог ограничиться состоянием доброжелательного нейтралитета. Когда вождь Маробод, полный энтузиазма от увиденной им цивилизации Рима, стал создавать свое собственное огромное центральноевропейское царство, Август не мог спокойно наблюдать за этим с добродушной симпатией и при успешном продвижении процесса строительства просто предложить свои улучшения. Ибо все усовершенствования касались бы и военных подразделений, подчиняющихся лишь их создателю. Проблема отдаленных народов была подобна порочному кругу. Их нельзя было поглотить, но и нельзя было позволить им развиваться. Постепенный рост их экономического уровня благодаря контактам с южной цивилизацией нельзя было остановить, и, когда четыреста лет спустя экономический уровень мировой империи снизился, и обе культуры встретились на равных, результатом стали распад империи и хаос, из которого возникли совершенно иные образования.
Теперь мы можем рассмотреть ситуацию с другой стороны и поинтересоваться, в какой степени мировая империя была благом для тех, кто по идее должен был получать от этого выгоду.
То, что в империи было много неприятного, — очевидно. Никто без грусти и сожаления не может смотреть на независимые греческие города-государства, которые были потеряны для мира и которые ничем нельзя заменить. Незачем лицемерить, полагая, что уровень средиземноморской цивилизации был выше во времена Римской империи, чем в те дни, когда полисы с их неповторимым уровнем литературы, искусства и философии боролись, торговали, производили товары. Однако мы легко можем преувеличить степень различия, и еще легче недооценить природу этого различия. Основной вред нанесли себе сами города-государства. Их ожесточенная борьба погубила гораздо больше лучших их представителей, чем все римские императоры, вместе взятые… Большая часть привлекательного блеска ранних веков была декоративной. Шедевры искусства не всегда появляются в счастливые и мудрые времена человечества. С эпической точки зрения Гомер нашел бы Антония Пия более бледной фигурой, чем Ахилл; однако из этого не следует, что человечество было лучше или счастливее во времена Ахилла. Человечество всегда с ностальгией вспоминает свою молодость. Может быть, так и должно быть, но люди никогда не сражались бы за свое будущее столь упорно, не ожидай они впереди чего-то лучшего.
Мир и единение, которые опустились на средиземноморский мир с восшествием Августа, были подобны обретению у людей нового сознания. Люди пережили ужасные, трагические дни, казалось, они вышли из борьбы более несчастными и бедными, однако это лишь казалось, а не было реальностью. На рассвете новой эры они увидели себя во мраке такими, какие они есть, а не последователями гигантов и героев, какими себе казались. Вергилий и Ливий писали историю героических теней прошлого, Гораций и Проперций, оглядываясь, видели реальный мир вокруг себя и были грустными и насмешливыми.
Грусть, сопровождавшая ослепительный свет мира и роскоши, проникала в более глубокие слои, чем это изображали поэты Августа. В каждом общественном слое, в каждой части римских владений прорастали и возникали мысли, которые будили сомнение, исследовали жизнь и требовали ответа. Если век Августа вызывал к себе меньше почтения, чем эра великих греческих мыслителей, то это в основном из-за того, что возникавшие при Августе течения были шире, туманнее, не так четко оформлены, менее представлены отдельными яркими персонажами, выразителями новых последовательных и систематических теорий. Они были не столь интеллектуальны, как в Греции, и, следовательно, труднее поддаются определению. Просто жизнь в мировой империи, которая практически соотносится со всей цивилизацией, имела определенное свойство воздействия на интеллектуальные качества человека, подобное обращению к людям на общественном митинге. Элемент теплоты и интимности ушел из человеческих отношений с исчезновением этих маленьких независимых городов-государств, похожих на большую семью, в которой нередко возникала острая горечь взаимных ссор. Нечто более объемное, пустое, бесцветное, если вообще не более основательное, пришло на их место, нечто напоминавшее характер самого Августа. Люди отчасти ожидали, отчасти искали объяснения проблем столь значительных, что и все вместе они не знали каких. Во времена Августа не было точного представления о вопросах, не было и определенных ответов на них, что давало греческой мысли такой бодрящий интеллектуальный стимул. Должно было пройти время, чтобы выйти из этой неразберихи событий и начать понимать, какие вопросы диктует мир, какие ответы на них даются и какого рода эти вопросы и эти ответы.
Эпоха Августа, как ни один другой век, свела вместе различных людей, с разными традициями, темпераментами, социальным опытом. Столкнулись такие события, которые никогда прежде не были связаны между собой, перед людьми во всей полноте встала новая задача, и она исходила не из прежнего строго последовательного принципа объяснения мира, а из упорядочения и осмысления огромных множеств, которые следовало свести к более простому и разложить на составляющие. Люди восприняли эту задачу со странным чувством смирения и даже принижения. Это чувство покорности, возможно, самый большой секрет всего процесса. Уверенность, с которой греки подходили к решению проблемы жизни, ушла. Общее чувство, которое иногда было чувством греха, а иногда глубочайшим скептицизмом, давило на мыслителей. Как если бы больные и разнородные группы в большинстве своем незнакомых людей предприняли трудное и опасное путешествие навстречу друг другу; они встретились и по разным причинам и мотивам вдруг поняли, что ожидаемого не увидят. Это смутное и рассеивающее ощущение некоего крушения надежд было характерным для эпохи Августа.
Однако это было лишь началом, а не концом процесса. Духовная энергия века стала выражать себя многими способами, и два или три из них заслуживают нашего внимания. Греческое влияние прямо способствовало философскому подходу к проблемам. Эпикурейство привлекало тех, кто нашел его приятным. Лукреций выразил чувства, нашедшие много последователей особенно среди людей зажиточных, из опыта владения землей и деньгами понявших, сколь мало духовность влияет на человеческие поступки и как много зависит от трезвости ума и практической сметки и насколько мало плоды человеческой жизни удовлетворяют потребность и голод сердца. Это имело и политические последствия, действенно защищая тех, кто стал исповедовать такое в результате продолжительного наблюдения над жизнью или мудрой политикой. Распространение материалистической философии среди зажиточных слоев глубинным образом повлияло на эволюцию римского мира. Оно означало, что когда — или если — зов души их окликнет, они не будут способны на него ответить. И действительно, духовность через долгое время заявила свои права, и они не смогли откликнуться на ее призыв. Они сделали свои представления удобными и безопасными, и они не знали, как вернуть прежнее, когда их боги их оставили.
Однако были люди гораздо более материалистичные, чем эти. Стоицизм в форме, существовавшей в Римской империи, был сложным явлением — это была греческая философская теория, приспособленная к задаче оправдания, систематизирования и приспособления традиционного римского подхода к действительности. Стоическая философия была прибежищем для тех, кто не видел в удовольствиях жизни вознаграждения, компенсирующего ее тяготы, кто столь сильно осознавал трагедию жизни, ее разочарования и неполноту, что поставил перед собой задачу жить праведно, не ожидая награды. Как аскетическая жизненная философия он произвел тип человека, намеренно теряющего связи с миром, не заботящегося о собственной судьбе.
Все эти философские принципы и поведение имели в основе общий недостаток. Они были умозрительной системой и, следовательно, опирались лишь на одну часть человеческой природы. Умозрительная теория никогда не может стать в достаточной степени объективной. Вследствие этого большинство людей никогда не обращались к этим философским теориям с тем, чтобы они помогли и руководили ими, и никакой государственный деятель на это и не рассчитывал. Однако сами принципы воздействия важны для политика по очевидным причинам, следовало знать, что поведение людей есть основа дела, которым они занимаются, и, следовательно, результаты этого поведения должны приниматься во внимание. Такой политик, как Август, близко к сердцу принимал этот вопрос. Он предпочитал, чтобы основы поведения были общеприемлемыми — так удобнее полагаться на единство интересов большинства людей. Однако он, с другой стороны, и не желал, чтобы все люди исповедовали одинаковые подходы. Ни один светский правитель не отдает всецело предпочтение строгой ортодоксии, настолько единой и подчиненной дисциплине, что уместнее было бы говорить о жреце, а не о правителе. Мудрый правитель улыбается при виде некоторого несогласия во мнениях. Даже некоторая степень odium theologicum не является для него огорчительной. Он пожертвует своими интересами в малом.
Если судить по его поступкам, были такие взгляды, которые одобрял и Август, что было более или менее традиционным для римских правителей. Он просто систематизировал и урегулировал старую политику терпимости ко всем местным религиям, а также внес в нее разнообразие на почве поклонения обожествленным императорам и гениям римского народа. Он, однако, не пошел дальше старой принятой концепции религии как практического языческого — или, во всяком случае, местного — культа, столь естественно связанного с процессом светской жизни, что это можно было определить как традиционный метод политического контроля. Религия была для Августа вопросом определенного ритуала, некоторой церемонией, в которой закрепляются и подчеркиваются основные моральные понятия. Все, что было за пределами такого понимания, расценивалось как философия. Античной религии в том виде, в каком она существовала во времена Августа, было в действительности отведено место философии и простой обрядности. Религия, которую он, вероятно, хотел бы видеть в качестве имперской религии, была просто церемонией, связанной с прославлением нравственных качеств, подобающих великому политическому государству.
Август и его круг в этом отношении просмотрели истину необычайной значимости и силы. Возникновение мирового государства с его громадным аппаратом управления и законности, его мощь объединения и консолидации должны были идти параллельно с появлением не менее великой мировой религии, которая уходила бы корнями в самые глубокие и темные мотивы поступков людей, сопровождаясь страстью и надеждами, перед которыми философия и обрядовая сторона старой религии просто померкли бы и исчезли. Разнообразие представлений среди его современников пало на удобренную почву. Восточные верования стали проводником этого процесса. Своей нескрываемой эмоциональностью они открыли европейцам глаза на новое осмысление религии. Решительным людям постепенно стало трудно оставаться в согласии с учениями, обращаемыми лишь к части человеческой природы. Люди стали ожидать учений, богатых содержанием и основанных на едином принципе. Огромный светский организм, бесконечно разнообразный в отдельных частях и функциях и все же сводимый в гигантское целое, неотвратимо требовал веры, столь же разнообразной и единой.
Август вынужден был изгнать египетских пророков из Рима. Он не одобрял их методы. Беда в том, что само существование мировой империи, кажется, создало в душах людей настроения, оставлявшие их неудовлетворенными жесткими рамками учений и пустым формализмом традиционной римской религии. Германцы угрожали империи вооруженным вторжением. Азиаты грозили вторжением духовным. Особенностью этого процесса было то, что граждане мировой империи представляли нравственную шкалу ценностей довольно туманно, а правители с неудовольствием осознавали, что новые чаяния вели к ослаблению их власти над подданными. И тем не менее простой факт существования мировой империи означал, что люди вступили в новые отношения, которые не соответствовали старым принципам. Ситуация была лишь в самом начале своего развития. Она еще не превратилась в критическую.
Давайте на время вернемся к идеям Августа.
Было несколько возможностей сохранить центральную власть мировой империи стабильной. Она могла стать наследуемой, не из-за теоретического совершенства принципа наследования власти, но потому что это было безопасней и исключало бы борьбу среди амбициозных претендентов. Сама идея принципата, открытая для соперничества, сопровождалась вероятностью интриг и насилия, которых Август хотел избежать. Его преемник должен быть военным и, кроме прочего, человеком, способным понимать и контролировать новые силы, грозившие изменить тенденции власти и разрушить прежнюю дисциплину. Чтобы удовлетворить этим двум требованиям, он должен быть выходцем из аристократического сословия, воспитанным в симпатиях к традиционным римским институтам и в понимании их особой значимости.
Нельзя сказать, что императорская семья Цезаря была кровно родственной. Она была основана на постоянном усыновлении. Гай Юлий Цезарь, диктатор, покоритель Галлии, был последним мужским потомком своего рода. Ни один из ранних римских императоров не имел близкого родства с фамилией Цезаря. Август был Октавием, усыновленным своим двоюродным дедом, Тиберий был Клавдием Нероном из рода Клавдиев, Калигула был сыном Випсания Агриппы, женатого на дочери Октавии; Клавдий был также Клавдием Нероном; Нерон был Домицием Агенобарбом, женатым на дочери Клавдия. Следовательно, когда мы говорим «Цезарь», мы имеем в виду формальный смысл. После Гая Юлия род Цезарей прекратился.
Тем не менее этот вымышленный и умозрительный императорский дом Цезаря вовсе не был незначительным: кроме того, это определенно не была группа людей, пытавшихся добиться признания, которого они не могли достичь самостоятельно, иным путем. Это имело гораздо большее значение. Это был механизм, которым императоры пытались осуществить и удержать преемственность власти в империи. Вполне понятно, что Гай Юлий долго и много раздумывал над проблемой монархической власти и по политическим мотивам рад был бы основать династию. Потому что при всем своем уме он не видел иного способа сохранить монархическую власть, кроме борьбы за эту власть. Он не хотел, чтобы каждая смена правителя сопровождалась гражданской войной, хотя именно таким был бы результат, оставь он власть чисто выборной.
Беда коренилась в том, что император стоял во главе практически всех вооруженных сил. Мы уже знаем, что случалось с властью, если она подвергалась процессу выборов. Война с четырех сторон между Гальбой, Отоном, Вителлием и Веспасианом после смерти Нерона, борьба между Альбином, Нигером и Севером после смерти Коммода и позднейшие столкновения иллирийских императоров показывают, что опасения и предвидения Цезаря были оправданны. Армия была склонна разделяться на три части, соответственно трем основным соединениям, стоявшим на Рейне, на Дунае и на Евфрате. От нее нельзя было ожидать мирных выборов главы государства. Каждый общественный слой, сталкиваясь с подобной задачей, избирал человека, более всего подходящего его формальным признакам. Финансисты, выбирая главу, наверняка превратят выборы в борьбу финансов. Армия безусловно сделает это вооруженной борьбой, а гражданская война губительна для гражданского правления.
Ко всем этим затруднениям прибавлялись и другие. При первых признаках серьезных разногласий в армии по вопросу выбора командующего проснутся силы в сенатской партии, представленные старой аристократией, только и ждущие случая восстановить прежнюю власть и влияние. Положение третьей партии, вмешавшейся в борьбу, гораздо выгоднее. Два или три оспоренных выбора вернут власть сенатской партии и таким образом уничтожат принципат. Реальность такой опасности подтверждается заметным сближением между сенатом и принцепсом после смерти Нерона и попытками сената сто лет спустя вновь обрести власть, что закончилось лишь с восшествием Диоклетиана.
Соответственно одним из главных пунктов имперской политики была задача избежать необходимости выборов. Здесь как раз и проявлялось слабое место. В старые времена по большей части сильные и знатные роды не испытывали трудности в установлении династии и сохранении стабильности в наследовании высших государственных должностей. Однако Рим теперь не обладал такими огромными фамилиями, поскольку по тем или иным причинам у самого мудрого отца мог родиться глупый, неспособный сын, а у сильного человека — физически слабый; вообще рождаемость резко упала.
Естественным выходом, следовательно, была та странная комбинация, которую мы наблюдаем в императорском доме Цезаря, — появление семьи, сформированной путем усыновления. Таким способом правящий принцепс мог осуществить реальный контроль над преемственностью власти: он мог назвать и выбрать человека, который будет следовать его курсу. Имперский дом Цезарей был скорее родом правящей гильдии, а не семьей в прямом смысле слова. Август в конце концов усыновил Тиберия, своего пасынка, Тиберий усыновил Германика, своего племянника, претензии на престол Гая были по большей части обусловлены тем обстоятельством, что он приходился внуком Августу и сыном Германику, а также тем, что он отчасти был наследником Тиберия, а Нерона — тем, что он был правнуком сестры Августа и внуком Германика со стороны матери. Эти претензии на современный взгляд кажутся слишком незначительны, если брать их как условие для наследования высшей власти государства, однако передача императорской власти по наследственному признаку была последним прибежищем, когда более серьезная целесообразность усыновления не учитывалась.
Трагедия и самая большая беда Цезаря заключалась в том, что так все и происходило. Если мы бросим взгляд на будущих императоров, мы увидим, что лишь один Тиберий пришел к высшей власти путем официального и ясного усыновления. Должны были быть определенные причины для прерывания этой линии наследования, и такая причина имелась. Мы поговорим о ней в соответствующем месте.
Тогда сыновья Юлии Луций и Гай были еще очень молоды, и в тот момент еще нельзя было предсказать их дальнейшей судьбы. Их наследование, их способность к этому еще не стояли на повестке дня. Сам Август мог умереть, пока они были слишком молоды. Они могли оказаться полностью неспособными взять на себя правление государством. Был бы жив Агриппа, все бы обстояло иначе, однако в данной ситуации все соображения указывали на разумность того, чтобы Юлии был найден мужчина, которому можно доверить обязанности отчима двух юных наследников империи и на которого в случае нужды можно было положиться с тем, чтобы он был способен заменить Августа, взять на себя бремя власти и править твердо и умело.
Единственным человеком, удовлетворявшим всем этим требованиям, был Тиберий.
Глава 3
ЗАВОЕВАНИЕ ГЕРМАНИИ
Если обстоятельства указывали на Тиберия как на мужа, предназначенного для Юлии, то, уж конечно, это не было инициативой Августа. Возможно, ему это и не нравилось. Однако логика событий начала свою работу. Тиберий, хотя и не очень любимый, был надежен: он был военным, и он был осторожен и благоразумен. Неприязнь к нему Августа могла отчасти основываться на том, что один умный человек обычно чувствует в отношении другого умного человека. Даже Август не мог избавиться от неприятного для него чувства, что за молчаливостью, серьезностью и сдержанностью Тиберия скрывается такой же острый разум, как и у него. В какой степени ему можно было доверять — другой вопрос, над которым бесполезно было ломать голову. Можно только сказать, что Тиберий заслуживал доверия и представил доказательства своей лояльности. Этого должно было быть достаточно.
Личная проблема Августа была еще более деликатной. Он собирался отдать свою единственную дочь человеку, который не обладал качествами, внушающими любовь. Опыт мог быть, а мог и не быть удачным… Сама Юлия, эта двадцатисемилетняя голубка, била крыльями до изнеможения. Она привыкла к тому, что она замужем за самым значимым человеком из окружения отца — сначала это был Марцелл, затем Агриппа, — и это чувство droit du seigneur7 позволяло претендовать на руку Тиберия, она несомненно намеревалась завладеть и его сердцем… Август наконец решился. Он предложил Тиберию развестись с Випсанией и жениться на Юлии: поступая так, он, возможно, восхищался собственной щедростью.
Таким образом он решал все проблемы. Однако сам Тиберий выразил несогласие. У него не было намерения разводиться с Випсанией и жениться на, Юлии. Предложение, однако, было равносильно приказанию… Мы в точности не знаем, какое давление было на него оказано, и какие аргументы были приведены. Весьма вероятно, что решающим аргументом была сама Юлия, и, когда Юлия хотела кого-нибудь обольстить, можно полагать, что она и в самом деле была очаровательна. Даже Тиберий растаял в лучах Юлии. Он определенно не хотел жениться на ней, но тем не менее он это сделал.
Он женился на Юлии в 11 г. до н. э., когда ему; был тридцать один год, став еще одним пленником в ее триумфальном шествии.
В соображениях Августа учитывалось еще одно обстоятельство. План женитьбы Тиберия предусматривал отзыв его с границы Рейна. Его следовало заменить. Это и была та возможность, которую ждал Друз. Он заменил Тиберия на посту главнокомандующего.

Август, без сомнения, готов был предоставить Друзу любую возможность, которая была в его власти, но решение отдать ему пост командующего выходило за рамки обычного. Всю свою жизнь Тиберий выступал против беспричинных военных операций за Рейном. Друз был представителем другой точки зрения военных, которая была гораздо более влиятельна, чем может показаться нам теперь. Он был полон решимости предпринять завоевание Германии. Женитьба Тиберия на Юлии не только повлияла на смену командования войск, стоявших на Рейне, но и на всю военную политику империи. Друз отправился в Галлию полным сил и властных полномочий, чтобы осуществить мечту всей своей жизни. Армия восторженно его принимала.
План, представленный Друзом Августу, заключался в том, чтобы проникнуть в долину Эльбы и сделать ее новой границей вместо старой границы по Рейну. Этот план, в случае его удачи, имел бы несколько следствий: он отодвинул бы постоянную угрозу германского вторжения, сократил бы протяженность границы и способствовал бы такому развитию племен Центральной Европы, что их желание угрожать Риму постепенно прошло бы. Августа эти аргументы убедили. Хотя план в основном строился на «если» и «в случае, если» и его удачное завершение надо было еще продемонстрировать на практике. Впрочем, сам по себе он был не более сложным, чем план завоевания Галлии Цезарем; однако Друз не был Цезарем; и у Цезаря были другие мотивы для завоевания. Августу, должно быть, пришло в голову — а можно догадаться, что и Тиберию тоже, — что не слишком разумно чересчур полагаться на память о завоеваниях Цезаря — они имели политическую подоплеку. Август, а возможно, и Тиберий понимали, что завоевание Германии, как и завоевание Галлии, передаст их гражданам престиж, еще раз подтверждающий их превосходство. Август, похоже, согласился. Согласился ли Тиберий с этим планом — весьма сомнительно.
Доверие и недоброжелательность странным образом переплетались в отношении Августа к Тиберию. Поставив за три года до этого Тиберия управителем Галлии ввиду того, что он был самым надежным и действенным орудием в его руках, он все еще не разрешал ему действовать самостоятельно. Август продолжал следить за ним, проверять его и руководить им. Тиберий был достаточно умен, чтобы оценить действительную помощь, получаемую им в результате присутствия Августа; это делало его задачи легче, а результаты его работы более совершенными, однако он едва ли мог избавиться от ощущения чувства патернализма по отношению к себе, чувства зависимости и подчиненности, которое, как камешек в ботинке, раздражает, независимо от его размера. В личных встречах с командирами рейнской армии император, без сомнения, слышал все, что должны были ему сказать. За эти годы его медленно, но верно убеждали — и в результате убедили — принять военный план, изложенный Друзом. И когда, наконец, Друз отправился на Рейн с полномочиями привести его в действие, Август бессознательно или по неосторожности подчеркнул предпочтение, которое он всегда выказывал в отношении Друза. Случайно или нет, но он расчистил поле деятельности для Друза в Галлии.
Некоторая непоследовательность наблюдается в предпочтении Августом Друза и его окружения. Можно, например, задаться вопросом, почему он не выбрал в мужья Юлии своего любимого Друза и не оставил Тиберия командовать армией, хотя Тиберий разделял точку зрения в отношении завоевания Германии. Он вывел Тиберия на прямую линию наследования высшей власти империи, а затем дал Друзу такое положение, что в случае успеха оно подорвало бы влияние и перспективы мужа Юлии.
В то время как Друзу была поручена задача завоевания Германии и выхода к Эльбе, Тиберий получил задание довести иллирийскую границу вверх до Дуная так, чтобы новая граница была непрерывной, — задача, которой он занимался в то время, пока Друз вел германские кампании.
Друз принял командование армией на Рейне весной 12 г. до н. э. Его план был готов, и все необходимые приспособления, очевидно, были сделаны еще до его прибытия. Как история Галлии началась с Юлия Цезаря, так и история Германии начинается с Друза.
Видимо, стоит остановиться и набросать мысленный портрет человека, который стоял у начал истории германцев. Сразу возникает мысль о том, что во всю свою дальнейшую историю и Галлия и Германия несут на себе отпечаток характеров тех римских воинов, которые впервые ступили на их земли. Различие между современной Францией и современной Германией та же, что и разница между Гаем Юлием Цезарем и Нероном Клавдием Друзом.
Друз обладал многими качествами, и качества эти были определенного рода. Он не был просто симпатягой. Любовь к нему, поклонение, вызываемые им в друзьях и сторонниках, энтузиазм, с которым они за ним следовали, то чувство, с которым они о нем вспоминали, — все это имело источником его изумительную способность быть своим в больших сообществах. Величие Тиберия заключалось в его обособленности, и он выражал себя, действуя самостоятельно, он был великой личностью. Однако Друз не был индивидуалистом. Мы напрасно стали бы искать какие-то его самостоятельные действия, а также какие-то особые слова, характеризующие его поступки. Можно было бы даже предположить, что его слава была порождена всеобщим заблуждением, не имей мы множества примеров из практической жизни характеров такого рода. Его сила сказывалась в его отношениях с людьми — не в том, что делал он сам, а в том, что он побуждал делать других, притом что эти люди выполняли его поручения с радостью. Каждый человек чувствовал свою силу рядом с Друзом, каждый как бы чувствовал электрический заряд при общении с ним.
Такой дар — не пустяк. Он очень даже реален. Однако в нем таятся свои изъяны, и Тиберий очень хорошо осознавал их. Спокойная и никогда не высказываемая критика со стороны Тиберия в адрес своего брата и его сына Германика основывалась на том вызывавшем опасение факте, что они в действительности не вели людей за собой, а сами за ними следовали. Командование Друзом рейнской армией имело в основе его способность интерпретировать и выражать ее мнение. Он ничего к этому не добавил. Если мы встречаем такие способности у людей образованных и убежденных, мы называем их представительными людьми; когда мы сталкиваемся с этими качествами в более грубой и менее убедительной форме, мы называем их демагогами. И Тиберию это не нравилось. Сам он всегда действовал, основываясь на принципе, что обязанность лидера брать на себя ответственность за то, что соответствует здравому смыслу и служит во благо, как бы неприятно это ни было, а не за то, каких поступков ждут от него его сторонники.
К дару Друза примешивалось некоторое досадное обстоятельство. Перед армией стояла проблема: какому из этих двух типов личности ей подчиниться. И даже целая армия философов не могла бы разрешить эту проблему.
Планы были подтверждены на высшем уровне и заключались в полном завоевании Германии. Из действий Друза совершенно ясно, что все было тщательно исследовано заранее, и взаимосвязи, и относительная сила германских племен были тщательно взвешены, и весь план был более системно и научно обоснован, чем план завоевания Галлии Цезаря. Первый год кампании предполагал действия, направленные против территорий на побережье Северного моря. Он был весьма удачно осуществлен. Приготовления включали в себя строительство моста через Рейн и создание большой флотилии, а также сооружение канала, соединявшего Рейн с Исселем, такой глубины, чтобы по нему могли проходить морские суда. Инженеры, сооружавшие этот канал (Фосса-Друзиана), не только знали свое дело, но и учитывали течение Исселя и топографию Фризии.
Вступление легионов в Нижнюю Германию было наиболее опасным делом. Пройдя канал, флотилия вышла из Исселя во Флевонское озеро, восточную часть того, что теперь является Зейдер-Зее. Батавы, всегда хорошо относившиеся к Риму, не противились продвижению римских войск, фризы подчинились. Выйдя к морю по каналу севернее Флевонского озера и миновав Тексель, флот занял Бокрум в устье Эмса. Хотя фризы не оказали никакого сопротивления, бруктеры, которые контролировали долину Эмса, приготовились к сражению. Морское сражение в устье Эмса и сухопутное продвижение легионов способствовали тому, что вся Нижняя Германия оказалась в руках римлян.
Ключом ко всей ситуации были фризы.8 Их торговые интересы не только располагали их к миру, но и способствовали дружелюбным связям с римлянами, что было им гораздо выгоднее, чем вести войну с сомнительным для себя концом. Их пассивность помогла Друзу захватить контроль над устьями реки. Как только побережье оказалось в руках римлян, внутренние территории были отрезаны от самых основных своих источников поставок.
На следующий год сцена военных действий была перенесена на территории, располагавшиеся выше по течению. Кастра-Ветера, старый форт, господствовавший на нижнем Рейне, стал оперативной базой. Отправившись от Кастра-Ветеры, Друз маршем прошел вверх по долине Липпе, впадающей в Рейн почти под прямым углом, и стал прочесывать территорию, оставленную без внимания в кампании предыдущего года. Следуя вверх вдоль Липпе, он миновал истоки Эмса и прибыл на берега Везера. Здесь было сердце Центральной Германии — Вестфалия, как мы ее называем в наше время, и родина тех племенных групп, что стали настоящим центром сопротивления, — херусков.
Херуски набрали войско и отошли в леса. Римляне достигли Везера лишь в конце сезона, продовольствия было недостаточно, поэтому они повернули назад, не пытаясь захватить проход. Завоевание херусков должно было стать делом целой отдельной кампании. На обратном пути римляне попались в ловушку, выстроенную херусками в лесу, на что те были мастера. Она, однако, не была достаточно действенной, чтобы удержать римское войско. После сражения легионы пробились вперед. Друз озаботился тем, чтобы построить форпост Ализо в начале долины Липпе, на месте слияния рек Алме и Липпе. Ализо стал одним из пунктов, с помощью которых римляне удерживали контроль над Германией.
Третий год их военной кампании проходил в местах, расположенных еще выше по течению Рейна. Она была направлена против хаттов, свирепых и ужасных воинственных племен в долине Лана. Эта кампания стала самой изнурительной войной, но она завершилась покорением практически всей территории средней Германии, включая Везер, который (за исключением земли, занятой саксонскими племенами хавков далеко на северо-западе) был приведен под власть Рима.
Август предоставлял всеобъемлющую помощь. Друз, вместе с Тиберием, ведущим тогда же военную кампанию в Паннонии, был награжден почетным титулом императора. Кроме того, он получил свою первую консульскую должность. Итак, все было сделано хорошо, однако полное подтверждение всех этих почестей было впереди. Германия еще не была завоевана.
Друз и его ближайшее окружение считали и другие дела столь же важными, что и военные действия. Во время этих операций рейнская граница была надежно ограждена от германцев путем основания ряда укрепленных поселений, ставших впоследствии известными городами. От Лейдена и Нимегейна до Бонна (где Друз построил мост), Бингена, Майнца, Вормса и Страсбурга возникали города с сетью стратегических путей, и именно под началом Друза они были заложены. Кельн не был им основан, однако именно Друзу принадлежит честь основания рейнских городов. Он начал их строить, они стали развиваться. На северном берегу было установлено пятьдесят сторожевых постов.
И теперь, окруженный почетом, он двигался еще дальше вверх по реке и готовился к еще более значительной кампании.
Друз отправился из Майнца — Могунтиака, который основал в качестве военного форта. Переправившись через Везер, который теперь практически находился под его контролем, он направился на север Эльбы. Марш был продолжительным, и армия углублялась во внутренние территории, где едва ли когда-то ступала нога римлян. Друз вышел к среднему течению Эльбы где-то в районе Магдебурга. Ему было дано указание не переправляться через Эльбу, поскольку Август считал неразумным без необходимости захватывать племена, проживавшие за рекой. На ее берегах он соорудил памятный знак, чтобы пометить самую отдаленную северную границу римских владений.
Невозможно было за одну кампанию полностью подчинить всю эту огромную и дикую страну. Друз был слишком разумным командующим, чтобы пытаться захватить больше, чем в его силах. Он начал движение назад… Уже потом вспоминали о неблагоприятных знамениях. Говорили, будто перед ним возник образ огромной женщины, которая произнесла: «Куда же дальше, ненасытный Друз? Судьба запрещает тебе двигаться дальше. Возвращайся назад! Близок конец твоих деяний и твоей жизни»… Друз не был суеверен и не разделял предрассудков, используемых в качестве средства воздействия на невежд. Если его что-то и тревожило, так это сомнения в том, что если столько усилий потребовалось для того, чтобы выйти к Эльбе, то в резерве оставалось не столь много сил для успешного окончательного завоевания.
Удача покинула его, когда армия возвращалась с Заале, направляясь к Рейну. Он был сброшен конем и сломал ногу… Как бы то ни было, рана оказалась смертельной. Когда армия достигла цивилизованных мест, она везла с собой умирающего полководца.
Когда пришло это известие, Тиберий находился в Тицине на реке По, южнее Милана. Он вскочил на коня и галопом поскакал к Рейну. Тицин находился на главном почтовом пути. Через Лавмеллий и Верцеллы он мог пересечь горы в направлении Виенны, откуда воспользоваться великим рейнским путем, и, мчась, как никогда прежде или после, он успел застать Друза в живых.
Вокруг лагеря выли волки. Видели двоих скачущих юношей — без сомнения, это были Великие Братья-Близнецы. Слышался женский плач, и звезды падали с неба.
Человек, даже и рациональный, непредсказуем. Горечь волной накрыла Тиберия. Он потерял брата, которого, часто с ним не соглашаясь, любил, он потерял младшего брата, который был его приятелем и другом. Младшие братья занимают в сердцах более суровых старших братьев особое место, не зависящее от того, есть ли согласие или нет. Тиберий мог презирать Друза, он мог обижаться на то, что тот обычно забирал себе причитающуюся Тиберию любовь и восхищение, он мог устать от его поверхностности и неискренности, которыми восхищались люди; однако дети — а люди, даже вырастая, остаются детьми — всегда плачут над любимой игрушкой, которую они ежедневно ругают и ставят в угол… Как может человек прожить жизнь без любимых объектов осуждения?
Было и другое. Тиберий все больше отъединялся от людей. По мере продвижения к славе и влиянию круг его общения уменьшался. Если ему суждено было достичь вершины, он оказался бы там в совершенном одиночестве и изоляции. Потеря Друза не смягчалась тем, что при жизни он его презирал. Ушел в небытие человек, один из немногих, входивших в мир Тиберия Клавдия Нерона.
Женитьба Тиберия на Юлии была тем опытом, что неизбежно усиливал его ощущение одиночества и изоляции. В Августе жажда общения, потребность в присутствии людей и общении с ними, сделавшая его вождем, была настолько сбалансирована и подкреплена другими качествами, что казалась его сильной стороной. В Юлии эта черта развилась в полную силу и, как большинство ничем не подкрепляемых качеств, обернулась трагической ее слабостью. Она встала перед проблемой настолько трудной, что едва ли могла ее разрешить: как жить с человеком скрытным, сдержанным, сложным, не любящим разговоров и общения и руководствующимся лишь соображениями холодного ума. Он ее не любил. Ему в ней нравилось только обаяние, которым она могла увлечь, когда хотела, но которое так же легко улетучивалось в других обстоятельствах. Судьба посмеялась, соединив Тиберия с Юлией, но и Август тоже участвовал в этой глупости. Если он закрыл глаза на последствия, то дорого заплатил за развязку.
Юлия вновь состояла в браке с человеком, чьи занятия не позволяли ему тратить время на развлечения жены. Все время, пока Друз был командующим на Рейне, Тиберий стоял во главе иллирийской армии, на посту не менее ответственном. Его отсутствие в Риме дало ему время на размышления, и его деятельность говорила, что он не пренебрегал этим.
Август очень тщательно занимался воспитанием дочери. Он следил за ней, ограждал от опасных друзей и старался воспитать из нее образцовую домашнюю девушку, образ которой вплоть до наших дней считается идеалом. Однако Юлия была не только милой девушкой. Она была умной, очаровательной и острой на язык женщиной, ведущей более напряженную жизнь, чем Пенелопа. Она была одной из тех безудержных натур, что сгорают в ярком пламени и выражают себя в тех действиях, где обычное поведение представляется слишком ограниченным и тесным для выражения индивидуальности. Она не могла сдерживать свою энергию. Еще до смерти Агриппы она попала в руки человека, чье влияние стало дурно на нее воздействовать, — Тиберия Семпрония Гракха.
Гракх вошел в новый тесный домашний кружок Юлии. Состоять в браке с женщиной, имеющей постоянного спутника, не очень приятно, хотя до поры до времени это может быть занятным. Постоянное пугающее присутствие Гракха за спиной вместе с поведением Юлии, видимо, подтолкнуло Тиберия держаться от них подальше, что он и делал в первый период их совместной жизни. Однако женитьба на Юлии имела и опасную сторону, видимую одному лишь мужу. И молодой Марцелл, и здоровый Агриппа умерли преждевременной смертью, и едва ли приходится удивляться, что Тиберий встал перед выбором последовать за ними или закрыть глаза на возрастающую страсть Юлии к связям со многими мужчинами. Его естественное нежелание оказаться в любой из этих ситуаций Юлия могла принимать лишь за холодность, которой он славился. Однако она не могла распространить свою силу очарования на человека достаточно проницательного, чтобы понять, куда это приведет, и занятого другими делами, чтобы решительно воспротивиться предложенному ей сценарию. И она не сумела установить свою власть над Тиберием. Он быстро к ней охладел.
В такой ситуации женщины типа Юлии становятся опасными. У Тиберия не было ни времени, ни желания состязаться с неофициальным любовником своей жены, который, по свидетельству современников, был человек настолько одаренный и остроумный,9 что его живому уму следовало найти другое применение. Гракх удивительно преуспел в том, чтобы выставить Тиберия в невыгодном свете. Юлия слишком занята была своей значительностью и своей неотразимостью, и Гракх тщательно раздувал огонь, настраивая ее против мужа. Когда женщина в таком состоянии ума доведена до отчаяния, ее линию поведения можно уверенно предсказать. Она станет переводить стрелки. Юлия в полной мере проявила себя, заявляя о своих достоинствах и сатанинской безнравственности и испорченности своего мужа.
Она написала письмо отцу, полное жалоб и обвинений против Тиберия. Содержание этого письма до нас не дошло,10 однако слухи, распространившиеся в Риме (и ставшие известными в обществе в гораздо большей степени, чем это следовало), говорили о том, что источником их был Гракх. Август, кажется, не дал письму хода; однако оно имело некоторый эффект. Его чувства, без сомнения, были взбудоражены. С одной стороны, он хотел быть справедливым к Юлии, с другой — не хотел верить в серьезность обвинений против Тиберия. В таком подвешенном состоянии и осталось все дело.
В некоторой степени это было уже не столь важно. В конце концов, Юлия выполнила свое предназначение, произведя на свет наследников верховной власти Луция и Гая Цезарей. После того как общий ребенок Юлии и Тиберия умер во младенчестве, они стали жить порознь. Дочь Августа не собиралась отказываться от окружения почитателей, друзей, льстецов и наушников. Она могла иметь все, что хотела, и у нее появилась возможность удовлетворять все свои желания и потребности, не задевая чьих-либо интересов — если не принимать во внимание унижение достоинства Тиберия. И здесь тоже у него был повод для разочарований. Муж, который жалуется на неверность своей жены, не унижая при этом собственного достоинства, должен бы иметь какие-то иные причины для личного удовлетворения, чем Тиберий не обладал. Он лишь однажды видел Випсанию после развода с ней, и взгляд его выражал такие чувства, что ему больше никогда не позволили встречаться с ней.
Видимо, с этого времени стало распространяться скрытое предубеждение против Тиберия, исходившее из кружка Юлии, но никто не мог подтвердить или выразить словами порочащие сведения. Когда через несколько лет это окружение Юлии пыталось обнародовать их, они оказались в высшей степени противоречивыми и бессвязными. А когда вскрылось собственное поведение Юлии, не возникло особых сомнений относительно действий, в которых она участвовала. Тиберию, должно быть, это было известно с самого начала. Он хранил тайну Юлии. Возможно, после всего случившегося трудно было жаловаться Августу, и, даже если бы он так поступил, вряд ли он мог рассчитывать на благосклонный прием. Раскаявшаяся и изменившаяся Юлия, которую пожурил бы и оправдал отец, ввергла бы его в отношения еще более постыдные, чем Юлия своенравная. Правда заключалась в том, что Тиберий никогда не хотел иметь с ней дела. Однако коль скоро он совершил ошибку и на ней женился, он должен был молчать ради собственной же пользы. Августу ничего не было известно, а если до него и доходили слухи о ее поведении, то в столь смягченном варианте, что он не считал нужным вмешиваться. Его собственное мнение о чрезмерной серьезности и некоммуникабельности Тиберия, видимо, объясняло ему те легкие расхождения между супругами, которые могли возникнуть. Жизнь полна горькой иронии.
Смерть Друза стала еще одним несчастьем в этих пагубных событиях. Тиберий сопровождал тело в Рим: его биограф сообщает, что весь путь он прошел пешком. После того как погребальный костер прогорел, прах Друза был помещен в мавзолей Августа. Были произнесены две памятные речи: одна — Тиберием на Форуме, а другая в цирке Фламиния самим Августом.11 Он молил о том, чтобы его внуки Гай и Луций оказались такими же людьми, как Друз. Он смягчил свои сомнения, выразив желание, чтобы, когда придет время, он смог бы встретить смерть так же славно, и, возможно, его аудитория поняла с некоторым смущением, что оба пожелания весьма маловероятны.
Почетный титул Германик был присвоен Друзу и его детям. В Майнце, который он основал и укрепил, были возведены кенотафий (надгробный памятник) и триумфальная арка, чтобы на века оставить в памяти потомков деяния человека, который основал провинцию Германия.
Смерть Друза имела гораздо более глубокие последствия и более долгосрочные изменения, чем просто любое личное горе. Это был удар для партии, которая все еще надеялась на восстановление сенатского правления. Друз, привыкший выражать интересы своих друзей, в той или иной степени вдохновлял их политические устремления. Его намерения в этом направлении, без сомнения, были потом преувеличены; ведь хотя и было объявлено, что он и Август в результате разошлись во взглядах, запало в души само желание, чтобы все именно так и обернулось. Между ними никогда не было видимого расхождения. Было нечто гораздо более глубокое и продолжительное. Друз не закончил завоевание Германии. Весь ход современной истории был бы иным, заверши он это завоевание; и, даже если бы позже Отон и Фридрих все-таки смогли примерить имперскую римскую корону, это произошло бы на совсем иных условиях. Можно было бы избежать сотен лет войны, борьбы и человеческих страданий. Могло не быть Великого переселения народов, Римская империя на западе никогда бы не пала, германские императоры могли бы, как ранние иллирийцы, находиться у власти без долгой борьбы, которая ввергла Европу в темные века, вся великая бурлящая мощь народов, населявших Балтику, была бы цивилизована еще до того, как они развили морское строительство до совершенства, и не для того, чтобы завоевывать Европу, почти уничтожив цивилизацию.
Еще тогда люди понимали, что на мир обрушилась великая и ужасная трагедия. Трудно было предвидеть результаты отсутствия романизации Германии. Было неясно даже, возможно ли вообще ее подчинить. Споры вокруг этой военной проблемы продолжались довольно долго.
Но в действительности смерть Друза означала уход последнего человека, у которого были возможность и энтузиазм для выполнения этой задачи. Средства, личность и возможность так больше никогда и не сошлись.
Тиберий возвратился в Германию, чтобы принять командование. Он опять стал правителем Галлии и командующим рейнской армией. Август, прежде предоставивший Друзу полную свободу действовать самостоятельно, в этот раз сопровождал Тиберия. Оставалось многое сделать. Следовало организовать завоеванные Друзом территории и убедить германцев в том, что они не выиграли войну. Все еще были неспокойны сикамбры, считавшие, что еще не все потеряно. В первую очередь надо было умиротворить этих опасных соседей. Одним из удивительных действий Тиберия было переселение сорока тысяч людей на территории к югу от Рейна, где они оставались бы под контролем.
Задача заселения новых территорий целиком легла на плечи Тиберия. Это была гораздо более деликатная задача, чем завоевание, она требовала таких качеств, как такт и расположение, присущих не каждому и которых не ожидали от Тиберия. То, что он с ней превосходно справился, подтверждается успешным завершением его операции. Со стороны германцев не было никаких недовольств, пока за дела в провинции не взялся человек совсем другой направленности.
Он не предпринял ни одной попытки силой вводить римские институты среди германских племен. Он оставил представителей римских магистратов и римские войска, чтобы постепенно осознание закона распространилось на племена, для которых и то и другое было внове. Однако он не ввел никаких новых налогов и не стал принуждать ни одного из жителей поступать во вспомогательные войска. Еще придет время, когда до них начнет доходить идея римской государственности, и они станут испытывать некоторую гордость за то, что участвуют в ней.
Никогда еще ни до ни после личность германца не производила столь адекватного впечатления на их завоевателей. Но одно дело понимать их возможности, другое — знать, как с ними справиться. Никто не мог столь успешно иметь с ними дело, как Тиберий Клавдий Нерон. Его разборчивость, возможно, была причиной его несогласия с проектом удерживать Германию с помощью силы. С самого начала его политической карьеры мы могли заметить, что сам Тиберий всегда предпочитал улаживать дела с помощью дипломатии, а не с помощью силы: когда обстоятельства не позволяли этого, он искал самый оптимальный вариант.
После смерти Друза Август стал ближе к Тиберию. Безусловная компетентность старшего брата сделала его постоянным и надежным помощником Августа; все, что Тиберий делал, он делал хорошо. Смерть Мецената, последовавшая в следующем году, должна была усилить ощущение, что верные соратники постепенно покидают Августа… Ушли Агриппа, Меценат, Друз — его любимец среди молодого поколения… Правда, Меценат уже несколько лет как отошел от политики, он спокойно доживал на окраине мира, наслаждаясь роскошной, культурной жизнью, и весьма вероятно, что время от времени они встречались. Его не так легко было заменить.
Однако терпение Тиберия было на исходе. Его слишком долго оставляли на вторых ролях, за ним слишком долго и пристально наблюдали, когда ему следовало доверять, его слишком часто заставляли удостоверяться, что привлекательность и общительность других значат больше, чем способности и эффективная работа человека скромного и молчаливого. Его насильственный развод с Випсанией и женитьба на Юлии весьма усугубили это общее горькое чувство. Потеря Друза, возможно, и не усилила это ощущение, однако еще раз подчеркнула его стремительную изоляцию от симпатизирующих ему людей. Август, сам чувствительный к потере друзей, запоздало стремился наладить дружеские отношения с ним.
Важность выполняемых Тиберием дел получила признание в его избрании на консульскую должность во второй раз в компании со знаменитым Гнеем Кальпурнием Пизоном. Август предпринимал серьезные попытки утешить и взбодрить его. Возможно, он знал о натянутых отношениях между Тиберием и Юлией, хотя мог и не иметь представления об истинной их причине или догадываться лишь отчасти. Отдаление умного и способного человека, которого он предполагал сделать защитником и опорой для сыновей Юлии, могло обернуться катастрофой для него самого. Соответственно он внес предложение, чтобы Тиберий получил трибунскую власть на пятилетний срок.
Это предложение могло привлечь Тиберия, поскольку было серьезным продвижением на политическом поприще. Трибунская власть была одной из главных основ, на которой держалась власть принцепса. Получая ее, Тиберий значительно выше продвигался по ступеням к высшей власти в государстве, это также означало, что теперь он мог заняться недоступными прежде делами. Лишь ограничение срока отделяло его от возможности со временем занять высшую должность — а он не мог на это рассчитывать, пока были живы сыновья Юлии… Итак, продвижение со стороны Августа следовало принимать всерьез, и Тиберий принял оказанную ему честь.
Именно в этот момент и произошел разрыв.
Глава 4
СПАСЕНИЕ ТРЕТЬЕГО МУЖА ЮЛИИ
Отношения Тиберия и Юлии, и прежде напряженные, достигли точки кипения. Мы не знаем точных причин этого, даже Август в то время не знал их полностью, тем не менее о том, что причина была серьезной, можно догадаться по последующим событиям. В чем бы ни заключалась причина, Тиберий держал ее в секрете, а Юлия также не горела желанием сделать это всеобщим достоянием. Совершенно неожиданно очень решительно Тиберий отказался от карьеры, распустил всех помощников, отряхнул римскую пыль со своих сандалий и удалился на Родос, где и оставался в течение семи лет.
Он не мог уехать без согласия императора, однако мы можем только догадываться, на каких условиях дал согласие удивленный и не желавший этого Август. Ясно, что Тиберий не назвал истинной причины. Он просил дать ему передышку, поскольку очень устал от дел и нуждался в отдыхе… На помощь призвали Ливию, но Тиберий оставался тверд и непреклонен перед ее уговорами и мольбами. Август публично огласил свое мнение в сенате: он полагал, что его покидает человек, на помощь которого он рассчитывал. Тиберий ответил голодовкой. После четырехдневного голодания они уступили. Едва получив необходимое разрешение, он поспешил в Остию, практически не попрощавшись, и поднялся на корабль, не сказав ни единого слова немногим его провожавшим.
В Риме никто не сомневался, что причиной тому была Юлия;12 однако даже римские сплетники не могли винить его. Они, видимо, слишком много знали… Впоследствии Тиберий объяснял свой поступок тем, будто он намеренно удалился из Рима, чтобы избежать нежелательного соперничества с сыновьями Юлии. Никто не верил, что это было истинной причиной, и это оставляло его отъезд подозрительным и необъяснимым в глазах окружающих.
Он отплыл из Остии, преследуемый злорадной враждебностью друзей Юлии. Достигнув Кампании, он услышал, что Август болен, и прекратил свое путешествие. Несомненно, кружок Юлии распространял слухи, что он с нетерпением ожидал смерти Августа. Эта клевета ясно указывала, откуда ветер дует. Узнав о том, что с Августом все в порядке, он тотчас продолжил свой путь к Родосу.
То, что он остановил свой выбор на Родосе, возможно, обусловлено тем, что он сохранил приятные воспоминания от посещения острова много лет назад, когда сопровождал Августа в его поездке по восточным провинциям. Он обустроился так, как примерно обустроился бы любой современный военный или государственный служащий, и занял небольшой дом в городе и, как сообщает Светоний, небольшую сельскую виллу. Он вел очень простой образ жизни, не отличаясь от соседей, носил греческое платье и принимал участие в общественной жизни острова.
Семь лет — долгий срок в жизни человека. Тиберий провел свое добровольное изгнание главным образом в занятиях науками. Он был хорошо образованным человеком для своего времени и положения, читал по-гречески так же свободно, как и по-латыни. Он регулярно посещал лекции местных философов и во время пребывания на острове заинтересовался астрологией, интерес к которой сохранил на всю жизнь. Это показывает, что он обладал вкусом, ибо астрология, как бы к ней теперь ни относились, была астрономической наукой того времени и включала в себя изучение математики, что в дальнейшем и позволило ей стать астрономией в современном смысле. У него были сомнения относительно ее предсказательной части, однако Трасилл, под руководством которого он занимался, был очень способным и образованным человеком, и, на долгое время оставаясь его другом, он сумел смягчить тот скептицизм, с которым Тиберий поначалу воспринимал эту область знаний.
Родос был приятным местом для изгнания. Это был оживленный торговый центр неподалеку от больших азиатских городов, имевший связи с Александрией, он располагался практически в центре того мира, где сосредоточилась новая интеллектуальная жизнь, удаленная от политических баталий Рима и от свирепых битв рейнской границы… Когда Тиберий находился на Родосе, в Иудее в Вифлееме родился Иисус, сын Давида… Тиберия это не отвлекло от занятий, ни его, ни Трасилла ни одна звезда не позвала за море.
Поскольку он вращался среди людей, не интересовавшихся политической жизнью Рима, истории, рассказываемые о его жизни на острове, лишены политической окраски. Личность Тиберия, если так можно выразиться, без официальных одежд весьма интересна. Он обладал истинным республиканизмом, который вообще характерен для римской аристократии. Мы видим его разгуливающим без всяких церемоний, обменивающимся любезностями совсем на равных со всеми встречными. Он решает посетить больных13 — это обстоятельство стоит запомнить, когда мы будем знакомиться с историей его жизни в последние годы: его намерение было неверно понято, поскольку Тиберий, выйдя из дома, намеревался навестить больных по очереди в соответствии с их заболеваниями, но их снесли и уложили в портике, чтобы он мог с ними познакомиться. При виде такой неожиданной картины он лично извинился перед больными людьми за причиненные им неудобства. Рассказывают о том, как он участвовал в местной философской дискуссии. Здесь единственный раз он использовал свое скрытое официальное положение и проявил трибунскую власть. «Когда однажды между несговорчивыми мудрецами возник жестокий спор, он в него вмешался, но кто-то из спорящих тотчас осыпал его бранью за поддержку противной стороны. Тогда он незаметно удалился домой, а потом, внезапно появившись в сопровождении ликторов, через глашатая призвал спорщика к суду и приказал бросить его в темницу».14
Тем временем то, что скрывал Тиберий, выдала сама Юлия. После его удаления на Родос ее падение было стремительным и ужасным. Август последним узнал правду. Задолго до того, как до него дошли слухи о ее поведении, Юлия стала предметом самого ужасного и громкого скандала. Не будь она дочерью Августа, эти слухи, возможно, не имели бы такого общественного резонанса, однако в данном случае скандал достиг своей высшей точки.
Так не могло дольше продолжаться, и нам остается только гадать, отдавала ли сама Юлия отчет в том, что делает, или ее охватил некий род безумия. Подозревают, что Ливия Августа первой намекнула Августу, что надо бы все выяснить. У него была власть и возможность получить ответы на интересующие его вопросы, и первые ответы повлекли за собой расследование, которое, наконец, обнаружило все остальное. Действия и поведение Юлии вряд ли выглядели бы мрачнее и изощреннее, даже если бы они были выдуманы нарочно. Для Августа это был удар, от которого он так никогда и не оправился.
По меньшей мере пятеро мужчин из высшего сословия были участниками скандала, связанного с ее поведением: Юл Антоний, сын триумвира, которого Август простил и приблизил к себе, относясь к нему столь милостиво, насколько это вообще было возможно, учитывая взаимоотношения с его отцом, Аппий Клавдий, Сципион, Гракх, который был первопричиной всех бед, некий Квинтий Криспин, а также другие мужчины не столь высокого ранга, ибо Юлия была поразительно безотказной в определенном смысле слова. Более того, большая часть этих скандальных оргий происходила на публике, и не только на Форуме, но и на рострах, возвышениях, с которых ораторы обращались к народному собранию… Участники скандала были, вероятно, пьяны, однако эта вероятность лишь усугубляла их вину… У Августа был дополнительный повод для опасений, кроме пьяных скандальных выходок. В какой степени они были связаны с политикой? Об этой стороне дела нам почти ничего неизвестно. Если у Августа и была какая-либо серьезная информация, он держал ее при себе. Юл Антоний предпочел покончить с собой, лишь бы не видеть последствий. Верная служанка и сводница Юлии вольноотпущенница Феба повесилась. Все, кто был замешан в скандале, были взяты под стражу.
Ярость Августа была безгранична. Он редко терял самообладание и не принадлежал к тому типу холериков, которые легко впадают в ярость. Он был холодным, разумным человеком, подверженным гневу лишь в минуты опасности или когда не владел ситуацией. Юлия, должно быть, знала, что прощения не будет. Она опозорила своего отца. Он мог бы перенести некоторый урон своему престижу ее аморальным поведением. Он и сам не был святым. Но то, что она сделала, вынести было нельзя. Он даже думал о предании ее уголовному суду. Услышав о самоубийстве служанки Фебы, он, говорят, воскликнул: «Жаль, что я не отец Фебы!» Юлия намек не поняла.
Поскольку в Риме было известно уже все и даже более того, он обратился к сенату, изложив обстоятельства и рассказав о своих намерениях. Решение Августа прочитал квестор в его отсутствие. Он долго еще никого не хотел видеть.
Любовники Юлии были казнены или отправлены в изгнание. Сама Юлия была сослана в заключение на остров Пандатария, и это стало концом ее карьеры.
Тиберий, узнав об этом серьезном деле из предписания развестись с Юлией, попытался написать ее отцу и приложил все усилия, чтобы помирить свою жену с ним. Август ничего не хотел слышать и никогда больше до конца жизни не откликался на попытки смягчить наказание Юлии или помиловать ее. Все, что мог сделать Тиберий, это подтвердить, что все подарки жене остаются при ней. Насколько они были серьезны, мы не знаем, однако мужчина, как правило, не экономит на подарках жене, отец которой является императором, и, вероятно, это была довольно солидная сумма. Во всяком случае, ни один автор не указывает, что она его за это поблагодарила…
Ее заключение на Пандатарии было суровым. Ей не полагалось вина и никаких роскошеств. Уже после прибытия на остров она родила ребенка, однако по приказу Августа он был умерщвлен. Ни один мужчина не допускался на свидание с ней без особого разрешения, и то лишь при установлении его личности и описания его внешности. Два человека, планировавшие ее освобождение, были разоблачены и казнены. Один из ее вольноотпущенников был обнаружен с ножом в руке под кроватью Августа. Ее содержали так же строго, как государственных преступников в Бастилии. Эти предосторожности доказывают, что Август верил в существование заговора и в то, что ее могут использовать в качестве орудия. Пандатария была местом более приятным, чем Бастилия, однако охранялась так же строго. Лишь пять лет спустя эти суровые меры были несколько смягчены, и это было после того, как Тиберий возвратился в Рим.
Скандал разрастался и вширь и вглубь. Он сказался и на положении Тиберия. Теперь у него не было особых причин оставаться на Родосе, продолжая добровольную отставку. Более того, истекал пятилетний срок его трибунских полномочий, а вместе с ними и личная неприкосновенность, сопровождавшая эту должность. Он испросил позволения навестить своих родственников, приложив к петиции объяснение, что теперь, когда Гай и Луций уже выросли, он более не представляется им соперником, и этот вопрос сам собой отпал. Однако еще не было покончено с Юлией и ее друзьями. Август просьбу отклонил. Ливия выхлопотала для сына должность легата, что давало ему официальный статус и легальную защиту на острове, и он остался на Родосе, правда теперь уже не столь охотно, как прежде.
Итак, по сравнению с прежним положением Тиберия теперь, с падением Юлии, для него начался этап неудач. Стала распространяться легенда о том, что он — мерзкий тип, всегда бывший злейшим врагом Юлии и враждебно относящийся к ее сыновьям, юным Цезарям. Слухи передавались до тех пор, пока его прежнее приятное пребывание на Родосе не превратилось в нелегкое изгнание. Август, назначив юных Цезарей наследниками и будущими преемниками, не имел иного выбора, кроме как идти навстречу их желаниям. Тиберий вел себя крайне скромно. Он избегал общества, чтобы не быть объектом ложных слухов: однако любое значительное официальное лицо, следовавшее на восток, заглядывало к нему, и не имелось никакой возможности отклонить посещения, не нанеся им оскорбления.
Причина его бед стала еще более очевидной, когда Гай Цезарь получил назначение в Азию и проплывал через Самос. Тиберий не упустил случая и пересек море, чтобы нанести пасынку визит вежливости. Прием, который ему оказали, не слишком вдохновлял. Гая сопровождал его наставник Марк Лоллий, которого Тиберий в свое время сместил с поста наместника Галлии после набега сикамбров, в результате чего в руки врагов попал орел Пятого легиона. Лоллий постарался встретить его как можно враждебнее. Для этого у него было много возможностей, и он отравил душу молодого Гая теми сплетнями, которые распространяли относительно Тиберия друзья Юлии.
Легко понять, что Тиберий никогда не был в восторге от потомства длинноносой Юлии, которые унаследовали гораздо больше от своей матери, чем от отца Агриппы Випсания. Он прекрасно сознавал, что из его пасынков не обещало выйти ничего выдающегося. Сам Август начинал понимать это. Однако именно тупость делала их еще более опасными. Они уже обладали колоссальным влиянием, при этом у них не было ни ума, ни характера, которые могли бы ими руководить, а ничего нет опаснее дурака при власти. Когда Тиберия обвинили в том, что его посетил некий центурион и через него он якобы отправил послания подозрительного и мятежного характера различным друзьям, Август переправил это обвинение самому Тиберию, требуя ответа. Тиберий предложил, чтобы кто-нибудь — не важно, какого звания — был послан для разбирательства, чтобы подтвердить или опровергнуть обвинения. Август не стал тратиться на жалованье человеку, который бы этим занялся, и следователя не направили.
Тиберий перестал упражняться в скачках и с оружием, а также стал носить исключительно греческое платье. Но никакие его действия не могли уже остановить этот поток обвинений. Жители Немавса уничтожили его портреты и статуи. Сам Август оказался в центре этого потока сплетен и инсинуаций. Кульминацией стало происшествие на обеде в Риме, на котором присутствовал Гай Цезарь, и один из гостей, Кассий Патавин, поднялся и сказал, что изгнанник полон желания и решимости заколоть Августа, а затем предложил отправиться на Родос и привезти голову Тиберия, если Гай скажет лишь слово. Это заставило Тиберия написать возмущенное письмо, как вообще можно допускать такие речи, а также потребовать разрешения вернуться в Рим, чтобы самому ответить на оскорбление.
Сам Август, который никогда не хотел, чтобы Тиберий покидал Рим, с радостью согласился. Он написал ему очень дружелюбное и слегка шутливое письмо, убеждая Тиберия (которому было сорок два года) не обращать внимания на проделки пылкого юноши. Достаточно того, что мы можем предотвратить дурные поступки людей, хотя и не можем заставить их о них не говорить. Тем не менее Кассий отделался лишь ссылкой.
Но хотя Август не оставлял без внимания такие вещи и понимал их значимость, он не чувствовал себя вправе удовлетворить требования Тиберия без согласия Гая Цезаря, и дело было бы оставлено без внимания, но здесь произошли события, вновь изменившие привычное течение жизни.
Луций Цезарь умер в Марселе по пути в Испанию, таким образом, не оправдалась еще одна надежда Августа.
Император перенес удар гораздо тверже, чем можно было ожидать. Но ему было уже шестьдесят пять лет. Он мог рассчитывать еще на несколько лет, и теперь перспектива наследования оставалась за его единственным внуком Гаем Цезарем, очень молодым, неопытным и совершенно не обученным делам, не слишком много обещавшим в будущем и некрепким умом и телом. Сможет ли Гай вынести тяжесть империи, завоевание которой потребовало всей дипломатии Августа, всей мировой мудрости Мецената, всей энергии Агриппы, всех их объединенных сил, которым помогали молодые способные Тиберий и Друз? Маловероятно. Ему понадобился очень крепкий тыл, и его мог обеспечить лишь человек, чью голову грозились привезти с Родоса… Он обладал отчасти энергией Агриппы и дипломатическими способностями Августа, был испытанным, не поддавшимся соблазнам. Невозможно было игнорировать медленные шаги, которыми Тиберий продвигался к верховной власти.
Он не делал никаких попыток взять власть, не торопил предвидимые им события. Он, в сущности, оставил поле боя свободным для молодых Цезарей и удалился от всякого соперничества и даже от подозрений в нем; и несмотря на то что, поступив так, он, возможно, демонстрировал их собственную несостоятельность, он действовал в рамках закона, не выпячивая себя и никак не стараясь влиять на результат. Таким образом, у Августа не было ни единого повода для колебаний. Он охотно принял и стал продвигать вперед человека поистине сильного характера, для того чтобы стать его преемником. Он не мог спастись от неизбежного хода вещей. Он никогда не любил Тиберия. Даже в конце жизни он сожалел, что должен отдать власть в его руки, и отчасти театрально, отчасти всерьез сочувствовал римскому народу, попадающему в медленно жующие челюсти этого властного и неуправляемого человека.
Август передал просьбу Тиберия Гаю. Как раз в это время Гай рассорился с Марком Лоллием. Не испытывая более его враждебного по отношению к Тиберию влияния, Гай мог только заверить деда, что у него нет возражений против возвращения Тиберия при условии, что тот не будет принимать участия в политических делах.
Тиберий возвратился в Рим без особого восторга и без уступок со своей стороны. Он покинул Рим в тридцать шесть лет, возвратился в сорок три. Разочарованный, с глухим отчаянием в сердце, с одиночеством, все более окружавшим его, он прошел тот великий перелом, сорокалетний возраст, которым завершается духовное развитие каждого человека.
Такая же перемена произошла и с Тиберием. В Рим с его политическими баталиями вернулся более возмужалый и решительный человек, чем тот, что смотрел на звезды на Родосе. Он понимал, что может позволить себе ждать. Он поселился как частное лицо и два года занимался своими делами. Затем события, возможно и ожидаемые, стали стремительно нарастать. Раненный в Армении Гай Цезарь умер в Ликии.
Смерть Гая полностью нарушила баланс сил в Риме. Это случилось после того, как Юлии позволили покинуть Пандатарию и поселиться в Регии на Мессинском проливе; ей разрешили жить в городе, но запретили его покидать. Она больше не могла нанести вред своим сыновьям, да и Август несколько смягчился. Большая часть его надежд и ожиданий теперь исчезла. Единственным оставшимся в живых сыном Юлии, имевшим некоторый шанс, был Агриппа Постум, но каким человеком он себя покажет?
Даже самый сильный и мудрый не может изменить судьбу. Что бы ни делал Август, ему во всем сопутствовал успех, однако было в его жизни нечто, что управлялось силами более могущественными, чем его собственные. Тиберий приблизился к власти почти автоматически. Старший сын Друза, юный Германик, был девятнадцатилетним юношей и весьма многообещающим молодым человеком, и он выказывал черты характера, которые позволяли возложить на него надежды, которые в свое время возлагали на его отца. Он, однако, еще не был обучен. Единственный сын Тиберия, названный Друзом в честь дяди, юноша гораздо менее привлекательный, был того же возраста. Казалось, имперская сцена была занята исключительно потомками фамилии Клавдия Нерона.
В отсутствие Гая и Луция Цезарей Август усыновил Агриппу Постума и Тиберия как своих наследников: первого — потому что в его жилах (через Юлию) текла его кровь, второго — потому что он был единственным человеком, способным вынести бремя империи. В отношении обоих он сделал это неохотно. Что касается Тиберия, откровенно говорил, что думал лишь о благе государства. Разные чувства, которые он к ним испытывал, отразились в разных способах усыновления. Луция и Гая он усыновил по старинному обычаю, покупая их у отца по законам частного права. Взрослых Агриппу и Тиберия он усыновил в соответствии с более формальной процедурой в курии. И, несмотря на все, Август не очень убивался от потери внуков Гая и Луция. Со времени скандала с Юлией он стал более трезво смотреть на вещи.
Постепенно становилось ясно, кто станет преемником Августа… Тиберий взялся за исполнение новых обязанностей жестко и рьяно, ничем не выражая своих эмоций. В возрасте сорока пяти лет он отказался от положения главы рода Клавдия Нерона и принял статус сына дома Цезарей. В глазах закона теперь он был Тиберий Цезарь. Как часть сделки было оформлено и усыновление им своего племянника Германика как наследника и преемника.
Агриппа Постум вскоре показал себя с такой стороны, что исключило его из списков кандидатов. Его вкусы были извращенными, характер — диким. Он был младшим сыном Юлии, рожденным после смерти отца Агриппы, когда Гракх был ее любовником. Он становился все хуже и хуже. В конце концов стало ясно, что он психически неполноценен. Август сам предпринял меры, чтобы исключить внука из числа наследников. Его сослали на остров Планазию, и декретом сената его пребывание там объявлялось постоянным. Агриппа был невменяем.
Это был крах надежд Августа. Он теперь едва ли упоминал имена Юлии и Агриппы.
Итак, потомство Скрибонии сошло со сцены, и его место заняли потомки Ливии.
И все же не полностью. Хотя политические браки, устраиваемые Августом, обернулись полным крахом, этот опыт его ничему не научил. Его подталкивали к еще одной попытке обойти судьбу в надежде на то, что когда-нибудь его потомки займут его место. Когда Тиберий был занят в германских походах, Август организовал свадьбу Агриппины, дочери Юлии и Агриппы, с Германиком: этим он создал один из самых ядовитых зубов дракона, семя, впоследствии давшее ужасный урожай.
Этот брак, казалось, должен стать удачным. Агриппина была одной из лучших и способных дочерей Юлии, не замешанная ни в одном из ее скандалов. Ей было около девятнадцати лет, и ни одно из похождений Юлии не очернило ее имя. Поскольку всезнание несвойственно человеческому роду, Тиберий не стал возражать.
Именно после усыновления Августом у Тиберия состоялась его вторая и успешная военная карьера. Он снова принял командование войсками на Рейне, и после долгих лет мирной жизни рейнская армия радостно приветствовала командира, которому доверяла и который должен был наследовать Августу.
Тиберий приступил к своим обязанностям на Рейне в особенно благоприятный момент. События последующих лет показали, что среди воинственных вождей вызревали серьезные и широкие замыслы. Его желание уехать с Родоса скорее объяснялось тем, что такие планы уже активно обсуждались, чем личным страхом мести со стороны друзей Юлии. Два пустых года, прошедшие со времени его возвращения, были не слишком долгим периодом для необходимых обсуждения и подготовки. Столь мощная военная машина, как римская армия во времена Августа, не могла быть задействована без тщательной подготовки и без серьезной причины. Теперь обсуждался не вопрос о простой карательной экспедиции, но о том, чтобы закончить начатую Друзом задачу неимоверной важности — очищение северной границы.
Тиберий не участвовал в принятии решений, осуществить которые был призван. Политические причины такой военной активности диктовались людьми, непосредственно участвующими в делах на севере, по этой причине возник и сам вопрос: где должна проходить граница — по Рейну или по Эльбе? В этом споре верх взяла точка зрения Августа и Тиберия. Оба были против авантюрных действий за Рейном, оба сомневались в возможности завоевания всей Германии. Прежде рейнская армия и Друз доказывали обратное, теперь Август столкнулся с результатом политики, которую тогда сумел отстоять Друз. Он вынужден был принять неизбежное и действовать в соответствии с необходимостью, которой в других обстоятельствах он постарался бы избежать.
Однако отсутствовал командующий, обладавший необходимым влиянием и опытом. Для Августа было вдвойне удобно — он гордился своей экономной политикой и должен был изыскать средства для ведения войны, — что в этот момент он может положиться на Тиберия. У Тиберия были не только положение и умение, требуемые для ведения такой войны, но он еще и разделял точку зрения Августа, вряд ли изменив ее с тех пор.
Суть дела заключалась в том, что германцы, однажды осознав свою собственную ситуацию, воспринимали у римлян идеи и методы с такой тщательностью и стремительностью, какую выказали японцы девятнадцать столетий спустя. Опасность политики на Эльбе состояла в том, что предусматривалась встряска самих германцев от привычного спокойного, сонного состояния их древних племенных институтов, предусматривался их выход из состояния местной обособленности и появление более обширных общих планов. На практике эта опасность реализовалась в устрашающей степени.
Она возникла тогда, когда дети, впервые увидевшие армии Тиберия и Друза, подросли и стали взрослыми. Среди молодых заложников, посланных в Рим после завоевания Реции, Винделикии и Норика, был юноша по имени Маробод из царского дома племени свевов. Его личность и сообразительность вызвали интерес Августа, и мальчик получил образование в Риме, соответствующее его положению. По возвращении домой он решил использовать на практике полученные им знания. А они заключались в теории и методах политической организации.
Мы настолько привычны к политическим концепциям общественных организаций, что нам трудно себе представить, что раньше люди воспринимали это такой же новостью, как и революционные идеи. Они стали столь же новы для германцев I века, как и концепции современного европейского общества для востока века девятнадцатого. С их помощью общество могло быть переустроено и изменено, и люди, что плелись позади прогресса, могли быть защищены от порабощения соперниками, на практике использовавшими полученные уроки. И они встречали ту же оппозицию от сторонников старых порядков, которую всегда порождают новые идеи, с такой же точно оценкой своих действий.
Маробод был первым из северных царей, который на практике использовал политическую концепцию общественной организации, отличную от старой племенной системы. И он не был последним. Его успех потом был осмыслен другими. Он уже добился превосходства над свевами и маркоманами в верховьях Эльбы, с этой начальной точки он начал создание огромного царства, с центром в тех древних богемских землях, где было ядро цивилизации Северной Европы. Его южные пределы от Рааба, где находится современный Регенсбург, доходили до Дуная, достигали границ современной Венгрии и уходили на неопределенное, но значительное расстояние в глубь страны.
Не столь большое значение имели размеры царства Маробода, как сам факт его основания. Он создал и обучил практически по римскому образцу армию из семидесяти пяти тысяч человек, пеших и конных. Кроме того, у Маробода было точное понимание того, как установить свое царство в качестве постоянной вотчины. Он не собирался основывать его как романтическую авантюру, это должно было быть предприятие, основанное на строгих деловых принципах. Его армия носила оборонительный характер. Он воспитывался около Августа и воспринял теоретические основы войны и понимание значимости мира.
Если бы его царство располагалось вдали от римских границ, римляне, возможно, и порадовались бы тому, как римская цивилизация влияет на культуру с более низким развитием. К несчастью, оно находилось, как отмечали римские военачальники, на очень неудобной для римлян позиции относительно новых провинций Германии и Паннонии. Существенным было то, что оно занимает территории в верхней части долины Эльбы, так что планы римлян насчет отнесения своих границ к Эльбе, а затем до Дуная следовало либо отменить, либо потеснить Маробода; кроме того, оно углубилось внутрь страны в самой середине римской границы, и, если не занять эти территории, они контролировали бы и Германию и Паннонию. Военные не сомневались в мирных намерениях Маробода, однако у них были свои обязанности, куда входило устранение опасности военной угрозы римским границам. Маробод не мог дать гарантии того, как поведут себя его преемники. Военным было нетрудно выказать свое отношение по этим вопросам. Август и Тиберий, как бы ни желали не ввязываться в северную авантюру, едва ли могли им возразить.
Главная линия поведения, кажется, диктовалась теми соображениями, что основная трудность улаживания дела с Марободом заключалась в возможности мятежа в Германии или вдоль Дуная. Либо Германия, либо Паннония — или обе вместе — могли воспользоваться подходящим моментом, когда римские войска были заняты войной с Марободом. Тиберий принял командование на Рейне.
Он переправился через Везер в 4 г. и покорил племена херусков, жившие между Везером и Эльбой. Это продолжило дело, не законченное Друзом. Основные стратегические концепции оставались теми же, что и при Друзе, с некоторой разницей в деталях. Однако прибавилась и серьезная подготовка операции. Херуски были самым сильным и наиболее опасным из германских племен, граничивших с верхним течением Везера. Их покорение бы парализовало германское сопротивление и одновременно имело цель блокировать коммуникации с верховьями Эльбы. Тиберий не вернулся на Рейн. Он зазимовал в Ализо, в форпосте, основанном Друзом. Впервые римская армия зимовала севернее Рейна.
Его вторая германская кампания была самой показательной кампанией, когда-либо проводившейся римским полководцем. Он занял бассейн низовьев Эльбы и дошел до границ, которые с той поры оставались нетронутыми до времен Карла Великого спустя семьсот пятьдесят лет. Хавки (которые вновь появились на исторической сцене как члены великой конфедерации саксонских племен) были покорены, лангобарды, будущие покорители Италии, — завоеваны. Флот действовал совместно с сухопутными войсками. Устье Везера было границей судоходной военной операции Друза шестнадцатью годами ранее. Тиберий вошел в устье Эльбы и завез по морю продовольствие для сухопутной армии. Его флот прошел Эльбу и достиг Кимверийского полуострова. Племена, проживавшие к северу от Эльбы, выслали посольство с объявлением дружеских намерений — харуды и кимвры с Крайнего Севера, а также семмоны, с которыми позже сражались англы… Об англах нам пока еще ничего неизвестно.
Неодолимая романтика севера, которая в позднейшие времена так влекла множество людей, отразилась в одном из рассказов об этой кампании. Некий престарелый сторонник мира в одиночку прошел по Эльбе на своей лодке только для того, чтобы пожать руку Тиберию. Он пожал ему руку и отправился в обратный путь… Это могло послужить сюжетом для многих томов в качестве символа вещей, выражаемых этой легендой.

Тиберий, тем не менее, не участвовал в завоевании Германии, его две германские кампании в 4-м и 5 гг. были скорее демонстрацией силы. Как таковые они достигли своей цели. Племена, проживавшие на Крайнем Севере, очевидно, поразились, но были не слишком встревожены: они приветствовали его как редкого гостя, не рассматриваемого в качестве постоянного поселенца, они оставались незаинтересованными наблюдателями разворачиваемой более серьезной войны.
Подготовка к войне с Марободом намного превосходила предыдущие германские кампании. В дело намеревались бросить двенадцать легионов с подкреплениями. Тиберий отправился из Карнунта, что рядом с современной Веной, а Гней Сентий Сатурнин, выйдя из Майнца, повел германские подразделения вверх по долине Майна, откуда, двигаясь на восток через Гирканский лес, он достиг границ территории Маробода, где соединился с паннонийскими войсками Тиберия. Такие передвижения гораздо лучше служили знакомству с географией Центральной Европы, чем все беллетристы Рима могли передать последующим векам.
Эти операции были прерваны прежде, чем могли начаться. Восстала не Германия, а Иллирия. Соблазн был слишком велик. Легионы были отозваны и заняты войной с Марободом. Поводом к восстанию послужило то, что паннонийцы и далматы должны были посылать своих людей на эту войну. Мятеж разрастался, и Рим оказался вовлеченным в войну у самых своих ворот.
Иллирийский мятеж вспыхнул слишком рано, чтобы оказаться успешным. Тиберий еще не закончил свою кампанию. Маробод, и прежде рассудительный, вполне способен был выслушать предложения, способствовавшие компромиссу.15 Он согласился на условия, предложенные Тиберием. Легионы были отозваны. Сатурнин поспешил назад к Рейну, чтобы следить там за порядком. Тиберий поторопился туда, где вспыхнуло восстание, — в Паннонию.
Марободу не суждено было попасть в руки римлян. Он довел свой эксперимент до конца и разделил судьбу всех первооткрывателей и пионеров.
Глава 5
ВОССТАНИЕ НА СЕВЕРЕ
Иллирийское восстание стало событием, перед которым даже Маробод отошел на второй план. Уже более одного поколения жители Паннонии обучались римской дисциплине. Их правители во многих случаях получили римское образование и воспитывались в той же культуре. Восстание, следовательно, было спланировано с размахом и пониманием ситуации, что делало его особенно страшным. И как говорит нам римский историк Веллей Патеркул, никогда еще в истории люди не осуществляли свои замыслы с такой решимостью. Римляне оказались не готовыми к ситуации. Перед ними был народ, который через двести пятьдесят лет будет диктовать свои условия претендентам на римский престол, а предки Клавдия Готика, Аврелиана, Проба, Диоклетиана и Максимиана были достойны своих потомков.
Римские граждане, оказавшиеся по делам или по службе в Иллирии, были перебиты. Воинские части, расположенные в отдаленных уголках страны, были отрезаны и уничтожены задолго до того, как смогли получить помощь. Три армии выступили на поле сражения: одной была поставлена задача очистить страну, другая вторглась в Македонию, а третья направилась в Италию по маршруту Навпорт-Тергесте.
Тергесте находился на близком расстоянии от Аквилеи, и, попав туда, иллирийцы оказались на прямом пути в Италию. Паника, возникшая в Италии, затронула каждого. Даже Август был встревожен. Он говорил в сенате, что, если не будут приняты необходимые меры, враг окажется в Риме уже через десять дней. Это высказывание передавали из уст в уста. Люди знали, что это правда.
Паника порой придает людям крылья и мудрость. Взрыв патриотических чувств в Риме мог бы тронуть и каменное сердце. Были призваны добровольцы, под знамена становились ветераны. Мужчины и женщины, негодные для строевой службы, обязывались предоставить в войско вольноотпущенников. Командование принял на себя Германик. Новое пополнение отличалось скорее рвением, нежели умением, но, по крайней мере, у них была воля к победе. Август направился в Аримин, чтобы быть ближе к месту событий.
Иллирийское восстание не было столь уж неожиданным и внезапным, как это могло казаться римскому наблюдателю. Оно имело свою предысторию. Первое восстание произошло в Далмации, где вождь десидиатов Батон возглавил марш на Салону, крупный прибрежный порт. Ему не удалось захватить город, и он был тяжело ранен выстрелом из пращи, но его командиры вошли в Македонию и одержали победу в сражении при Диррахии. Восстали и другие. Мятеж начался так организованно, и каждый его этап имел столь точный стратегический план, что стало ясно, что эти действия были обдуманы и спланированы заранее. Третьим центром восстания было паннонийское племя бревков, которое возглавил другой Батон. Они направились в Сирмий, большое укрепление на востоке Паннонии у слияния рек Савы и Дуная. Пинны направились в Италию.
Пока Салона продолжала успешно сопротивляться Батону Далматику, Авл Цецина Север, легат Мёзии, удерживал Сирмий. В ожесточенном сражении под стенами города паннонийцы потерпели поражение, и город был спасен. Тиберий уже двигался маршем с севера, отправив вперед легата Иллирии Марка Валерия Мессалина, а сам с основными силами двигался следом.
Батон Далматик был истинной душой восстания. Раненый, он поспешил на север, навстречу Мессалину. При первом же столкновении последний потерпел поражение. У него был лишь один легион, Двадцатый, да и то лишь половина. Хотя он был отрезан и окружен врагами, он сумел завлечь их в засаду и вырваться из окружения впятеро превосходящих сил противника.
Теперь и Тиберий со своими легионами подоспел на сцену сражения, чтобы встать на пути врагов в Италию. Разумными и осторожными действиями он потеснил восставших. Они отступили на юго-восток вниз по долине Савы. Батон Далматик сумел воссоединиться с Батоном Брецианом, и соединенные армии заняли позицию на горе Альма близ Сирмия. Их сдерживали там отдельные кавалерийские отряды фракийского царя Рометалка, союзника Цецины, но сам Цецина ничего не мог с ними поделать. Тиберий из-за своего стремительного марша на юг оторвался от подкреплений, а даки и сарматы совершали набеги на Мёзию; кроме того, время года было неблагоприятным для военных действий, поэтому Цецина отступил к Мёзии, а Тиберий отошел к Сисции. Он поступил разумно — стояла очень суровая зима. В Сисции Тиберий оставался до весны, готовясь к кампании следующего года.
Весной посланный Августом Германик прибыл с италийскими новобранцами, чтобы сменить легионы в Сисции.16 Ему было поручено возглавить экспедиционные силы, которые должны были войти в Далмацию. Тем временем мёзийская армия, укрепленная подразделениями из сирийских войск и сильной фракийской кавалерией, двинулась вверх по долине Дравы. Ее первое столкновение с войсками обоих Батонов было катастрофой. Они были захвачены врасплох, фракийская кавалерия, укрытая за валом, была обращена в бегство, а подкрепления были отрезаны от поля сражения. Дрогнули и легионеры. Однако дисциплина и выучка не подвели, и, несмотря на потерю многих командиров, они вернулись в лагерь и вырвали победу в обстоятельствах, грозивших обернуться полным поражением.
После объединения мёзийской армии с армией Тиберия он оказался во главе столь крупного римского войска, которое не набиралось со времен гражданских войн. Оно состояло приблизительно из ста пятидесяти тысяч воинов. Восставшие понимали, что не могут одержать победу в открытом бою с такими силами. Их политикой стало избегать прямых столкновений, а их мобильность позволила им свести паннонийскую часть войны к набегам и отдельным столкновениям. Римляне были вынуждены приспосабливаться к такой тактике и рассредоточить свое войско, чтобы контролировать многочисленные набеги неприятеля.
Компетентность Тиберия получила подтверждение в его способности командовать и управлять такой огромной армией в такой трудной и разбросанной расстоянием войне, ближайшей параллелью которой могла бы служить Бурская война 1899–1902 гг. Здесь не было возможности для ярких и красочных сражений. Это была война, требовавшая уверенных и профессиональных воинов, исполнявших тяжелую и скучную работу. Во время иллирийской кампании, ставшей высшим военным достижением Тиберия, мы можем взглянуть на Тиберия как на живого человека.
Г. Веллей Патеркул, солдат, позднее ставший историком, как и многие другие до и после него, служил в иллирийской и германской кампаниях под началом Тиберия, он оставил зарисовки характера и личности командира. Дифирамбы, которые Веллей поет Тиберию, ценны тем, что он сам был очевидцем событий, в отличие от Тацита и Светония, которые описывали Тиберия с чужих слов.
Мы еще раз видим, хотя и в очень трудных обстоятельствах, трезвого и прозаичного человека, который посещал больных на Родосе. Ни один раненый или больной, какого бы звания он ни был, говорит Веллей, не был обойден вниманием Тиберия, как будто у него не было других дел. Походный госпиталь принимал каждого, кто в этом нуждался. Под эту службу была отдана и личная повозка Тиберия. Веллей с гордостью рассказывает, как его самого поместили в эту повозку. Личный врач Тиберия, его повар, его принадлежности для купания — все было отдано больным. Тиберий, единственный из командиров, всегда скакал верхом, за столом он сидел, развлекая гостей, а не возлежал, как это было принято в то время. Веллей рисует его человеком благожелательным, опытным и отзывчивым командиром.
Тиберий не критиковал тех, кто имел другой взгляд на свои обязанности. В делах общей дисциплины он полагал, что высшая заслуга командира — не замечать некоторых вещей. Он часто давал совет, иногда поправлял, но никогда не наказывал. Такое описание в той или иной форме можно встретить во все времена в мировой истории — это портрет хорошего командира.
Веллей приводит еще одну важную характеристику Тиберия — его заботу о жизни своих людей. Главным принципом его командования была прежде всего забота о безопасности вверенных ему людей.
Целенаправленные действия Германика и его горная экспедиция принесли первый результат кампании этого года. Далмация, где началось восстание, постепенно была завоевана. Далматинские горные крепости были очень сильны, хорошо защищены и не испытывали нужды в продовольствии. Их завоевание становилось первостепенной задачей. В Ретинии защитники подожгли город в надежде вовлечь римлян в этот разрушительный пожар. Совершенно естественно, что в Иллирии начался голод. Земля оставалась необработанной. За этим неизбежно последовал мор и разногласия. Многие из восставших желали сдаться. Их останавливали угрозами. Вождь Скенобард, предложивший сдаться Манию Эннию, командиру Сисции, был столь запуган своими, что отказался от этого предложения. Голод, кажется, достиг и пределов Италии. Когда следующей весной была осаждена важная крепость Ардуба, то внутри ее стен произошла яростная схватка между желавшими сдаться и теми, кто отказывался от компромиссов. Первые потерпели поражение, и женщины из партии победителей праздновали свой триумф, бросаясь вместе с детьми в пламя, которое разрушило Ардубу.
Голод усилил споры. Пинны и Брециан вынуждены были пойти на риск сражения, и, поскольку в исходе сражения вряд ли можно было сомневаться, Батон обезопасил себя, пойдя на переговоры с Тиберием. Было решено, что он сдаст пиннов, за что укрепит свое положение вождя бревков. Решительное сражение при Батине определило судьбу иллирийского восстания.
Германик лично доставил счастливую весть Августу в Аримин. Август со спокойной душой мог возвратиться в Рим, где и был встречен с огромным энтузиазмом.
Однако Батон Далматик был гораздо крепче, им двигало чувство мести, которое он принес с собой в Паннонию. Батон Брециан, неуверенный в надежности покоренных племен, совершил рейд, чтобы набрать заложников в целях собственной безопасности. Батон Далматик, узнав об этом, приготовил предателю ловушку. Его поймали и подвергли суду, а затем выставили перед воинами-далматами; он был приговорен к смерти, и приговор приведен в исполнение на месте. Паннонийцев подстрекали вновь восстать против римлян. Легат Сильван одержал победу над бревками и привел к повиновению другие племена обещаниями мира, тогда Батон Далматик отказался от своего намерения и удалился в родные края. Подгоняемые Сильваном, паннонийцы смирились. От паннонского восстания не осталось ничего, кроме нескольких отчаянных голов, укрывавшихся в горах.
Оставалась Далмация. Задачей Тиберия было восстановить мир в Далмации. По прибытии он нашел войска в беспокойном состоянии, уставшими от войны и более всего желавшими покончить с ней любыми способами, лишь бы больше не участвовать в сражениях. Тогда он разделил свои силы. Один корпус был отдан под командование Сильвана, другой под командование Марка Лепида,17 третьим он командовал сам.
Веллей оставил нам описание, хотя и краткое. Войска под командованием Лепида проходили через земли племен, которые еще не испытали на себе воздействие военных операций, не были ослаблены вследствие войны и, следовательно, были агрессивны и настороженны; после стычек с ними он вынужден был продвигаться по труднопроходимой местности при сопротивлении врагов, после того как в качестве наказания сопротивлявшихся он разорил их поля, сжег дома и перебил жителей. Могущественные племена перистов и десидиатов в их почти неприступных укреплениях в узких горных ущельях — опытные воины — были наконец покорены, хотя и в результате того, что почти все они были истреблены… О Сильване также сообщается, что он успешно выполнил свое задание.
Войскам Тиберия и Германика досталась самая трудная задача настичь Батона Далматика. Теперь он был в бегах, и преследование вело их через всю страну. Наконец он осел в крепости Андетрий недалеко от Салоны. Нелегко было отличить нападавших и защищавшихся. Андетрий был построен на скалистой вершине, труднодоступен, окружен глубоким рвом и гористыми кряжами. Город хорошо снабжался, а коммуникации Тиберия были ненадежны. Он сомневался, следует ли продолжать преследование.
Батон к этому времени также чувствовал себя стесненно. Он стал прощупывать возможные условия сдачи. Тиберий уверился, что внутри крепости люди чувствуют себя не более надежно, чем и он сам. Он решил штурмовать.
Передовой отряд взобрался на гору, а Тиберий в это время в удобной позиции возглавил резервную группу. Защитники сбрасывали с горы огромные камни, и очень эффективно, но отряд продолжал восхождение, пока не вступил в бой. В сражении на вершине горы Тиберий использовал свой резерв столь действенно, что защитники наконец выдохлись. Как раз в этот момент их атаковали силы, во время сражения подошедшие в обход по горным тропам. Защитники не смогли укрыться в крепости, они бежали вниз, преследуемые по горам и лесам. Разъяренные легионеры не давали им никакой пощады.
Наконец Батон отправил своего сына Скеваса к Тиберию с предложением капитуляции при условии сохранения ему жизни. Тиберий дал слово. Батон сдался ночью, и на следующий день был доставлен к римскому командующему. Он ничего не просил для себя. Казалось, он не придавал особого значения полученному обещанию. Все же он долго говорил в защиту своего народа, судьба которого, видимо, была причиной его капитуляции. Наконец, он склонил голову в ожидании удара палача.
Тиберий только спросил его, почему его народ восстал и так отчаянно сражался против римлян. «Вы сами в этом повинны, — отвечал Батон, — вы, римляне, послали охранять стадо не пастухов, и не собак даже, а волков».18
Тиберий сослал его в Равенну, где он и проживал до конца своих дней.
Иллирийское восстание закончилось. Это была очень дорогостоящая война. Очень мало добычи было взято во время этой кампании, там нечего было брать, а цена горного похода войска была очень высока. Было задействовано около пятнадцати легионов и множество вспомогательных войск. Некоторые считали эту войну самой трудной для римлян со времени войн с Ганнибалом, и, хотя нет смысла сравнивать войны, здесь есть определенная доля истины… Во всяком случае, никогда не было столько почетных наград. Тиберию был предоставлен триумф, он и Германик награждены титулами императоров, а в Паннонии были воздвигнуты две триумфальные арки. Август большего не позволил. Большинство отличившихся полководцев — среди них Лепид и Мессалин — получили отличительные знаки триумфаторов. Однако триумфу Тиберия все же не суждено было состояться.
Вторичный эффект такой катастрофы, как иллирийская война, зачастую более серьезен, чем первый. Волны событий, начатых Батоном Далматиком, достигли северных границ Рима и не затихали до той поры, когда Септимий Север умер в Йорке; возможно, их отзвуки не утихли и по сей день. Когда восстание было в самом разгаре, и Тиберий был полностью занят его подавлением, в Риме было принято решение, имевшее далеко идущие последствия. Правителем Германии был назначен Публий Квинтилий Вар, он направился на Рейн с задачей романизировать Германию.
Инструкции, данные Вару, кажется, имели целью так организовать жизнь в Германии, чтобы она еще более отвечала стандартам римской провинции. Это было, можно сказать, опасное решение, принятое во время еще не оконченного иллирийского восстания, оно имело также преждевременную задачу поднять налоги в провинции до обычных римских стандартов. Дыра в имперской казне, разумеется, требовала всевозможных действий для пополнения расходов везде, где это было возможно, однако никакие деньги не могли покрыть риска, связанного с этим решением.
Назначение Вара означало отход от принципов, которыми до тех пор были отмечены действия Августа в отношениях с германцами, и противоположность политике Тиберия, который отвечал за провинцию после смерти Друза. С точки зрения выбора личности это была очень серьезная ошибка. Вар не был военным, но ему доверили самое важное и трудное командование во всей империи. Он был человеком легким на подъем и не слишком обремененным понятиями о чести,19 недалеким и жадным, а его послали управлять людьми, которые были проницательными, скорыми на решения, жестокими и не желавшими терпеть присутствие человека, которого они не уважали. Спустя некоторое время они, однако, стали приветствовать его с особым удовольствием фальшивыми улыбками. Тут же начались тайные договоренности, которые предшествовали заговору. Возможность была слишком соблазнительной, чтобы ее упустить.
Главой этого движения стал Арминий, один из молодых вождей херусков.
Арминий был из того же поколения и, очевидно, того же возраста, что и Маробод; и, как молодой свев, он был захвачен новыми идеями контакта с римлянами, распространившимися по всей Германии. Однако это был совсем иной тип личности и, видимо, в большей степени типичный германец. У него не было осторожности Маробода. Он был более воинственным и большим интриганом, он думал и поступал, учитывая интересы своих соплеменников, он рассматривал все события с чисто политической точки зрения, более жесткой, чем позиция Маробода в отношении сохранения германской независимости и германских традиций. Его единственным сходством с Марободом было обращение к новым методам правления. Его тесть Сегест решительно с ним не соглашался и высказывался за дружеские отношения с Римом, но это поведение диктовалось стремлением сохранить старую племенную систему в неприкосновенности и избежать риска ее разрушения в результате войны. Арминий готов был, как и Маробод, принять новую систему, ориентируясь на политическое устройство Рима, и пожертвовать старой системой, чтобы сохранить независимость.
Завоевания Друза способствовали по меньшей мере тому, что было уничтожено доверие к старой системе ценностей, неспособной противостоять римлянам на поле боя, и это заставило молодых людей обратиться к политическим концепциям, могущим, как казалось, создать сильный общественный организм. Маробод представлял одну тенденцию в новом движении. Он хотел организовать государство без оглядки на родовые связи. Арминий представлял иную форму поведения. Он хотел основать политическое государство с сохранением и признанием родовых отношений; то есть в основание государственного устройства он помещал принцип национальный.
И Арминий и Маробод смело продвигались по новым путям общественного развития. Эти пути оказались намного длиннее, чем они полагали, должен был пройти срок жизни не одного поколения, прежде чем выдвинутые ими идеи были бы восприняты и использованы на практике. Гораздо худшие и более слабые, чем они, люди добивались успеха там, где они потерпели поражение, однако для нас они интересны тем, что стояли в самом начале пути при переходе от родоплеменных отношений Северной Европы к национальным отношениям наших дней.
Попытки заговорщиков усыпить бдительность Вара оказались чрезвычайно успешными. Они трезво оценили этого человека и в полной мере потворствовали его тщеславию. Он начал цивилизовывать завоеванных варваров твердой рукой. Он обложил провинцию налогом, его суд игнорировал местные условия и племенные обычаи, что вызывало гнев людей, которые, не зная других законов, полагали, что он отрицает всяческие законы, а заговорщики способствовали тому, чтобы ни у одной партии не оставалось иллюзий. Понадобилось два года, чтобы подтолкнуть основную массу населения Германии к решительным действиям. К этому времени Арминий и его друзья привлекли на свою сторону не только херусков, но и воинственных хаттов, марсов и бруктеров, готовых выступить по первому сигналу. Надо было спешить, поскольку иллирийское восстание постепенно заканчивалось, и успеть выступить до того, как освободятся легионы, занятые подавлением иллирийского восстания.
Лето застало правителя с тремя легионами на Везере где-то выше Миндена. Главные заговорщики находились в его лагере, были в самых лучших с ним отношениях, постоянно обедая за его столом. Их беседы давали ему полную иллюзию безопасности ситуации, о напряженности которой его напрасно предупреждали другие. Уже в конце лета в соответствии с военным планом он готов был отправиться назад к Рейну. Это было нетрудной задачей. Линия коммуникаций с Ализо в верховьях долины Липпе защищала его на марше, а от Ализо ему предстоял легкий переход в Кастра-Ветеру. Заговорщики были наготове. В последний момент перед походом ему принесли известие, что племя, находившееся в стороне от маршрута, восстало. Опытный воин мог бы почувствовать подвох. Но не Вар. Его убедили, чтобы он сделал крюк на пути домой. Его ясно предупредил об опасности Сегест, вождь херусков. Вар не внял предостережению. Он был уверен в своих друзьях.
Теперь, когда его заставили поверить, что он должен сойти с походного пути, он дал команду к отправлению.
Расчеты заговорщиков полностью оправдались. Были сделаны все необходимые приготовления. Они поначалу сопровождали его, чтобы убедиться, что он направляется прямо в ловушку. Затем они его покинули под предлогом, что должны набрать пополнение для того, чтобы ему помочь. Даже тогда Вар не заподозрил своих так называемых друзей в измене. Их пополнение на самом деле было уже наготове и неподалеку. Был дан сигнал. Тем временем, когда вспомогательные войска, установленные гарнизонами в районах проживания племен, были одновременно перебиты в ходе направляемого мятежа, основной отряд германцев устремился вслед за Варом.
Между Эмсом и Липпе, к северу от Ализо легионы, преследуемые врагом, пробивались через пересеченную местность сквозь леса и болота с тяжелыми обозами и множеством нестроевых, включая детей и женщин, они вынуждены были прокладывать путь вперед, валя огромные деревья и укладывая их на дороге через овраги. Маршевая колонна, дезориентированная и выдохшаяся на этом трудном пути, стала испытывать еще большие бедствия из-за разразившегося дождя и града; дороги размокли и стали скользкой грязью, в которой вязли и воины и обозы.
Вот тогда-то германцы, которых ожидали на помощь, напали на них как враги. Они атаковали со всех сторон. На знакомой местности германцы обстреливали их из оружия, а затем, вдохновленные слабым сопротивлением, вступили в рукопашный бой. Колонна была безнадежно выведена из строя первой же неожиданной атакой. Она так и не смогла как следует перестроиться. Легионеры, вспомогательные службы и повозки — все смешалось; в таких условиях легионеры не могли оказать достойного сопротивления.
Этот марш напоминал марш генерала Брэддока (гораздо более талантливого полководца, чем Публий Квинтилий Вар). Лучшее из возможных мест было выбрано той ночью для разбивки лагеря, и была сделана попытка перестроить колонну в боевой порядок.
Утром большинство обозов были или подожжены, или покинуты вместе со всем имуществом. Второй день пути, таким образом, начался в более обнадеживающих обстоятельствах. Колонна вырвалась из лесного массива на открытое пространство. Однако надо было пробиваться через еще один лес, вставший на ее пути, и здесь потери стали невосполнимыми. Войска были загнаны в теснину, где невозможны были никакие боевые маневры. Колонна двигалась всю ночь, и утром она все еще прокладывала путь вперед. На рассвете полил дождь и посыпался град. Дальше идти было невозможно, даже пехота едва могла продвигаться. Вымокшие легионеры, снаряжение и набрякшие от дождя щиты из бычьей кожи стали непригодны к бою, о последствиях можно только догадываться. Немногие ситуации были столь плачевны, как положение италийцев, затерянных в лесах Северной Европы в такую погоду. Привычные к местности и климату германцы, естественно, страдали гораздо меньше, они, кроме того, могли выбирать места для своих атак. Их число заметно выросло. Новость об их успехах и перспективе легкой победы пошла и до тех, кто поначалу боялся открыто выступать против римлян. Легионеры попытались выкопать ров. Он так и не был закончен. Конец был близок. Вар, раненый и отчаявшийся, покончил с собой. Его старшие командиры последовали его примеру, чтобы не попасть живыми в руки германцев. Вала Нумоний, префект конницы, покинул колонну со всеми оставшимися людьми и оставил пехоту без всякого прикрытия. Вероятно, он и сам был ранен, потому что умер на пути к Рейну, однако его воины сумели выбраться из передряги.
Измученные воины, оставшиеся без своих командиров и предоставленные самим себе, прекратили сопротивление. Многие были зарублены без всякого сопротивления; некоторые падали на собственные копья, немногие были взяты в плен. Двадцать тысяч человек и три легионских орла (17, 18 и 19-го легионов) были потеряны в так называемом «сражении в Тевтобургском лесу». Лишь конница и небольшое число пехотинцев спаслись и достигли римской границы. Все земли между Рейном и Эльбой, которые Друз завоевал с таким трудом, были потеряны для римлян.
Судьба пленных была ужасной. Многие были распяты или сожжены заживо либо принесены в кровавую жертву темным богам германских лесов. Некоторые впоследствии были выкуплены своими близкими. Римские порядки были суровы по отношению к тем, кто оказался военнопленным, однако как акт милости имперское правительство разрешило уплатить за них выкуп с условием, чтобы эти люди не имели права вернуться в Италию.
Самое ужасное случилось в Тевтобургском лесу. Поражение Вара оставило Кастра-Ветеру открытой для врага. Услышав эту новость, Луций Ноний Аспрена из Майнца ускоренным маршем двинулся в опасную точку и прибыл туда вовремя, чтобы спасти не только город, но и запертого там Луция Цедиция. Цедиций со своей стороны удерживал Ализо, пока германцам не стало хватать времени, чтобы занять Кастра-Ветеру до прихода Аспрены. Они потерпели неудачу и понесли тяжкие потери от лучников, защищавших Ализо. Когда же они, наконец, осознали свою ошибку, время ушло. Этот отвлекающий удар занял большинство сил германцев, но был послан заградительный отряд, чтобы следить за римлянами.
Положение Цедиция, окруженного со множеством женщин и детей в сотне миль от Рейна, было не из легких. Он держался внутри укреплений и ожидал помощи. Заградительный отряд германцев, уверенных в том, что тот не может удерживать укрепление бесконечно, дожидался попытки прорыва. Хотя германцев не было видно, их пикеты сторожили дороги. Продовольствие постепенно истощалось и закончилось, однако освободительная армия так и не подошла. Цедиций вынужден был принять решение, которого так долго ждали германцы.
Он тянул время до стечения благоприятных обстоятельств. Гарнизон голодал, пока, наконец, не наступила та самая темная дождливая ночь, которая требовалась для прорыва. Тогда римская колонна предприняла рискованную попытку. Войска, которые шли впереди и позади колонны, сильно уступали в численности множеству нестроевых, женщин и детей, которые шли в середине… Они удачно миновали первый и второй пикеты, но у третьего пикета начались неприятности. Женщины и дети, голодные, усталые, холодные и напуганные, потеряв в темноте воинов из виду, подняли истошный крик, призывая их вернуться. Сразу поднялась тревога, и германцы тут же пустились в погоню. Хотя историк Дион Кассий и не рассказывает об этом, вероятно, германцы прибыли с факелами, освещавшими путь. Все бы пропало, если бы они сразу же не устремились к обозам — плата, которую они всегда предпочитали получить за свои хлопоты. Это дало людям шанс ускользнуть в темноте, незамеченными.
Поняв, что происходит, какой-то гений среди солдат, а может быть, сам Цедиций — ибо команду должен был дать офицер — приказал трубачам играть скорый марш, как если бы подходил на помощь отряд Аспрены. Хитрость удалась. Узнав сигнал и полагая, что сам Аспрена должен быть поблизости, германцы вернулись к своим и не пытались преследовать покинувших лагерь, а римская колонна вновь собралась и продолжила марш. Прежде чем германцы сообразили, в чем дело, была установлена связь с Кастра-Ветерой, помощь, посланная Аспреной, была и впрямь близко, и колонна римлян благополучно добралась до своих.20
Гарнизон Ализо был спасен, а границы Рейна остались неприкосновенными. Жители Галлии могли спокойно спать в своих постелях.
Вар недаром покончил с собой. Потеря провинции Германии была обстоятельством неприятным, но его можно было пережить, однако гибель двадцати тысяч воинов была преступлением, за которое, кроме смертной казни, не было иного наказания. Для Августа удар был вдвойне тяжелым. Все попытки, которые он предпринимал — зачастую против своей воли, — оказались безрезультатными, и к потере, сколь серьезной она ни была, добавился позор. Он, так гордившийся тем, что вернул знамена, утерянные Крассом в сражении при Каррах, сам потерял целых три! У него случился нервный срыв. Ходили слухи, что этот твердый, уверенный в себе человек месяцами не стриг волос и не брил бороду и, ударяясь головой о стену, повторял: «Вар, верни легионы!»… Это были только слухи…21 Однако у него были все причины воспринимать это именно таким образом. Хуже всего, что он не мог освободиться от чувства вины.
Рим, уставший от иллирийской войны, воспринял все как-то равнодушно. Вряд ли кто обладал собственностью в Германии, а в подобных случаях люди склонны оптимистически относиться к несчастьям других. Август тут же приказал объявить новый набор в войско. Процесс шел очень медленно. Смешанные силы пополнения, включая вышедших в отставку ветеранов и амбициозных вольноотпущенников, спешно направлялись на Рейн.
Положение, однако, спасли стремительность Аспрены и умение Цедиция. Никто не мог даже и предположить, какими были бы последствия, если бы легионы, занятые только что подавленным иллирийским восстанием, не сумели отразить германцев в случае их прорыва через границу на Рейне.22 Такая вероятность приходила в голову многим, особенно когда тело Вара было расчленено и сожжено германцами и его голова была послана Марободу, который направил ее Августу, приказавшему должным образом захоронить ее в фамильном склепе… Тогда многое зависело от Маробода, а он наотрез отказался действовать заодно с Армииием.
Разумеется, обратились к Тиберию, которого всегда привлекали в случае серьезной опасности. Следующей весной он отправился на Рейн и год провел, наводя порядок на границе, восстанавливая дисциплину и моральный дух армии. Его знали как человека самостоятельного, который сообразовывался со своими суждениями и не зависел от общественного мнения, однако в данном случае он выказал явный интерес к взглядам и позициям других людей. Он воспользовался советами тех, кто жил на границе, воспринял их рекомендации… В других организационных делах ему вряд ли требовались советчики со стороны. Однако эта граница имела особое значение. Он исследовал всю проблему северо-западных границ, и сделанные им заключения, доложенные Августу, станут известны позднее.
На следующий год к нему присоединился Германик, который знакомился со страной и армией, где его отец совершил такую краткую, но головокружительную карьеру и где о действиях его еще помнили. Было что-то пророческое в прибытии сюда Германика именно в этот момент. Он мог быть предназначен судьбой завершить дело, начатое его отцом Друзом. Тиберий провел показательную переправу через Рейн, с целью произвести на племена впечатление римской мощью и, возможно, чтобы ознакомить Германика с условиями страны.
Живое описание Тиберия как военного дошло до нас от этой кампании. Мы видим его лично наблюдающим за транспортными обозами и строго следящим, чтобы в точности выполнялись его приказы, он разжаловал легата легиона за то, что тот выслал солдат охранять его вольноотпущенников во время их охоты, он спит на открытом воздухе, принимает пищу в походных условиях, сидя на земле. Он отдает письменные распоряжения, и офицеры, не вполне понявшие его приказания, приглашаются в его палатку для разъяснения в любое время дня и ночи. Светильник в его палатке горит всю ночь, это значит, он работает. Впрочем, он ведет тот образ жизни, который его предки по линии Клавдиев сочли бы вполне естественным.
Однако времена менялись. Если работу Друза и должен был кто-то завершить, то это был не Тиберий. Отправленный им Августу доклад о положении дел на границе еще не был известен, однако его влияние стало сказываться повсюду. Иллирийская война была последней его кампанией, Август стремительно старел и явно готовился к уходу с политической арены. Германик возвратился в Рим, чтобы получить консульство, и задержался там на целый год. Он должен был сменить Тиберия на Рейне в должности командующего. В начале 13 г. он прибыл, чтобы принять командование, и Тиберий навсегда распрощался с северной границей, отправившись в Италию, которую уже не покидал до конца жизни.
В первый год своего командования Германик бездействовал. Возможно, он понимал, с чем ему придется иметь дело, и знакомился с обстановкой. Возможно, мнение Тиберия о положении на Рейне возымело свой эффект. Было некое напряжение в воздухе, и каждый ждал шага от старого политика, такого болезненного и так долго живущего, такого знаменитого и такого прославленного, который собирал бумаги, готовясь переложить свою миссию на плечи человека более молодого.
Глава 6
ТИБЕРИЙ ЦЕЗАРЬ
Тиберий достиг некоего водораздела своей жизни, и с этого времени все реки потекли в ином направлении. Его карьера военного осталась позади. Он больше никогда не увидит вынутого из ножен меча, никогда не увидит панорамы высоких гор или открытого пространства. Он перешел от жизни, подчиненной дисциплине и приказам, от жизни на открытом воздухе, которую вел в армии и на границах, к стесненной и полной соперничества жизни большой метрополии. Долгие годы его отсутствие в городе было правилом, а присутствие там — исключением из правила. Он не мог радоваться этой перемене. Человек, который привык отдавать и подчиняться приказам, редко испытывает радость от непростых конфликтов гражданской жизни. Вновь вернуться в мир, в котором приспособление к мнению других людей — беспрерывный и постоянный процесс без надежды на перемены, — ощущение, мало способствовавшее счастью. Нет причин предполагать, что Тиберий сознательно стремился к этим удовольствиям.
Перспектива возникновения конфликтов не уменьшалась и тем, как Август усыновил Тиберия, и его назначением на место своего преемника в качестве принцепса. То ли по соображениям интересов семьи, то ли по более глубоким причинам, которые имел в виду Август, Тиберий должен был отказаться от собственного сына Друза и усыновить Германика, женатого на дочери Юлии Агриппине. Выполнить это условие было непросто. Тиберий пошел на это. С беспристрастностью, которую он выказывал во всех обстоятельствах, он никогда не стремился без необходимости продвигать собственного сына Друза. Однако этот план имел определенные неприятные стороны. Он говорил о подозрениях врагов и полудрузей, постоянно выдвигаемых в отношении Тиберия. Если бы исполнились его собственные устремления, его бы обвинили в том, что он сам же и создал предпосылки, которые привели его к цели. Если бы с Германиком случилось несчастье, в этом обвинили бы Тиберия. И если бы какие-либо случайные обстоятельства стали угрожать Германику — а человеческая жизнь полна таких случайностей, — взоры людей тотчас же обратились бы на Тиберия. Во всем его обвиняли заранее. Мы увидим, насколько оправдались такие подозрения против него.
В первый год консульства Германика Август предоставил официальное подтверждение сделанных им распоряжений. Он письменно обратился к сенату, рекомендуя ему взять Германика под свою защиту, а себя самого — под защиту Тиберия. В том же году был отпразднован триумф Тиберия. Отдельные полководцы иллирийской кампании также получили триумфальные награды. Август во главе сената встречал Тиберия у Триумфальных ворот, и Тиберий пал к ногам своего официального отца перед тем, как войти в город. Это был роскошный триумф. Батон Далматик, после того как ступил на эту дорогу, которая многих врагов Рима привела в Туллиан, был отправлен в Равенну, получил хорошее содержание в подтверждение того, что Тиберий держит свое слово. Люди угощались за тысячью столами. Триста сестерциев было выплачено каждому участнику иллирийской и германской войн. В знак дальнейшей благодарности Тиберий восстановил и перепосвятил храм Согласия и храм Кастора и Поллукса, божественных близнецов, под двумя именами — своим и своего брата Друза.
Когда после передачи командования на Рейне Германику Тиберий возвратился в Рим, там произошли серьезные события. Два основания, на которых покоилась власть принцепса, были проконсульский империй и трибунская власть. Первый давал ему контроль над провинциями, а вторая — политическую власть в Риме. Император мог делегировать свой империй другому лицу. Август часто так и поступал, однако авторитет такого делегирования, естественно, ослабел после его смерти. Он, таким образом, предпринял официальные шаги к тому, чтобы через сенат передать Тиберию полный проконсульский империй, равный с его собственными полномочиями. Теперь власть Тиберия не могла прекратиться со смертью Августа. Как только Август уйдет из жизни, Тиберий сможет претендовать на его место. Таким образом создавалась ситуация, при которой невозможно было междувластие. Тиберия также назначили председателем сенатского комитета, который в последние полгода жизни Августа, когда он был слаб и болен, собирался у него дома и выносил решения от имени сената. Соответственно его первый опыт управления государством и проверка на соответствие будущей должности проходили под руководством самого Августа.
Тиберий вместе с Августом также способствовали проведению переписи (которая практически была Quo warranto для каждого жителя римских владений). Это давало им возможность в общем виде обозреть всю Римскую империю и каждую значимую в ней личность. Полный отчет об этих собраниях, если бы мы его имели, мог стать интереснейшим чтением. Ни один император не входил во власть так осторожно, как Тиберий, постепенно и при участии своего предшественника, и все же в действиях Августа оставался оттенок недоверия в отношении Тиберия, заставлявший его прежде находиться в Галлии во время правления там Тиберия, хотя он и оставил ту же провинцию без личного контроля, когда ею управлял Друз. Никогда нельзя было отличить отеческую заботу в отношении к Тиберию от личного недоверия Августа.
Перепись была проведена, Тиберий отправился в Паннонию, где должен был принять командование войском. Ему так и не суждено было этого сделать. Август простился с ним в Беневенте и затем направился в более здоровый климат солнечной Кампании. Посланцы перехватили Тиберия по пути. У императора случился приступ дизентерии, и он слег. Тиберий устремился назад в Нолу. Время было очень важным фактором. Он прибыл как раз вовремя,23 чтобы услышать последние слова человека, который был первым и остался самым великим из всех римских императоров.
Август устал. После того как Тиберий его покинул, он сделал один полудобродушный комментарий. Он не завидует несчастному римскому народу, которому придется иметь дело с таким серьезным и рассудительным человеком…24
Он умер в Ноле 19 августа — в месяц, названный в его честь, — в 14 г.
Тиберий действовал стремительно. У него была полная власть, чтобы овладеть ситуацией. Он сразу же на основании трибунских полномочий созвал заседание сената, на основании проконсульских полномочий поменял пароль преторианской гвардии и отправил посланца для объявления новости в армию. Он действовал так, как если бы уже был императором и принцепсом, и он действительно им был, хотя ему все еще предстояло пройти утверждение, получив согласие и одобрение сената.
Хотя он действовал быстро, были и враги, которые орудовали ничуть не медленнее. Он действовал инстинктивно, поначалу и не догадываясь, какие предстояли баталии. Как только Август скончался, был отправлен корабль на Планазию, для обеспечения безопасности Агриппы Постума, единственного оставшегося в живых сына Юлии. Но он тотчас же был убит надзирателем. Когда прибыл офицер с докладом, что приказ выполнен, Тиберий ответил, что он никогда не отдавал такого приказания и что дело следует перенести на обсуждение сената. Это было первым из тех загадочных и сомнительных событий, сопутствующих всему его правлению. Дело так никогда и не было передано в сенат. Тацит пишет, что именно Саллюстий Крисп послал письмо с приказом о ликвидации Агриппы и затем отправился к Ливии для обсуждения, стоит ли вообще выносить на заседание сената этот вопрос. Тацит не говорит, по чьему распоряжению Саллюстий отдал этот приказ и когда он был послан, намекая, однако, что его авторами были либо Ливия, либо Тиберий, а может быть, оба… Во всяком случае, дело это не получило общественной огласки, хотя со временем история с несостоявшейся попыткой захватить Агриппу стала совершенно понятной, и об этом мы будем говорить позже. Светоний пишет, что неизвестно, кто же отдал приказ об уничтожении Агриппы: дежурный офицер действительно получил письменное распоряжение, однако было ли оно написано самим Августом перед смертью, или Ливия уже после его кончины написала от имени мужа и знал ли об этом Тиберий, так навсегда и осталось тайной.25
Смерть Агриппы навсегда лишила Юлию надежды на власть в лице одного из ее сыновей. Оставалась еще Агриппина; однако правление Агриппины не много значило бы для Юлии и оставалось делом отдаленного будущего, чтобы иметь для нее какое-либо практическое значение. С этого времени дела Юлии пришли в полный упадок. Ее сторонники утверждали, что Тиберий собирается уморить ее голодом. Судя по всему, Тиберий просто полностью игнорировал ее, а ее соглядатаи, искавшие улики против Тиберия, не решались на большее, чем лишь негодование.
Однако был еще один человек, которого Тиберий не мог игнорировать полностью. Тиберий Семпроний Гракх, виновник прежнего несчастья, уже четырнадцать лет находился в изгнании на острове Керкина около африканского побережья. И кажется, он — как и мы — не слишком удивился, когда группа воинов, посланная мужем Юлии,26 прибыла к месту его изгнания. Они нашли Гракха сидящим на скале в состоянии глубокой депрессии. Он лишь испросил время, чтобы написать своей жене, а затем принял смерть более достойно, чем провел жизнь.
Можно заметить, что все три компрометирующих Тиберия инцидента так или иначе связаны с его женитьбой на Юлии. Это было не случайно. Этот брак преследовал его. Он не причинял ей вреда, а в ответ получил слишком много зла, и этот брак еще в большей степени отзовется на его будущем, и за эту его вину — брак с Юлией — его всегда будут преследовать мстительные фурии.
Похороны Августа стали первым появлением на публике нового Цезаря. Они проходили с огромной торжественностью, и люди могли осмыслить прошедшие события и отдать дань великой исторической личности и его деяниям.
Погребальный костер был сложен на Марсовом поле. Прах Августа был перенесен в мавзолей, возведенный в северной части Рима, окруженной садами, между Фламиниевой дорогой и Тибром. Тиберий и его сын Друз сами произнесли надгробные речи. Сенат торжественно причислил Августа, как прежде Гая Юлия, к сонму богов. Был официально установлен его культ, назначены храмы и жрецы. Этот процесс обожествления был направлен на то, чтобы возвеличить хранителей имперского достоинства и отличить их от обычных людей, с целью придать этой власти такие престиж и нравственное величие, которые избавили бы принципат от угрозы открытой политической конкуренции. Если эти действия и имели смысл, они все же не были полностью успешными, а в случае с Августом зашли слишком далеко… Его кончина многим показалась окончательным подведением черты. Можно было полагать, что эта великая церемония означала конец великого эпизода в истории, и больше не могло быть другого Августа, человека, достойного занять его место… Чудилось, что завтра римский мир возвратится к прежней жизни и, укрепленный великим почившим правителем, вновь обратится к древнему республиканскому устройству.
Не все думали так или желали этого — были различные течения и интересы, противившиеся возврату к прошлому. Однако даже сам Тиберий вернулся домой с ощущением, что мантия Августа слишком тяжела для него. Тем не менее его печальной обязанностью было накинуть ее себе на плечи и поднять свой незаметный и непопулярный голос, чтобы заявить права на лавры этого обожествленного человека.
Первое заседание сената после прихода Тиберия к власти было целиком посвящено вопросам, связанным с похоронами Августа. Второе проходило, когда Августа уже не было, и стало полем серьезной битвы.
Задачей Тиберия было утвердить себя в принципате. Эту задачу ему пришлось выполнять при некоторых ограничениях. Он уже был во всей реальной полноте преемником всех должностей, которые оставил Август; однако по правилам игры, введенным еще Августом, не должен был упоминать об этом или открыто призывать сенат передать ему всю власть в государстве. Чтобы соблюсти все предписанные формы с должным уважением к конституции, все еще в основе своей республиканской, ему следовало побудить сенат не только добровольно предложить ему различные титулы и привилегии, но и вынуждать его принять их. Консулы держали проект указа и были готовы огласить его перед сенатом. По принятому этикету Тиберий должен был, поколебавшись, отклонить его, а затем уж смириться с неизбежностью и принять власть.
Он искренно собирался так себя вести и предстал перед сенатом несколько колеблющимся и неуверенным в себе. Смерть Августа была событием чрезвычайной важности. Авторитет Августа, его личное влияние, идущее еще со времени гражданских войн, сделали его человеком, стоящим вне и над обычными людьми с романтическим ореолом, воссиявшим над всем римским миром. Большинство людей родились в мире, на который Август оказал свое магическое влияние, мир был для них привычным и безусловным.
Но теперь перед ними стоял преемник Августа, и они, по крайней мере, понимали, что это просто его преемник. Он готовился просить ратифицировать его претензии на верховную власть, хотя самое выражение «верховная власть» кого бы то ни было не допускалось в этих стенах. Насколько они были готовы отклонить его притязания? Сама проблема верховного руководителя вновь стала открытой, однако они боялись даже признаться себе, насколько далеко готовы зайти в разрешении этого вопроса.
И сам Тиберий осознавал свои трудности. У него, естественно, хватало чувства юмора, чтобы почувствовать неловкость в ситуации, когда он должен просить власть, которой он уже на деле обладает. Не он придумал эту систему маскировки реальности вежливой политкорректностью. Она могла привести его к отказу — даже оскорблениям, — чего он вряд ли мог избежать. Более того, он, как любой человек в такой момент, мог чувствовать свое несоответствие. Он был застенчивым и необщительным человеком. Ни одному ранимому человеку в такой момент не надо лицемерить, говоря о своей незначительности. Он это сделает лишь в случае, если понадобится ответить на критику перед лицом опасности или затруднений, которые он предвидел.
Он понимал, что большинство сенаторов, если не все, верят в возможность восстановления республиканских институтов и даже считают, что Германик, как и его отец Друз, мог подсказать ему эту идею. Во всяком случае, партия друзей Юлии не поколебалась бы унизить его достоинство, которым сами они не могли похвастаться, хотя он не давал им никакого повода. Были и те, кто хотел бы вновь ввергнуть мир в гражданскую войну. И при всех этих подводных течениях ему приходилось определенными окольными способами добиваться от них, чтобы они добровольно предложили ему верховную власть, которую нельзя было даже так назвать, ту, что они, по-видимому, не желали предлагать никому, и меньше всего ему.
Спор, разгоревшийся после оглашения послания сената, был еще более трудным, чем даже предполагал Тиберий. Открывая дебаты, он говорил о громадности империи, о своем желании быть уверенным в себе. Неудивительно (говорил он), что лишь божественный Август мог справиться с такой великой задачей, как управление римскими владениями. Будучи приглашенным разделить ответственность и решения этого великого человека, он на собственном опыте понял, насколько трудна и рискованна задача правителя, который призван удовлетворить нужды самых разных людей. В государстве, состоящем из такого множества людей, не следует отдавать всю власть в руки одного человека. Правление будет более успешным, если власть поделить среди нескольких партнеров.
Все это он говорил строго по правилам. Он не сказал ничего, что не было бы совершенной правдой, и, вероятно, до определенного пункта, за которым была чужая территория, он выражал свое собственное мнение. Это вызвало нужную реакцию слез, мольб, протестов и выражений общих эмоций со стороны собравшихся. Затем перешли к делу.
Завещание Августа, которое, как обычно, хранили девственные весталки, было внесено в сенат и зачитано. Две трети его состояния переходило Тиберию. Но в довершение личного завещания он оставил и политическое завещание (Brevarium Imperii), которое теперь огласили. Оно содержало не только общий доклад о положении дел в империи и общественных ресурсах, но и ряд рекомендаций для будущих правителей, высказанных Августом столь определенно и обязывающе настойчиво, что создавало впечатление не просто его личного пожелания, а чего-то большего. Он советовал ограничить доступ к римскому гражданству для провинциалов, он высказал пожелание, чтобы римские границы впредь более не увеличивались и чтобы к работе на благо государства привлекались люди в соответствии с их заслугами и умением.
Это были замечательные пожелания. В сущности, это было больше чем пожелание. Это было выражение мнения, обладавшего всей полнотой и значимостью официальной декларации. Вполне возможно, что при первом чтении текста полный его смысл не дошел до понимания слушателей. Как известно из нашего собственного опыта, подобные документы должны размножаться и тщательно изучаться по каждому пункту, прежде чем их суть может быть понята и принята к действию. Мы на время останемся в том состоянии нерешительности и неуверенности, в котором пребывало собрание в сенате, и вернемся к Brevarium Imperii, пока его значение полностью до них не дойдет.
Тиберий тогда сказал, что, хотя он и не может взять на себя все правление, он готов принять на себя любую его часть, которую ему доверят.
Азиний Галл (второй муж Випсании) выразил надежду, что в таком случае Цезарь позволит им узнать, какую именно часть правления он желал бы принять на себя.
Гамбит Тиберия был абсолютно верным, и верным продолжением ответа сената должно было стать, разумеется, то, что сенат не может позволить выделить ему лишь часть обязанностей Цезаря и что он на коленях слезно умоляет его посвятить себя патриотической охране государства. Смысл вопроса Галла был, следовательно, довольно неуместным в своей непристойности. Разумеется, было нарушением протокола придать буквальный смысл фразе, которая, как всем было известно, была лишь формальным поводом, чтобы не уронить достоинства сената.
Тиберий (после нарочитого молчания) сказал, что он не сомневается в своих силах и возможностях и не уклоняется от ответственности и со своей стороны готов принять эту ответственность за все дела государства.
Азиний Галл (видя, что Тиберий не на шутку оскорблен, и теперь стремясь вести себя так, как ему и полагалось с самого начала) объяснил, что он задал свой вопрос не для того, чтобы разделить власть принцепса, которая неделима, но чтобы сам Цезарь имел возможность своими устами заявить, что государственное тело нераздельно и должно управляться одной головой.
Он возносит хвалу Августу и напоминает всем о выдающейся карьере Тиберия на гражданской службе.
Сходным образом высказался Аррунций.
Эти искренние попытки загладить неловкость оскорбительных высказываний, однако, были подпорчены Квинтом Гатерием, который спросил, надолго ли Цезарь намеревается оставить государство без управления?
Это был прямой выпад. Тиберий не ответил оскорблением, ничем, что могло бы рассматриваться как отступление от формальной процедуры, которую они проходили. На самом деле это замечание Гатерия было завуалированным заявлением о том, что Тиберий в какой-то мере намеревается узурпировать деспотическую власть, существование которой обе партии молчаливо отрицали или замалчивали. Тиберий, вероятно, сделал вид, что пропустил мимо ушей эту совершенно неуместную инсинуацию, будто он самоустранился и оставил свои обязанности, потому что следующий оратор, который, похоже, намеревался также быть нелицеприятным, изменил свой тон, не собираясь ходить вокруг да около.
Мамерк Скавр выразил чаяния, что просьбы сената не останутся втуне, поскольку Цезарь не наложил вето на предложение консулов.
Это вернуло заседание к текущему моменту, хотя обращение к трибунскому вето было необязательной шуткой. Никто и не предполагал, что Тиберий собирается отменить полномочия, оговоренные в постановлении сената. Но Скавр все же напомнил консулам, что постановление перед ними.27
Это постановление могло породить некоторые неприятные моменты. Оно отличалось от обычных постановлений времен Августа в одном немаловажном отношении. В нем не было установлено ограничение времени. Передача власти не была пожизненной или ограниченной сроком — срок оставался неопределенным. Тиберий заметил, что его власть будет продолжаться, пока сенат не сочтет необходимым отпустить старика на покой.28
Постановление сената было принято: Тиберий официально стал принцепсом, первым, кто получил власть мирным путем, пройдя все законные процедуры, он получил власть, не вступая в гражданскую войну. Это само по себе было достижением.
Это достижение, возможно, не слишком приветствовалось сенатом, поскольку, прежде чем все было кончено, Тиберию пришлось претерпеть ряд неприятных моментов. Обсуждались имперские титулы. Встал вопрос о Ливии.
Ливия всегда была личностью властной — львицей, со всеми качествами, присущими таковой. Как и большинство женщин ее типа, она, похоже, прежде всего заботилась о непосредственных и конкретных вещах, а не о романтических абстракциях, вроде славы и посмертного имени, о которых столь пекутся мужчины. Она серьезно влияла на политику Августа, но это было ее личным делом, а не великими трудами правления государством. Она скорее оперировала людьми, чем принципами. Именно из-за этого женского материализма трудно проследить следы ее влияния.
Естественно, Ливия не желала расставаться со своей властью и хотела держать руку на пульсе карьеры Тиберия. Если Август и выказывал патерналистское недоверие в отношении Тиберия, то материнское чувство такой женщины, как Ливия, — довольно тяжелая форма привязанности. Оно могло приобретать форму страсти, но едва ли любви. Может быть, это лучше было бы назвать «безумной» любовью. Трудно заметить у них присутствие каких-либо нежных чувств. Тот розовый глянец, которым современная Европа — а еще больше современная Америка — окружила отношения матери и сына, там, видимо, отсутствовал.
Ливия убедила Августа сделать ее еще при его жизни Августой. С точки зрения законности трудно было определить ее конституционное положение или назвать функции, которые она исполняет. Однако Август пошел ей навстречу, и его завещание включало в себя пожелание, чтобы Ливия пожизненно называлась Августой — что бы это ни значило.
Именно эту ситуацию сенат теперь и рассматривал, склоняясь к положительному решению. Титул Августа был принят. Некоторые сенаторы позволили себе отпустить некоторые остроты по поводу юридических аспектов этого.
Поскольку Август был pater patriae, было разумным предложить этот титул и Тиберию. Поступило предложение дать Ливии титул mater patriae. Те, кто полагал, что первое предложение было слишком смелым, предлагали альтернативу parens patriae. Тиберий отверг все эти предложения. Наконец, сошлись на том, чтобы прибавить титул Filius Juliae29 к его собственному титулу Цезарь.
Трудно было более откровенно выразить неуважительное отношение сената к новому императору. Однако отдельные насмешки (а они, разумеется, присутствовали в этих предложениях) были не единственным, что следовало принимать во внимание. Подобные титулы вели к неуважению самой власти принцепса. Пятидесятипятилетний сын Ливии не собирался держаться за материнскую юбку; он, как и весь сенат, понимал, что пожизненный титул Августы с неопределенными полномочиями и правами был бы прямой угрозой принципу личной власти. Ливия подвергала опасности свои отношения с сыном, внося это неудобство для принцепса и его личного достоинства. У него были свои обязательства перед своим постом, о которых он не хотел и не собирался забывать. Тиберий отклонил целый ряд предложений.
Он сказал в сенате, что следует наложить целый ряд ограничений касательно почестей, оказываемых женщинам, и что он намерен придерживаться такой же скромности и в отношении к своим собственным титулам. Он отказал Ливии в эскорте ликторов. Предложение возвести алтарь в ее честь он также отверг.
Заседание закончилось предоставлением Германику проконсульского империя и выбором специальной делегации, которая известит его об этом, а также всеобщими выражениями горя по случаю смерти Августа.
Тиберий успешно преодолел испытание, которое потрепало бы нервы более слабого человека. Он получил что хотел, получил возможность огласить принципы, в соответствии с которыми намеревался править. Принципат, начатый Августом, мог бы по многим причинам легко уйти в небытие, как прежде неограниченная власть тирана Сиракуз Дионисия. Его сохранение в огромной степени обязано твердости и терпению человека, который ввел этот процесс в гавань закона и конституционным прецедентом сделал эту власть постоянной. Трудности, ждавшие его впереди (а они были очень серьезны, а для современников гораздо значительнее, чем для нас, оглядывающихся назад), предстояло преодолевать по мере их возникновения. Первый шаг был сделан… Однако существование враждебных подводных течений можно было предвидеть и не сомневаться в их наличии.
Эта враждебность проявилась потому, что сенат недостаточно хорошо знал избранного ими человека. Среди сенаторов укоренилось мнение, что Тиберий был простым орудием Августа, и к тому же не очень надежным, эксцентричной фигурой, которую Август назначил своим преемником из-за отсутствия более достойных кандидатов. Хотя кое-кто, несомненно, и был заинтересован в распространении такого мнения, оно стало рассеиваться, едва сенаторы взяли на себя труд осмыслить события. Один из первых увидел события в истинном свете Квинт Гатерий.
Гатерий, кажется, сожалел о том, что доставил неприятности Цезарю, и поэтому поспешил на Палатин извиняться. Он, однако, видимо, слишком переусердствовал, он пал на колени и обнял ноги Цезаря, наглядно проявляя тогда еще новые выражения чувств. Тиберий, подобно англичанину, которого стал целовать француз, с негодованием отверг это проявление раболепия; но, когда Гатерий, падая на колени, повалил и Тиберия, преторианцы, видя, как Цезарь борется с человеком, который на нем лежит, бросились его спасать. Жизнь Гатерия была в опасности, и Ливии пришлось вступиться за него. Латинский язык не мог выразить того, что чувствовал Тиберий; но он хорошо владел греческим, языком более выразительным для риторических целей, и мог воспользоваться этим языком. Гатерий, без сомнения, удалился, ругая себя и чувствуя, что жизнь — тяжкое испытание.
Всякие сомнения в восприятии сенатской олигархией личности Тиберия укрепились при более внимательном прочтении Brevarium Imperii. Мнение Августа (даже из могилы) все еще влияло на мысли и поведение большинства людей, которые восхищались им при его жизни и признавали его вождем и руководителем. Олигархия вынуждена была согласиться, что монархия, при которой они жили, более продолжительна, чем они полагали. Хотя Август был мертв, установленная им власть осталась.
Нельзя сомневаться в том, что армия еще быстрее оценила значение политического завещания Августа, чем сенатская оппозиция в Риме. Любое действие могло возникнуть только в недрах армии. Если Август предвидел опасность со стороны армии, ему следовало составить такой документ, как Brevarium. Он должен был добавить собственные указания к политике, которую, как он знал, будет проводить Тиберий.
Курс, изложенный в Brevarium Imperii, настолько определен, что завещание явно было составлено при участии или даже по просьбе Тиберия. Авторитет Августа придал силу принципам, которых придерживался Тиберий. Сам Август не всегда их разделял. Положения, изложенные в меморандуме, показывают, что он осознавал необходимость оградить Тиберия от подозрений, которые возникнут в отношении его политики на Рейне. Провинциалами, которым был ограничен доступ к римскому гражданству, были германцы; границы, которые далее не следовало расширять, были границами с германцами, и Август ясно предвидел вероятность, что его преемник может оказаться в неловком положении, возражая против выдвинутых претензий. Он изложил свои рекомендации в общей форме; однако общее неизбежно включало и частности.
По всей видимости, в этот меморандум в кратком виде вошел доклад Тиберия, представленный Августу после изучения ситуации на севере, в нем отразилась победа над политикой военачальников на Рейне в последние дни жизни Августа.
Глава 7
ВОЕННЫЕ МЯТЕЖИ
Военные мятежи на Рейне и на Дунае последовали тотчас. Современному читателю не вполне ясно, почему военачальники вдруг сочли столь трудным контролировать выражение мнений своих подчиненных. Войска хорошо знали Тиберия. Он не походил на человека, которого могли испугать подобные бунты, и еще меньше, чем Август, он был склонен идти навстречу требованиям, которые они не осмеливались предъявить последнему. Если они полагали, что восшествие нового императора, только что приступившего к исполнению своих обязанностей, будет подходящим моментом для привлечения внимания к их проблемам, то выказали политическую проницательность, которая напрочь отсутствовала в их дальнейшем поведении.
Мятежи на Рейне и Дунае заслуживают того, чтобы подробно о них рассказать, и не только как о части правления Тиберия, но и чтобы ближе взглянуть на жизнь и быт римской армии. Обычно его излагали в богатой — иногда слишком богатой — подробностями комедии, в которой простые люди всех возрастов намного умнее своих начальников, к тому же с немалой долей юмора. Тацит описывает сцену, которая могла выйти из-под пера Чарльза Левера или капитана Марриата.
Мятеж в Паннонии разразился первым.30 Три легиона, стоявшие в Паннонии (8-й Августов, 9-й Испанский и 15-й Аполлониев), были расквартированы вместе на летних квартирах. Узнав о смерти Августа, их командир Юний Блез отменил обычные работы в знак траура. Вот во время этого вынужденного бездействия и начались неприятности.
Первым зачинщиком стал человек по имени Перценний, у которого было не совсем обычное прошлое. Прежде он был организатором и предводителем группы театральных клакеров. Подобное спортивное соперничество, которое столетия спустя вылилось в войны «синих» и «зеленых» и в знаменитый мятеж гладиаторской команды «Ники» в Константинополе, уже вовсю процветало в Риме. Этот Перценний был опытным агитатором и рекламщиком, который способствовал успеху или провалу той или иной стороны. Затем он записался в армию. Нам неизвестны безусловно любопытные причины, повлекшие такое его решение, однако можно предположить, что какой-нибудь казначей счел необходимым для него на время укрыться в армии.
Вскоре этот человек стал популярным среди солдат, которым в долгие свободные вечера нечем было заняться, кроме слушанья его речей. Наиболее разумные и уважаемые люди держались от него подальше, однако вскоре он нашел приверженцев среди глупцов и забияк. Речи, которые Тацит вложил в его уста, были речами веселого выпивохи и заводилы. Точно такие речи можно услышать в Гайд-парке и в наши дни. Это решительно не те речи, с которыми обращается уважаемый профсоюзный лидер к своим слушателям. Читая их, можно живо себе вообразить, каков по характеру и из какой среды вышел Перценний. О личности его казначея можно только догадываться.
Несомненно, были уважительные причины, почему Юний Блез сразу же не пресек его деятельность, не арестовал Перценния и не занял войско работой. Когда же, наконец, он вмешался, то сказал: «Лучше обагрите ваши руки моей кровью, чем предайте интересы императора». Он сказал то, что на его месте сказал бы любой современный офицер. Мятеж и восстание, говорил он, не лучший способ донести свои обиды до ушей Цезаря. В прежние времена никогда воины не высказывали подобных требований своим командирам. Начало нового правления — неподходящее время для того, чтобы еще увеличить бремя его правления. Он, наконец, предложил им назначить депутацию и передать делегатам наставления в своем присутствии.
Мятежники-любители вовсе не стремились «омыть руки кровью Блеза». С замечательным добродушием они приняли его предложение. Был избран трибун, сын Блеза, чтобы направиться в Рим с требованиями от имени тех, кто прослужил шестнадцать лет и требовал выхода в отставку после этого срока вместо отставки после двадцати пяти лет. Дальнейшие инструкции будут переданы, если это условие будет выполнено.
Ничто более ясно не могло показать нереальность мятежа, чем обещание «дальнейших инструкций». Эти умеренные мятежники, видимо, тешили себя мыслью, что мятеж будет носить мирный характер и продолжится долго и что они постепенно, одно за другим будут направлять в Рим свои требования, а новый император будет покорно им следовать. Они были новичками в деле восстания и даже не знали, что это такое и как оно проходит.
Попытки Перценния пали на подготовленную почву настроений более серьезных его коллег. Пока эти события происходили в летнем лагере, восстали войска в Навпорте и отметили это событие грабежом соседних вилл. Попытки центурионов восстановить порядок привели к оскорблениям, а затем и к насилию. Особенным нападкам подвергся Авфидиен Руф, офицер, выслужившийся из рядовых до должностей, соответствовавших современным должностям адъютанта и квартирмейстера. Авфидиен тяжко трудился всю свою жизнь и заставлял делать то же и других. Они захватили Авфидиена, запрягли в повозку с багажом и погнали вперед, издевательски спрашивая, как ему нравится тяжкий груз и длительные переходы, которым они сами подвергаются ежедневно. Авфидиен был первой жертвой насилия среди центурионов, на его примере стало ясно, где искать истинные причины недовольства — в слишком суровой дисциплине, а не в условиях службы.
Прибытие в лагерь этих людей перечеркнуло результаты дипломатии Блеза. Пример грабежей стал заразительным. Мягкость Блеза была его выбором, а не необходимостью. Как только он понял, что дела принимают серьезный оборот, он прибег к суровым мерам. Центурионы и лучшие из воинов все еще были лояльны. Главные зачинщики были взяты под стражу, высечены и посажены на гауптвахту. Эти шаги были предприняты несколько поздно. Арестованные обратились за помощью к своим товарищам и были тут же освобождены силой.
Отныне мятеж стал приобретать опасный оборот. Главный зачинщик — некий Вибулен выступил вперед и произнес пламенную речь, направленную прямо против Блеза. Он утверждал, будто его брат был направлен от имени мятежников донести новость и обращение к легионам, стоявшим в Германии, но был убит гладиаторами Блеза.
Чувства, захлестнувшие воинов после этого сообщения, окончательно смели авторитет командира: Мятежники распорядились арестовать гладиаторов и заковать их, пока они сами будут искать тело убитого ими посланника. Тело не нашли, а гладиаторы, допрошенные под пыткой, отрицали убийство ими кого бы то ни было. В конце концов стало известно, что у Вибулена никогда не было брата. Это, однако, уже не имело значения. Вред уже был нанесен.
Тем временем все было объято восстанием против командиров, в ходе которого стала литься кровь. Офицеров изгнали из лагеря, а их палатки разграбили. Один из центурионов, Луцилий,31 был убит. Другие пытались найти убежище. Клемент Юлий, однако, был пойман и возвращен обратно, поскольку мог выступить и произнести речь от их имени. Страсти накалились во время всеобщего кровопролития, когда 8-й легион потребовал выдачи центуриона по имени Сирпик от 15-го легиона, где тот скрывался и который отказался его выдать. Лишь вмешательство Испанского 9-го легиона предотвратило всеобщий армейский бунт. Вибулен оказался более способным организатором, чем Перценний!
Пока мятежники были заняты своими делами, удивительным образом не думая о последствиях и забыв обо всем на свете, кроме своих забот, Тиберий предпринимал активные шаги для их усмирения. Его сын Друз с отрядом опытных офицеров, двумя когортами преторианской гвардии и отрядом германских всадников отправился в Паннонию. Начальником его штаба был человек, о котором мы вскоре услышим, — Луций Элий Сеян, сын помощника префекта преторианцев. Друз получил инструкции действовать в соответствии с обстоятельствами.
Прибыв, он нашел лагерь закрытым и охраняемым и распорядился, чтобы мятежники сошлись на общее собрание. Друз вошел в лагерь с небольшим отрядом, за ним закрыли ворота и поставили караул. Он занял свое место на трибунале в центре лагеря, а восставшие собрались вокруг возвышения большой толпой.
Было много шума и беспорядка. Дождавшись тишины, чтобы его можно было услышать, Друз стал читать письменное обращение Тиберия с обещанием донести их требования до сената. А пока, говорилось в письме, он посылает своего сына, чтобы тот решил то, что можно решить на месте.
От имени собрания говорил Клемент Юлий. Они потребовали почетной отставки после шестнадцати лет службы, оплаты по одному денарию в день, а также немедленного выхода на пенсию всех ветеранов. Друз отвечал, что не имеет полномочий удовлетворить такие их просьбы, что это компетенция только сената или его отца. Это — особенно ссылка на сенат — вызвало бурю негодования. Зачем он тогда сюда явился? Пусть он консультируется с сенатом всякий раз, когда наказывают кого-либо или посылают на передовую. Собрание стало превращаться в митинг протеста.
Мятежники, разумеется, имели на то основания. Ссылка Друза на сенат была несерьезной: сенат не имел никакой власти над армией и права голоса в ее командовании. Люди поняли правильно, они считали, что привлечение к делу сената — лишь уловка, чтобы затянуть его и пренебречь их требованиями. Однако и Друз с Тиберием были не столь просты, и нам остается лишь гадать, имело ли упоминание сената основания, нам неизвестные. Был ли этот намек на некую сенатскую интригу, которая лежала в основании мятежа, ироническим обещанием того, что те, кто инициировал мятеж, сами должны взять на себя и труд его усмирить? Если так, то ясно, что большинство людей не подозревали, во что их втянули. Намек в то же время мог достичь цели, повлияв на таких людей, как Перценний и Вибулен, и дать им неприятный повод для размышлений. Каковой бы ни была цель, нам остается лишь гадать. Хотя определенно какой-то смысл в этом был.
Обстановка накалялась, последовали угрозы в адрес людей Друза, затем перебранка и стычки. После обмена угрозами с обеих сторон Лентул нашел более разумным отступить. Его преследовала разъяренная толпа, которая язвительно интересовалась: куда он теперь направится, к императору или, может, в сенат? На него накинулись, и побитый, истекающий кровью, он был спасен преторианцами. Друз удалился, чтобы обдумать, какие шаги ему предпринять в дальнейшем.
Предстоящая ночь могла иметь серьезные последствия. В палатке Друза состоялось совещание. В его штабе были люди весьма опытные в военном деле. Они спокойно могли сформировать точное мнение о внутренней ситуации, и вполне разумно предположить, что то, как мятежники восприняли упоминание о сенате, помогло им до конца понять, насколько далеко зашло дело и насколько ситуация была беспокойной… Они уже приняли решение о дальнейших действиях, когда произошел неожиданный эпизод, который поторопил.
Около трех часов ночи луна, ярко сиявшая на чистом небе, стала затмеваться. Сразу же проявилась разница в том, как затмение восприняли люди образованные, знавшие, что это лишь природное явление, и люди, выросшие в сельской местности, для которых затмение связано с суеверными представлениями. Знатоки обычаев стали ударять в медные сосуды, дуть в трубы и бить в барабаны — медь во всем мире считалась верным средством против затмений. Когда тень накрыла луну, и все погрузилось во мрак, суеверы поняли, что боги отвернулись от них в ужасе из-за того, что они осквернили себя военным мятежом.
Затмение, которое таким образом вызвало некоторую смуту и колебания, было слишком удачным событием, чтобы им не воспользоваться. Сразу приступили к действиям. Друз послал за Клементом Юлием и другими надежными людьми, которым доверяло войско. Их спешно проинструктировали и направили пропагандистами в легионы. Вскоре они договаривались с пикетчиками. Кто такие, спрашивали они, этот Вибулен и Перценний? Может, они собираются занять место Тиберия и Друза? Постепенно они переубеждали людей. Утром пикеты тихонько оставили ворота; штандарты, накануне удаленные из претория, были возвращены на свои обычные места. Обстановка в лагере быстро приходила в обычное состояние.
Затмение продолжалось до семи часов утра. До его окончания Друз на рассвете созвал людей на вторую встречу. Он не был оратором, но он тем не менее был из рода Клавдиев и обладал чувством собственного достоинства; это чувство уверенности все более и более способствовало желательному повороту событий. Он объявил войску, что не боится их угроз, что, если они разумно оформят свои просьбы, он донесет их мнение до отца и будет настоятельно рекомендовать к ним прислушаться. Собрание избрало депутацию к Тиберию. Туда входил Юний Блез, Луций Апоний, один из сопровождения Друза, и Юст Катоний, центурион. Депутация отправилась в Рим.
В этот момент среди советников Друза появились разногласия. Одни говорили, что разумнее ничего не предпринимать до возвращения депутации из Рима, полагаясь на равнодушие, которое охватывает людей стечением времени, если они не слишком заинтересованы в результатах дела. Другие, полагая, что мятеж не пустил глубоких корней в армии, склонялись к тому, чтобы принять суровые меры. Друз предпочел мнение последних. Первым делом было доставить к нему Перценния и Вибулена. Они пришли и были сразу взяты под стражу и в конце концов казнены. Близкие к ним агитаторы мятежа были отысканы и доставлены преторианской гвардией. Других доставили сами воины. За затмением наступила плохая погода. Ввиду сильной бури люди не могли покинуть свои палатки, поэтому у них не было возможности обсуждать события между собой или начать новые разбирательства. Стало распространяться мнение, что удача не сопутствует мятежу. 8-й легион вернулся к своим обязанностям. Вскоре его примеру последовал 15-й легион. После некоторых споров, следует ли дождаться возвращения депутации, 9-й легион также решил вернуться к обычной службе. Мятеж закончился.
Друз, видя, что дело успешно идет к завершению, благоразумно оставил здесь своих военачальников, а сам поспешил с докладом в Рим.
Восстание на Рейне стало эпизодом куда более серьезным, чем мятеж на Дунае. Весь ход событий вел к тому, чтобы паннонийский мятеж поднял на восстание армии, стоявшие на Рейне, что было стратегической целью. Если вся интрига заключалась в том, чтобы начать новую гражданскую войну и организовать поход на Рим, то понятно, что рейнские армии могли стать в этом действенным инструментом.
Германик находился в Галлии. Армия, стоявшая на нижнем Рейне под командованием Авла Цецины Севера, была сосредоточена вокруг старого Оппидум-Убиорума — позже колония Агриппина, а еще позже — Кельн. Армия, стоявшая на верхнем Рейне под командованием Гая Силия, находилась в Майнце. Восстала армия Цецины. Мятежники выдвинули требования, удивительно схожие с требованиями своих паннонийских коллег. В этом случае организацию мятежа проводили не отдельные агитаторы, как Вибулен и Перценний, а сами мятежники не были неуверенными смутьянами, как паннонийцы, которые более полагались на другие армии, чем на свою собственную. Восстание в армии Цецины стало истинной душой всего мятежа.
Восставшие действовали целенаправленно, были организованны и дисциплинированны. На офицеров напали и «вывели из строя». Один был убит прямо на глазах у Цецины, и тот ничего не смог сделать, чтобы его спасти. Германик поспешил в лагерь.
Разговор Германика с мятежниками был очень примечательным и ничего общего не имел с поведением Юния Блеза с паннонийскими легионерами. Германика встретили очень тепло. Поначалу восставшие отказались построиться в боевом порядке,32 но после того, как он их урезонил, он сумел добиться желаемого результата. Затем он обратился к ним с отеческим упреком за их поведение. Тотчас же возник ропот. Некоторые побуждали его идти на Рим.
Последовала мелодраматическая показательная сцена. Разумеется, Германик, по всей видимости, был шокирован предложением и понимал, что разумно было бы не отказываться от предложения столь очевидно, насколько позволяли обстоятельства.33 Во всяком случае, он соскочил с трибуны, обнажил меч и, высоко подняв его над головой, прокричал, что предпочтет смерть измене. Его друзья, стоявшие поблизости, поспешили остановить его, прежде чем он вонзит меч себе в грудь, и нам, естественно, не сообщают, что сделать это им не представило особого труда. Сам Тацит признает, что некоторые непорядочные люди трактовали этот эпизод скептически, что вызывает у историка удивление и боль. Раздались голоса, которые советовали Германику не останавливаться и идти до конца, а некий солдат, мы даже можем назвать его имя — Калусидий — предложил ему свой меч, с издевательским замечанием, что он более острый. Войско, утверждает Тацит, восприняло это замечание как жестокое и бесчеловечное. Это, конечно, пролило холодный душ на чувства собравшихся. В возникшей паузе друзья быстро увели Германика в его палатку. Однако было очевидно, что он не собирается идти походом на Рим.
Как уверяет нас панегирист Германика, ситуация была очень сложной. Любое решение было равно рискованным. Мятеж на Рейне оказался для легионеров делом столь же сложным, как и для их собратьев в Паннонии. После обсуждения было решено отправить письмо на имя Тиберия, чтобы тот гарантировал им выход в отставку после двадцати лет службы и частичные льготы для ветеранов со стажем более шестнадцати лет службы, их жалованье должно быть удвоено и выплачено.
Мятежники, разумеется, этого не ожидали. Они полагали, что следует предпринять поход на Рим, и требовали, чтобы уступки были осуществлены немедленно. Трибуны отдали необходимые распоряжения. Мятежникам было обещано, что выплаты будут произведены, когда армия встанет на зимние квартиры. 5-й и 21-й легионы не соглашались принять эти уверения, отказались двигаться с места, пока им не заплатят. Ситуация была постыдной. Германик со своими людьми наконец скинулись и заплатили из собственных средств — это, видимо, очень порадовало Тиберия, когда он об этом услышал! Вряд ли они когда-либо вернули свои деньги назад.
Теперь Германик отправился навестить армию на верхнем Рейне. 2, 16 и 13-й легионы тотчас принесли клятву верности новому императору. 15-й легион колебался, поэтому ему сразу обещали выплаты без всякой просьбы с их стороны. Пораженный такой нежданной удачей, он, однако, не встал на сторону мятежников. Вероятно, это было бы слишком.
На самом деле в армии Гая Силия не было мятежников, и это обстоятельство окончательно убедило всех в том, что мятеж на Рейне закончился неудачей.
Однако Тиберия осуждали за то, что он лично не прибыл на место событий. Его собственные объяснения, что, по его мнению, он больше пользы принесет, оставаясь на месте в Риме и контролируя всю ситуацию, не были приняты в расчет. Этому не верили и тогда, и впоследствии; возможно, по причине очевидного здравого смысла. Он послал Друза в Паннонию. На Рейн он направил делегацию во главе с Мунацием Планком. Прибытие посланников в Колон стало сигналом для нового возмущения.
Армия нижнего Рейна, кажется, не совсем верила в искренность Германика и его коллег, у нее не было сомнений в том, что посланники от императора принесли неблагоприятные вести. Легионеры преследовали Мунация Планка, который вынужден был искать убежища в палатке со штандартами, где на его защиту встал знаменосец Кальпурний. На рассвете он был освобожден Германиком, давшим посланникам в сопровождение отряд всадников.
Прибытие комиссии тем не менее ускорило дело. Для Германика стало очевидным, что армия верхнего Рейна лояльна и с ее помощью можно подавить мятеж войска Цецины. Некоторое время он колебался. Если бы в его интересах было раздуть дело или если бы он имел от этого какую-либо выгоду, он, видимо, также страдал бы от неспокойной совести, прежде чем использовать силу для подавления простаков, которые были обмануты и загнаны в угол. Агриппина, всегда бывшая женщиной сильной, не хотела его оставлять. Ничего не могло случиться, пока она была с ним рядом. Наконец Германик вынужден был принять решение. Женщин и детей отослали из лагеря.
Историки, по одним им ведомым причинам, любили описывать трогательную картину горести и стыда, которые воспламенили чувства войск, когда они увидели процессию, покидавшую лагерь. Агриппина несла на руках маленького Гая (в войске его ласково называли «сапожок» — Калигула), который большую часть своей жизни провел вместе с ними в лагере, как они встали на колени перед Германиком и просили прощения. Очевидно, что Германик отослал из лагеря женщин и детей с некоторой подчеркнутой нарочитостью. Однако чувства войска были весьма далеки от тех, на которые он рассчитывал. Они понимали, что процессия, возглавленная Агриппиной, была преддверием наступления легионов Гая Силия, идущего на выручку Германику. Они бросились ей в ноги и остановили ее. Германик был рад избежать выпавшего ему испытания. Он держал перед ними речь, он горячо обвинял людей, которые уже и так осознали, что поступили неверно. Они каялись. Они упали на колени. Легионы Силия не были введены в лагерь. Мятеж был окончен.
Если мы нуждаемся в дополнительном подтверждении, что Германик знал о мятеже гораздо более того, что лежало на поверхности, это вытекает из его дальнейших действий, которые ясно указывают на истинных зачинщиков мятежа. Расследование в установлении замешанных в деле партий быстро обернулось развлекательным фарсом, хотя и с тяжкими последствиями для жертв. Предполагаемые зачинщики прошли суд целой армии и были либо объявлены виновными, либо оправданы нестройными выкриками. Маловероятно, что столь демократичный суд обвинил истинных участников мятежа, скорее множество непопулярных в армии личностей получили то, чего они в действительности не заслуживали.
Расследование также коснулось и центурионов. Как бы то ни было, не приходится сомневаться, что во многих случаях центурионы были людьми, которых ненавидели. Прежде чем армия вернулась к своим обычным обязанностям, она получила возможность обвинить любого центуриона, чье обращение с воинами считали слишком суровым. Эта возможность была встречена с энтузиазмом, и эти два суда над солдатами и офицерами, которые проводила вся армия, несколько смягчили напряженность, вызванную мятежом. Во всяком случае, никто не мог назвать эти суды тираническими. Их основная вина состояла в слишком пристрастной и безответственной демократии.
Таковы были внешние события военных восстаний на границах Рейна и Дуная. Были, разумеется, события не столь очевидные, о которых тем не менее можно судить по их результатам.
Мы не знаем подробностей инструкций, данных делегации, направленной на Рейн, мы также не знаем об обмене информацией между Тиберием и Германиком. Известно лишь, что Германик получил полномочия для завоевания Германии вразрез с политикой, изложенной в политическом завещании Августа. Военачальники, поскольку их политика была одобрена Римом, вероятно, нашли возможным восстановить армейскую дисциплину.
Очень важно отметить ввиду последующих отношений между Тиберием и Германиком, что эти события явно намекают на то, что Тиберий уступил под угрозой силы. У Тиберия были все основания для глубокого скептицизма в отношении удачливой судьбы Германика. Последний был, в конце концов, более чем просто частное лицо. Он возглавлял партию — партию Юлии, поскольку был женат на ее дочери. Сенатская партия ему симпатизировала, и они знали, что делали.
Историческая традиция считает, что Тиберий ревниво относился к Германику. Такое утверждение почти ничего не доказывает, поскольку ревность в общем смысле может быть самого разного свойства у различных людей, начиная от нашего Господа Бога, который является богом ревнивым. Однако война между такими типами личности, как Тиберий и Германик, универсальна и вечна. Любой, кто пробился на самый верх благодаря признанию своих заслуг и ответственности лидера, не станет одобрять тех, кто, не обладая истинными способностями, может вызывать энтузиазм окружающих, идя им навстречу, льстя им и выполняя их неоправданные желания… Существует также такая вещь, как ревность политиков. Германик никогда не выказывал Тиберию такой преданности, как Тиберий Августу, забывая собственные интересы в угоду служению своему господину. Взгляд Тиберия был сосредоточен на опасной точке, на центре политического раздора.
Принципы и основы поведения Тиберия можно проследить по его отношению к военным мятежам. Уступки, сделанные мятежникам на Рейне, он немедленно, с обычным для него чувством справедливости, перенес и на паннонийские войска. Однако он упорно отказывался от того, чтобы сделать эти уступки постоянными в будущем. Требования этих людей приобрели вид, который стал привычным в последующие века. С целью облегчить свою участь они требовали внести изменения в общие правила и тем самым устранить злоупотребления в армии. Тиберий отказался это сделать. Он склонялся к тому, чтобы правила были справедливы, но не согласился изменить их в требуемом направлении. Вместо того чтобы сократить срок службы, он на самом деле его увеличил. Кажется, такой его подход к армейской службе не вызвал особого сопротивления армии, во всяком случае, нам об этом ничего неизвестно. Суть была в том, что принятые правила плохо и неверно исполнялись, а не в самих правилах, которые могли бы вызвать недовольство.
Здесь мы затрагиваем весьма деликатную проблему отношений между исполнителями и вышестоящими. Гораздо легче что-либо поменять в самих правилах, чем соблюдать их с надлежащей справедливостью и доброй волей. Правила можно менять всякий раз, как только они несправедливо применяются, но, если они никогда не исполняются как следует, никакая перемена не будет удовлетворительной. Тиберий стоял на том, что хорошее исполнение — секрет удовлетворительного правления.
Его успехи и неудачи как правителя были показателем истинности такого его представления. Он не был склонен подчинять свои действия желаниям людей, которыми он управлял. Он удивил римский мир, устроив ловушку и западню для многих усердствующих, но запутавшихся людей, что легло в основу трагедии, разыгранной ближе к концу его правления, когда все полностью зависели от одного человека, и это следует держать в голове по мере того, как мы будем продвигаться к концу его правления.
Август был физически слаб и утончен. Ничто лучше не характеризует Тиберия, чем его физическая сила и здоровье. Он мог пальцем левой руки проткнуть свежее цельное яблоко, а щелчком мог поранить голову мальчика или даже юноши. Просыпаясь, он мог видеть в темноте, как кошка, хотя через несколько минут эта способность утрачивалась. Телосложения он был крепкого, с квадратными плечами, светлокожий, с орлиной повадкой, двигался очень плавно, держался очень прямо, однако опустив голову и потупив взор; молчаливый, осторожный в высказываниях, с убийственным, довольно мрачным юмором, терпеливый, замкнутый, горделивый потомок Клавдиев. Качества, присущие этой фамилии, — ключ к личности Тиберия. Он был аристократом до мозга костей, полным утонченных склонностей и хорошо осознававшим, что именно для него неприемлемо, человеком железной сдержанности и твердой воли.
В нем не было ничего от парвеню. Он никогда не сооружал кресел из чистого золота и не украшал себя драгоценными одеяниями. Его привычки были просты до аскетизма. Он был расчетлив, осторожен в тратах, экономен — качества человека, который слишком привык к деньгам, чтобы быть ими поглощенным или пренебрегать ими. Его ум обладал сходными свойствами. Он никогда не использовал титул «император». Он называл себя Августом только в переписке с иностранными корреспондентами. Он упорно и последовательно отказывался от таких претенциозных титулов, как «отец отечества», и ему подобных. Он никогда не позволял никому, кроме людей рабского статуса, обращаться к себе как Dominus (господин). Он оставался просто Тиберием Цезарем. Эта склонность порицать людей как слишком подобострастных, так и чересчур напыщенных была постоянной чертой его характера. Он не любил тех, кто держался отчужденно, но также и тех, что бежали к нему по первому зову. Он любил подчинение, но ненавидел раболепие. Его внимание было сосредоточено на истинных качествах людей и вещей: на уме и способности людей, на справедливости и доброжелательности действий. Такой человек едва ли хотел зависеть от того, что о нем думают или чего ожидают от него окружающие. Он готов был взять на себя ответственность лидера.
Право отдавать приказания довольно естественно принадлежит правителю, но многое зависит от того, как он это право получил. Проблема переходит в вопрос о том, черпает ли он это право из уверенности, что с ним согласятся, или из справедливости и мудрости самой команды. Тиберий твердо знал, что исполнение команды основано на ее правоте.
Он довольно строго рассматривал себя на посту главы государства. Он обращался со своими подданными так, как обращался с иллирийской армией, — то есть с истинным пониманием дела и на пользу их благосостояния. Он был хорошим правителем, как ранее был хорошим офицером. И сходным образом он не готов был допустить, будто они лучше, чем он, разбираются в вопросах общего блага. Искусство управлять не приходит по доброму знаку с небес. Копать землю или подковывать лошадей — эти занятия дают человеку столь же мало понимания об управлении, как и человеку, который завоевывает Германию или строит мосты. Лишь одно обычный человек может посоветовать своим правителям — что всякое правление должно быть основано на справедливости и направлено на общее благо. Но кто они были, чтобы говорить Тиберию Цезарю подобные вещи? Да и был ли он сам тем страшным человеком, что ставил собственную славу и собственность во главу правления? И когда человек, подобно Тиберию, в течение долгой жизни проходит все этапы в деле государственного управления, он не нуждается в советах тех, кто не обладает ни подобными знаниями, ни подобным умением.
Для сильного и способного человека такое его право действовать является обоснованным, ибо слабость противоположной точки зрения в том, что она рассматривает право и истину как данность, а не как цель, зависящую от того, что люди чувствуют и представляют. Это последнее мнение подходит слабым, невежественным и неудачливым, а не сильным, знающим и умеющим добиться желаемого: власти, если они знают, что это такое, или пути домой, если они знают, где этот путь находится. Однако советы потерявшейся овцы редко бывают хорошим руководством для пастуха.
Такое ощущение власти было его правом и силой — и мудрой силой, — обусловливающей все действия Тиберия. На этом основании он защищал ее от всякого рода нападок. Он никогда не оказывался в положении эгоистичного и самооправдывающегося человека, подсознательно ищущего компромиссов. Никогда он не шел на компромисс с недругами. У него никогда не было сомнения в абстрактном праве командовать, присущего современному человеку.
На таком основании строилась его политика. Он гораздо более четко представлял себе истинное положение вещей, чем Август. Он и не делал вид, что принимает принципат лишь на какой-либо условный срок. Одной из характерных черт старой формы правления было избрание магистратов в народном собрании. Превращение древней партии популяров в имперскую военную гильдию сделало эти собрания показухой. Кандидаты назывались принцепсами, а выборы состояли главным образом в том, что кандидаты тратили значительные суммы денег на якобы ведущуюся избирательную кампанию, результаты которой, как правило, были известны заранее. Тиберий это отменил, назначая ровно столько кандидатов, чтобы заполнить должности: таким образом, результат был абсолютно предрешен, и они могли сохранить свои деньги. Законодательная деятельность собрания была сведена к предоставлению трибунских полномочий. Эти изменения не были направлены ни против кого конкретно, в них было простое чувство реальности, а мотивом была экономия средств.
Старое народное собрание сменилось его властью, однако с сенатом, сохранявшим свое прежнее устройство и все еще бывшим реальной силой, он обращался весьма осторожно. Он считался с достоинствами как самого учреждения, так и отдельных его членов. Он отменил проверки на профпригодность для кандидатов на должности, списки которых сенат предоставлял ему для назначения. При его правлении сенат скорее выиграл, чем проиграл. Он стал основным судебным органом по уголовному праву, после которого можно было апеллировать лишь к имперскому суду.
Сам он неоднократно повторял, что хороший пастух стрижет своих овец, а не сдирает с них шкуру. Он строго следил за управителями провинций. Он облегчил способы подачи жалоб на злоупотребления, и наказания за эту провинность стали довольно частым явлением. Говорят, бывали случаи, когда дела слушались уже после того, как все было кончено; однако не Тиберий придумал систему римского правления, и он не был готов предложить систему более приемлемую. Он лишь мог выполнять свои обязанности как можно лучше — и он это делал. Провинции, находившиеся под его властью, управлялись более эффективно, чем сенатские провинции, настолько, что переход провинции из управления сената под имперское управление сразу же сопровождался снижением налогов. Он никогда не поднимал налоги. На какое-то время он, напротив, их снизил. Тщательной экономией он накопил громадные резервы, которые помогли ему встретить непредвиденные обстоятельства, о которых мы еще услышим. Провинции процветали, и в то же время ни одно прежнее римское правительство не обладало такими резервными суммами. Существование этих фондов привлекало внимание многих людей, которые хотели бы их прикарманить.
Свидетельства об основательности правления Тиберия исходят из многих источников и подтверждаются историками. Как и всякое хорошее правление, оно не было сентиментальным. Отличаясь исключительным реализмом, его правление обращалось скорее к кошелькам подданных, чем к их сердцам. И он, скорее всего, отчетливо сознавал, что обеспечивает безопасность своей власти с помощью методов правления. Со дня встречи с сенатом он понял, что, если будет придерживаться собственного курса в политике, ему понадобится поддержка, и ее он обрел в огромном множестве простых людей, для которых его правление было благом. Шаг за шагом он укреплял свои позиции, пока его положение не стало практически неуязвимым. В этом не было ничего сверхъестественного. Его политика была направлена на благо мелкого собственника, мелкого фермера — класс людей, с самого начала составлявший главную силу популяров. И они его поддержали.
Однако это же обстоятельство привело его к противоборству со старой сенатской олигархией. Он столкнулся с коалицией партий, и их нам еще предстоит рассмотреть с тем интересом, которого они заслуживают.34
Глава 8
ГЕРМАНИК
Германик пересек Рейн в начале осени, тогда же началась попытка повторного завоевания Германии. Время года было неподходящим для длительной кампании, но он, видимо, хотел провозгласить вторжение состоявшимся и заявить свои права на мантию Друза. У него было прекрасное объяснение столь поспешных действий. Разумно было занять делом войска и устранить из их памяти недавние несчастья.
Его появление было неожиданным. Отправившись из Кастра-Ветеры, он двинулся вверх к долине Липпе, главному проходу на пути в Германию. Марсы, одно из четырех племен, участвовавших в нападении на Вара, были застигнуты врасплох и понесли суровое наказание. Их земли были уничтожены огнем и мечом, было разрушено и святилище их бога Тамфаны. Объединенные силы бруктеров с севера и узипетов и тубантов с запада соединились с марсами, чтобы напасть на римские войска на обратном пути. Войско прорвалось через эти силы и благополучно достигло Кастра-Ветеры.
Эта операция была прелюдией к серьезным сражениям, предстоящим в будущем году. Были задуманы два вторжения в Германию, основанные, хотя и в другом порядке, на плане Друза. Цецина с четырьмя легионами отправился вверх по долине Липпе, чтобы сдерживать марсов и объединенных херусков. Одновременно Германик вышел с середины Рейна и атаковал хаттов. Он возвращался назад, когда ему принесли срочное сообщение от вождя херусков Сегеста.
Возобновление военных действий поначалу застало германцев врасплох, но вскоре они оправились и ситуация изменилась. Молодежь, заслужившая славу недавней победой над Варом, срочно привлекалась в войско. Не было другого способа справиться с римлянами, как связаться с отдельными племенами и собрать силу воедино. Арминий не терял времени даром, восстанавливая племенной союз, пятью годами раньше изгнавший римлян из Германии. Он встретился с определенным сопротивлением со стороны старейшин. Сегест сразу запросил помощи у Германика. Тот отреагировал немедленно и прибыл к Сегесту вовремя. Ему, однако, не удалось восстановить того у власти, единственное, что он мог сделать, это спасти лично вождя и предоставить ему убежище в Галлии. Один этот факт говорит о том, что у римлян не было особенных возможностей помогать своим друзьям. Сегест доставил двух орлов, утраченных Варом, и собственную дочь Туснельду, жену Арминия. Они были с почетом приняты Германиком. Однако Арминий остался у власти, его влияние скорее возросло, а не уменьшилось в связи с этим эпизодом, который привлек симпатии его соплеменников и совсем не отразился на его авторитете и практической власти.
Весь ход событий тем временем вел к возрастанию сопротивления германцев. Ситуация уже не была такой, как во времена Друза. Стремительный процесс объединения проходил под влиянием необходимости, и, если бы этот процесс продолжался достаточно долго, он закончился бы созданием германского царства, где Арминий стал бы естественным правителем, с такой проблемой было бы намного труднее справиться.
У Германика вряд ли хватало смекалки для подобного понимания ситуации. Нет ни единого признака наличия у него серьезной политической концепции. Он, кажется, хотел завоевать Германию исключительно военными методами, не сообразуясь ни с какими обстоятельствами. Тиберий знал, как правильно поступить, однако в его планы не входило поправлять Германика и его друзей. Они бы его не послушали. Они бы обвинили его — и они это сделали — в зависти и в желании не допустить их успеха. Теперь в его интересы входило позволить эксперимент, который дискредитирует и прикончит враждебную ему партию.
Второе вторжение за год возобновило старый план Друза. Была собрана флотилия. Германик прошел через Фосса-Друзиана, канал, выкопанный его отцом, чтобы соединить Рейн с Исселем, и достиг устья Эмса. Его продвижение поддерживала колонна всадников во главе с Педонисом Альбинованом, в то же время легионы внутренней территории под командованием Цецины продвигались через страну бруктеров к верхнему течению Эмса. Три войска встретились на Эмсе, и земли между Эмсом и Липпе были разграблены. Все племена, участвовавшие в разгроме войск Вара, теперь понесли наказание у себя дома.
Место, где был разгромлен Вар, было уже недалеко. Германик туда и направился. Он нашел его в основном тем же, что после битвы, и это зрелище произвело огромное впечатление на всех. Здесь была разрытая площадка посреди леса, наполовину законченный лагерь, в котором остались недостроенными вал и ров; повсюду лежали останки разгромленных легионеров, черепа и скелеты, головы, посаженные на сучья деревьев, даже алтарь, сооруженный германцами, на котором приносили в жертву главных офицерских чинов. Выжившие в том сражении провожали товарищей по месту битвы, объясняя, как все происходило, и показывая места, где случились разные эпизоды. Площадку расчистили и погибшим отдали последние почести. Был насыпан холм и построен трофей35 — с тех пор он давно исчез, так что это место теперь обнаружить невозможно.
Германик получил всеобщее одобрение, бросив на могильный холм первую горсть собственной рукой.
Это место было несчастливым для римлян, и до сих пор в некотором роде оно имело какую-то зловещую силу. Германик с большим трудом сумел воссоединиться со своим флотом. Всадники Альбинована благополучно совершили обратный переход, однако Цецина обнаружил, что главная вражеская сила сосредоточена на его фланге и ждет первой возможности, чтобы совершить нападение. Удар обрушился, когда он подошел к «Длинным гатям», узкой полоске дороги, построенной через огромное болото. Арминий заранее занял окружающие склоны холма. Это была ситуация, которая требовала решительности и умения, но Цецина был старым и опытным командиром с сорока годами службы за спиной. Он приказал окопаться, пока дорогу восстанавливали и чинили.
Первое сражение состоялось за овладение проходом. Германцы направили в болото все местные ручьи с окружающих холмов и сильно повысили уровень воды. В этих условиях херуски имели все преимущества. Римлян спасло только наступление темноты. Для них это была ужасная ночь, германцы же находились на возвышенности и готовились продолжить сражение с наступлением утра. Цецина понимал, что следует оттеснить их и отогнать на высоты, если удастся пересечь местность. В этом случае на окраине останется достаточно места, чтобы построить легионы. Когда он наконец уснул, ему явился дух Вара, зовущий в болото, протягивая к нему страшные ладони, он за ним не пошел и оттолкнул его руки.
Большая работа, начатая с рассветом, сопровождалась ужасающей путаницей. 5-й и 21-й легионы, направленные на фланги, чтобы вытеснить германцев с прохода, вместо этого пошли вперед. Не было никакой возможности их отозвать. Обоз надо было провести через проход как можно лучше. Это понимал Арминий и всеми силами сдерживал прохождение, пока наконец, как он и ожидал, обоз не превратился в массу поломанных повозок и рассредоточенных людей, не выполняющих приказы. Тогда германцы пошли в наступление с криками «Еще один Вар! Мы снова их разбили!».
Отборный отряд всадников разрезал колонну в центре, охотясь на лошадей, которые вскоре рассыпались, сбрасывая всадников и топча копытами все, что встречалось на их пути. Пал конь под Цециной, и он был бы отрезан от своих и взят в плен, если бы воины 1-го легиона не прорвались к нему и не вступили в рукопашный бой, придя ему на помощь. Оставшиеся в живых оторвались от противника, отдав на разграбление транспорт, к которому тотчас устремились германцы. К ночи легионы преодолели болото, собравшись на твердом участке земли.
Ситуация не обнадеживала. Большая часть шанцевых инструментов была утрачена, однако они собрали остатки, чтобы провести земляные окопные работы, как того требовали правила. Не было палаток и не было помещений для раненых, их рацион ясно показывал, что они находятся на германской земле в окружении врага. Кажется, даже мужество оставило их. Когда один конь отвязался и сбил кого-то с ног, легионеры, нервы которых были на пределе, кинулись к воротам.
Однако Цецина не был Варом.
У него был авторитет, и он сумел остановить возникшую панику. Он лег у ворот, ведущих из лагеря, вынуждая людей перешагивать через его распростертое тело. Он рассчитал верно. Тем временем его офицеры обошли своих воинов, убеждая их в том, что тревога была ложной. Дисциплина была восстановлена.
Это произошло не столь быстро. Цецина собрал людей и обратился к ним с речью. Он не отрицал, что ситуация серьезная. Их единственное спасение было лишь в них самих и в их умении. Затем он отдал распоряжения и добавил несколько ободряющих и сочувственных слов, которые обычно трогают души простых людей. Собрав уцелевших коней, своих собственных и своих офицеров, он создал импровизированный конный отряд из лучших воинов. Затем он стал ожидать дальнейших событий.
Германцы разделились во мнении. Арминий был за то, чтобы блокировать лагерь. Его дядя Ингвиомер выступал за то, чтобы напасть на лагерь и захватить его, и в конце концов это мнение перевесило. С рассветом они заполнили рвы, снесли ограждение. Как только они оказались на стенах, Цецина разыграл свою карту. Ворота были распахнуты настежь, и легионеры предприняли вылазку. Арминий, как и прежде, ускользнул целым и невредимым. Ингвиомер также бежал, но тяжело раненный. Вплоть до ночи победоносные легионеры преследовали неприятеля и возвратились в лагерь, весьма ободренные успехом.
Тем временем в Кастра-Ветере уже разнесся слух о том, что случилось наихудшее и что Цецина и его люди стали последней жертвой германцев. Поступили даже предложения разрушить мост через Рейн на случай внезапного нападения германцев. Агриппина, не верила, что Цецина погиб, и не позволила трогать мост. Говорят, что она стояла на нем до тех пор, пока не показалась колонна Цецины, которая сумела прорваться. Она распределила одежду для тех, кто в ней нуждался, и позаботилась о раненых.
Самому Германику не повезло. Его корабли сели на мель на Фризийской отмели. Чтобы снять лишний груз, он высадил Публия Вителлия со 2-м и 14-м легионами, и те, продвигаясь вдоль берега, были застигнуты равноденственными приливами, к которым римляне никак не могли приспособиться. Они с трудом выбрались на берег и провели ужасную ночь. Разнесся слух о том, что вся флотилия погибла, в то, что она цела, поверили, лишь когда появился Германик с войском.
Завоевание Германии, очевидно, шло не в соответствии с намеченным планом. Эта кампания имела весьма сомнительный успех. Она представляла, в сущности, лишь карательные экспедиции, ни пяди новых земель не было завоевано, ни одно племя не было подчинено на длительное время. Цена была слишком велика, а результаты — ничтожны.
Тиберий тем не менее не считал нужным вмешиваться. Если Германик и его войска все еще хотели доказать, что не в состоянии покорить Германию, то пусть они проведут этот эксперимент до конца. Он выступил с похвальной речью перед сенатом, и сенат постановил предоставить Германику триумф. Люди были достаточно умны, чтобы сомневаться в его искренности.
Чтобы политика военного завоевания, которую выражал Германик, была успешной, ее следовало проводить более последовательно. Третья кампания была тщательно подготовлена и спланирована. Целью было сокрушить херусков и привести римскую армию прямо к Эльбе. Херуски, похоже, имели полную информацию об этих планах, поскольку подготовились к сопротивлению с такой же тщательностью. Гай Силий начал кампанию, пересекши середину Рейна с целью сдержать хаттов. В низовьях Рейна Германик вышел вверх по долине Липпе из Кастра-Ветеры с шестью легионами. В самом устье флот, пополненный до тысячи кораблей, направился через Фосса-Друзиана к Эмсу, где стал на якорь и высалил войска. Оставив корабли под охраной, легионы двинулись на юго-восток, а Германик вышел им навстречу в северном направлении. Они встретились на берегах Везера, где и столкнулись с объединенными силами херусков и их союзников.
Эта кампания имела целью не только завоевание Германии. К этому времени война превратилась в политическое противостояние, от исхода которого многое зависело. Завоевание Германии означало бы превосходство Германика, как в свое время завоевание Галлии означало превосходство Гая Юлия Цезаря. Тиберий выжидал. Он нисколько не сомневался в участии в этом деле Агриппины. Однако лишь поражение или победа самого Германика могли решить исход дела.
Вся эта история с завоеваниями Германии была раздута политической пропагандой, призванной оправдать их. Она была превращена в роман с главным героем, пылким юношей, и его военной славой, в то время как Агриппина играла там роль его вдохновительницы, знатной женщины, притесняемой и гонимой чудовищем с Капри. В течение почти двух тысяч лет эта пропагандистская история жила на страницах Тацита, и до сих пор Германик предстает в ней в таком магическом блеске, в котором он якобы оставался в общественном мнении Рима. Однако римское общественное мнение со всеми его ошибочными представлениями не могло не чувствовать выгод от политики, проводимой Тиберием, который никогда не ввязывался в войну с сомнительным успехом и никогда не потратил лишнего денария, если его можно было сохранить.
Рассказ о сражении при Идиавизо открывается с переговоров между Арминием и его братом Флавом, который служил офицером во вспомогательном римском отряде. Стоя на противоположных берегах реки, они представляли римскую цивилизацию и независимую Германию. В конце концов братья устремились в воды, чтобы сразиться друг с другом, но были остановлены товарищами. Рассказ кажется правдивым, но в нем явно присутствует рука литератора, хорошо знающего вкусы публики, падкой до подобных драматических столкновений.
Вот пролог закончился, началось героическое противостояние. Германцы заняли место на нижних склонах холмов. Дремучий лес охранял их тыл. Херуски составляли резерв, который должен был ударить в решающий момент сражения.
Пехота Германика предприняла фронтальное наступление на их позицию. Всадники, как только битва приняла решающий оборот и все внимание было сосредоточено на сражающейся пехоте, вышли во фланг германцам и погнали тех, что скрывались в лесу, тогда как наступавшая пехота теснила в том же направлении своих противников. Херуски отступили и потерпели сокрушительное поражение. Победа Германика была полной, а потери незначительными.
Так, во всяком случае, планировалось и излагалось, однако, как часто случается, события разворачивались по другому сценарию. Германцы, похоже, избежали полного поражения, как намечалось по первоначальному плану римлян. Коварному Арминию снова удалось ускользнуть. Саксонские вспомогательные отряды узнали и пропустили его. Часть германцев была оттеснена к Везеру, другие, зажатые между конницей и пехотой в лесу, забирались на деревья, откуда их впоследствии постепенно вылавливали. Значительная часть войска отступила. Говорят, преследование продолжалось несколько часов на протяжении десяти миль, где происходили непрекращающиеся стычки; из этого можно заключить, что они отступали в значительной степени в боевом порядке.
Такое предположение подтверждается и последующими событиями. Легионы уже приветствовали Тиберия как императора после своей победы, а Германик воздвиг трофей, когда стало ясно, что германцы выступили вновь. Это объясняли тем, что трофей вызвал их ярость, однако, сколь бы велико ни было их негодование, оно не могло в столь короткий срок способствовать созданию новой армии, если бы их поражение, как утверждают, было полным и окончательным.
Германик вынужден был принять вызов и провести решающее сражение. Быстрые результаты были для него очень важны, он не мог ждать и полагаться на время. Поэтому германцы могли действовать с выгодой для себя на заранее подготовленных позициях. Они выбрали место, защищенное лесами и болотами, а с третьей стороны они построили земляные укрепления.
Главная атака Германика была направлена против этих земляных насыпей. Наступление легионеров было отбито. Тогда были задействованы копьеметатели и пращники при поддержке катапульт, и преторианские гвардейцы заняли позицию германцев. Оборонявшиеся оказались в том же положении, что обычно бывали кельты, скапливающиеся на ограниченном пространстве, не позволявшем эффективно применять их оружие. Тем не менее героический план римлян сработал не в полную меру. Сражение оказалось не решающим, и результат, на который рассчитывал Германик, не вполне был достигнут.
Была лишь середина лета, оставалось время для проведения дальнейших операций, но он предпочел отойти. Он возвел второй трофей с надписью о том, что армия Тиберия Цезаря, покорив народы между Рейном и Эльбой, посвящает этому событию сей памятный знак.
Армия возвратилась без потерь. Однако флот постигло несчастье. Он отплыл в прекрасную погоду, но вскоре после отплытия был застигнут ужасающим штормом в устье Эмса, море вздыбилось и послало вдогонку шквалистый ветер, который вызвал панику среди войска. Попытки прийти на помощь морякам лишь мешали последним. Погода ухудшилась. Страшный юго-восточный шторм стал гнать корабли в море к островам. Были брошены якоря, чтобы переждать шторм, однако в этот момент ветер поменял направление, и отлив, усиленный ветром, потащил якоря. Кони и вьючные животные, даже военные запасы были выброшены за борт, чтобы облегчить суда, однако многие из них пошли ко дну, а другие унесены к Фризийским островам. Сам Германик был разделен с флотилией и выброшен на берег на территории хавков, где ему пришлось оставаться до окончания шторма. Он жестоко винил себя за случившееся, и его друзья (по-видимому, сильно влиявшие на его поведение) вынуждены были удерживать его от того, чтобы в раскаянии он не утопил себя.
С возвращением хорошей погоды рассеянный флот стал понемногу собираться. Первые прибывшие суда были осмотрены, починены и посланы на поиски остальных. Были спасены многие из пропавших. Некоторые умерли от голода и истощения на необитаемых островах, другие выжили, питаясь останками вьючных животных, выброшенных морем. Племя ампсиваров вело поиски людей на внутренней территории и нашло многих, погибших от руки германцев. Говорили даже о том, что некоторые из пропавших были выброшены к берегам Британии и отосланы обратно вождями бриттов. Они привезли с собой много невероятных рассказов, которые римские историки справедливо относят к сомнительным.
Результаты этой великой кампании вызвали не слишком много энтузиазма. Некоторое удовлетворение принесли успехи в сражениях против марсов и хаттов, а также возврат трех орлов, утраченных Варом. Германик полагал, что пострадавшие от шторма должны получить компенсацию за утраты. Расходы на это мероприятие, видимо, были немалыми.
Теперь настало время, когда Тиберий счел нужным вмешаться. Германик полагал — или говорил, что он уверен, — что в следующих кампаниях он достигнет желаемой цели. Тиберий, видимо, иначе смотрел на ситуацию. В письме, написанном тогда, он заметил, что всегда более полагался на дипломатию, чем на оружие. Он предложил Германику консульство на предстоящий год, что при необходимости его нахождения в Риме сильно смахивало на отставку из армии, и Германик принял это с кротостью, показывающей, что он вовсе не сожалеет о том, что его освобождают от невыполнимой задачи. Тиберий воспользовался возможностью произвести важные перемены. Командующий рейнской армией был отделен от управления Галлией, и эти два поста более никогда не занимал один человек. В тот же год, что Германик возвратился с Рейна, Друз принял командование над иллирийской армией.
26 мая 17 г. Германик справил великолепный и приветствуемый народом триумф. Тем не менее чувствовалось, что Германика отстранили от власти. Тиберий одержал большую политическую победу и зарекомендовал себя непререкаемым хозяином римского мира. Впервые он был свободен от постоянно висевшей над ним угрозы, когда его приемный сын и предполагаемый преемник сосредоточил в своих руках огромную силу, командуя рейнской армией.
Провал военной кампании в Германии был провалом военной теории римской армии: поразительно, что эти кампании, столь тщательно и четко спланированные, столь успешно проведенные, были неудачными, в то время как кампании Цезаря в Галлии, хотя и были дилетантской импровизацией, достигли своей цели. Причины тем не менее не столь таинственны. Покорение Галлии Цезарем было оплачено самими участниками и принесло в дальнейшем большую выгоду. Германская кампания оплачивалась из источников имперской казны.
Ни Август, ни Тиберий не были людьми, которые допустили бы утечки из казны без всякой надежды на возврат средств. Неудивительно поэтому, что при первой же возможности проект покорения севера был отложен и никогда не возобновлялся. Для такого решения было множество причин. Сосредоточение командования рейнской армией в руках Германика стало политической угрозой существованию самого принципата. Сам Германик был орудием других, более опасных сил. Тиберий меньше, чем кто-либо, чувствовал потребность финансировать мероприятие, способствовавшее наследным претензиям дочери Юлии, которую поддерживала сенатская олигархия, считавшая, что от падения Тиберия она получит всевозможные выгоды.
Кроме того, остается вопрос, было ли завоевание Германии практически возможным. Опыт девятнадцати веков показывает, что сомнения Тиберия были не напрасны. Даже просто держать под контролем рейнские границы удавалось лишь при определенных условиях. Хозяевами этой границы были либо Британия, либо ее союзники. Во всяком случае, еще вопрос, признавал ли создавший эту границу Цезарь необходимость делить ее с Британией в качестве составной части плана. Лишь вмешательство надвигавшихся политических событий удержало его от его завершения. То, что он знал, он не преминул записать на благо тех, кто пришел после него. Август позволил убедить себя в необходимости другого подхода. Вторжение в Германию Друза и Германика стало экспериментом, от итогов которого зависели важные решения. Их провал показал, что Цезарь был прав. Решение отозвать Германика было возвратом ко взглядам Цезаря. Оно вызвало ряд исторических последствий, оказавших серьезное влияние на дальнейшее развитие Европы. Включение Британии в римские владения и исключение из них Германии надолго определило последующий ход европейской истории.
У Тиберия были свои планы. Договор, который он заключил с Марободом во времена иллирийского восстания, оказался прочным. Против свевского царя не было проведено ни единой военной операции. В них и не было нужды, если прекратилась политика, проводимая в отношении границы на Эльбе. Политика Тиберия заключалась в том, чтобы получить выгоды от новой ситуации в Германии и ослабить напряженность на северной границе, позволив, с одной стороны, развиваться антагонизму между рейнскими и свевскими элементами, а с другой стороны — способствуя росту внутренней напряженности между старыми племенными и новыми политическими группировками.36 Эта политика оказалась успешной. Германцы были вовлечены в такие партийные разборки, которые не оставляли им сил и времени заниматься римскими границами. Это продолжалось и после правления Тиберия, который оставил своим преемникам задачу завершить планы Цезаря по завоеванию Британии.
Спустя год после сражения при Идиавизо антагонизм между Арминием и Марободом выплеснулся наружу. Тенденции, имевшие место в Германии, проникли далеко на север и привели к перераспределению сил, результат которых был неопределенным. Власть Маробода над свевами была поколеблена благодаря отступничеству самых грозных из северных племен — семнонов и лангобардов. Разногласия среди херусков, которые сказались гораздо позже, вылились в еще один раскол внутри правящей семьи. Подобно тому как Сегест переметнулся к римлянам, теперь Ингвиомер выступил на стороне Маробода. Однако для последнего это приобретение не компенсировало потерь. Принципы и идеи, задействованные там, можно видеть в речах, которые Тацит вкладывает в уста Арминия и Маробода. Первый называет Маробода прихвостнем Цезаря: его маленькая власть зависит от большой власти Цезаря. Маробод противопоставляет свои нравственные нормы качествам Арминия, свою открытую и честную войну с римлянами с нечестной засадой на Вара. Тем не менее пострадавшие от римлян жители далекого севера выступили против Маробода. Он потерпел поражение, отступил к востоку в свои пределы и обратился за помощью к Тиберию. Тот отвечал, что Маробод едва ли имеет право требовать дара, которого от него самого добиться было невозможно. Тем не менее он послал Друза в Паннонию, для наблюдения за событиями. Молодого человека лучше было удалить из нездоровой атмосферы Рима, и кроме того, безопаснее иметь армии в руках человека, который слишком предан, чтобы устраивать заговоры и перевороты.
Через два года на сцене появляется некий Катуалда Котонский.37 Он вторгся во владения Маробода, изгнал его оттуда, занял его дворец и торговое городище, построенное рядом. Маробод написал полное благородства письмо Тиберию, прося об убежище. Тиберий даровал ему позволение прибыть к нему и поселиться где он пожелает. Однако перед сенатом Тиберий произнес совсем другую речь. Маробод, говорил он, для Рима опаснее, чем Пирр или Антиох. Он настаивал на опасности, исходящей от народа, которым правил Маробод, и он может себя поздравить с тем, что устранил столь опасного и страшного врага.
В том же самом году перед внутренними врагами, выступавшими против идей и принципов политически устроенного государства, не устоял Арминий. Все актеры освободили сцену одновременно. Маробод находился в изгнании в Равенне; Арминий пал от меча в результате покушения в Германии, о судьбе самого Германика мы еще услышим.
Маробод прожил в Равенне восемнадцать лет. Он так никогда и не вернул трон. В глазах римлян он был унижен, потеряв свою славу и силу. Однако харакири никогда не было в привычках северных народов. Он удовлетворился тем, что его обидчик Катуалда также отправился в изгнание в форум Юлии. Север вновь погрузился в междоусобицы, от которых его на время отвлекла политика Друза и Германика. Много воды должен был унести Рейн, прежде чем север естественно и постепенно не пришел к объединению. Пока он этого еще не осознал. Борьба, начатая Марободом и Арминием, продолжалась.
Теперь предстояло найти для Германика занятие менее опасное, чем командование армией. Нельзя было позволить ему оставаться в Риме, он привлек всех, кто видел в нем надежду на возрождение олигархии.
Работа на достаточном расстоянии от Рима нашлась для него. Дела на востоке требовали присутствия могущественного человека высокого положения. Свержение Архелая, последнего царя Каппадокии, и его смерть в Риме убедили Тиберия в том, что Каппадокию следует превратить в римскую провинцию. В том же году скончался Антиох III, царь Коммагены, и стране требовалось прямое римское правление. Были волнения в Иудее. Были трудности с Парфией и Арменией. Вонон, которому Август помог взойти на трон Парфии, был свергнут. Ему предложили корону армяне, и легат Марк Юний Силан задержал его в Сирии, чтобы избежать недоразумений с новым парфянским царем. Серьезнее всего было великое землетрясение 17 г., когда пострадали двенадцать городов и был нанесен ущерб всей Малой Азии. Тиберий направил туда десять миллионов сестерциев для возмещения ущерба, а поскольку Азия была сенатской провинцией, он сам ввел налоги в пользу сената сроком на пять лет. Все эти события требовали внимания.
Однако причины, выдвинутые для назначения Германика и его удаления из Рима, вызвали протест его друзей. Они хотели, чтобы он оставался в Риме, но Тиберий категорически не желал этого. Негодование, которое они почувствовали, и ясное понимание политических причин его назначения доказали, что подозрения их были небезосновательны. Сам Германик, видимо слишком добродушный, похоже, не разделял опасений своих друзей. Что бы ни случилось, его положение было устойчивым. У него были превосходные отношения со своим суровым и прямолинейным кузеном Друзом. Большинство людей симпатизировали Германику. Таков был его природный дар.
Тиберий принял меры предосторожности. Он не собирался позволять друзьям Германика безнаказанно затевать политические интриги на востоке, как это они делали на Рейне. Таким образом, легат Сирии Силан, который был личным другом Германика, был заменен Гнеем Кальпурнием Пизоном, человеком совсем иного склада. Этот Пизон во многих отношениях был человеком неординарным. Он происходил из древнего плебейского дома Кальпурниев и являл собой прекрасный пример того, что древний республиканский характер далеко не изжил себя: резкий, гордый, несгибаемый, очень состоятельный, очень независимый, уверенный в себе холерик. Его кристальная честность была общеизвестна. Его жена Плакиния была подругой Ливии Августы. Вот кого Тиберий послал в Сирию в качестве противовеса Германику, это был человек, который не потерпит глупостей со стороны столичных молодых людей и толпы окружавших их льстецов.
Пребывание Германика на востоке было самым важным государственным событием с прошлых времен. Он посетил Афины и Лесбос, и везде его встречали с почетом. Все это очень отличалось от его жизни на Рейне. На Евфрате он вел переговоры с царем Артабаном. Царь был покорен величием и изящными манерами Германика, и дела уладились без особенных трудностей. Единственная проблема Германика заключалась в его отношениях с Пизоном, и здесь их несходство и взаимная антипатия усилились еще и антагонизмом между Агриппиной и Плакинией. Ни сама Ливия Августа, ни одна из ее подруг не могли нравиться дочери Юлии. Пизон занял весьма независимую позицию. Он попросту проигнорировал приказание вести сирийские войска в Армению. Если бы Германик донес об этом в Рим, Тиберий вынужден был бы наказать своего легата, но Германик, видимо введенный в заблуждение своими друзьями, воздержался от принятой процедуры.
Тем временем появились новые проблемы. Возникли неурядицы с наличием продовольствия в Египте, и Германик решил разобраться в проблеме лично. Выделив запасы зерна из правительственных хранилищ, он тем самым способствовал снижению цен. Эта акция, хотя и разумная, способствовала его авторитету, однако посягала на имперские прерогативы, которых непререкаемо придерживался Август. Ввиду определенных и хорошо известных запретов, которые ограничивали вмешательство в дела Египта людей в ранге сенатора без разрешения на то императора, со стороны Германика было неосмотрительным продлить визит, чтобы осмотреть знаменитые памятники старины. Пизон воспользовался ситуацией, чтобы обвинить Германика в отъезде из Азии навсегда, и, когда тот возвратился, он обнаружил, что Пизон отменил его распоряжения и сделал свои.
Эти события и стали причиной довольно серьезной ссоры. Германик настаивал на том, чтобы воспользоваться своей властью, и Пизон вынужден был уступить. Он приготовился, хотя и неохотно, отправиться домой. До сих пор у него был непререкаемый авторитет. Однако в Антиохии Германик заболел настолько серьезно, что его друзья утверждали, будто его отравили. Пизон не воспользовался ситуацией. Услышав эту новость, он прервал свое путешествие в антиохийском порту Селевкии, послал нарочного с выражениями соболезнования и приказанием расследования. В ответ он получил от Германика — или якобы от Германика — письмо, в котором тот отвергал его дружбу и приказывал покинуть Сирию. Пизон продолжил свой путь. Прибыв на Кос, он услышал о смерти Германика.
Смерть Германика стала сенсацией и затронула все римские владения. Ее обстоятельства составляют историческую тайну, которая никогда не выйдет наружу. С момента, как болезнь приняла опасный характер, Германик практически исчезает из вида, и мы погружаемся в туман преднамеренных противоречий и неприкрытой пропаганды, и нам остается лишь гадать об истинных причинах его болезни.
В Антиохии ходили слухи, будто Германик во всеуслышание объявил о том, что его отравили, и на смертном одре поручил своим друзьям наказать убийц.38 Он не говорил прямо, что Плакиния — преступница, и не заявлял, что Ливия и Тиберий заставили ее совершить преступление, однако дал понять, что можно сделать такой вывод. Его друзьям было приказано позаботиться о его жене и детях (дочери Юлии и внуках Юлии), и все намеки были направлены против Тиберия. Таковы были слухи.
Гней Кальпурний Пизон меньше всего походил на человека, которого можно обвинить в отравлении. Он скорее мог открыто пронзить врага мечом. Намеки, которые витали в Антиохии, наконец стали до него доходить. На Косе он созвал совещание, чтобы обсудить ситуацию. Офицеры, прибывшие из Сирии, уверяли его, что его будут встречать и приветствовать при возвращении. Его сын Марк полагал, что его возвращение в Рим было бы самым мудрым решением. Домиций Целер напоминал, что он — официальный правитель и что симпатии Ливии Августы и Тиберия на его стороне, даже несмотря на то, что их могут на этом основании заподозрить. «Никто, — сказал Целер, — так нарочито и напоказ не оплакивает смерть Германика, как те, кто от нее выиграл». Пизон в конце концов последовал совету Домиция.
Он написал Тиберию, что, по его мнению, его следует отозвать из Сирии, чтобы предотвратить распространение мятежных настроений, и уверял Тиберия, что примет любые распоряжения столь преданно, как и всегда. На пути он встретил корабли, на которых Агриппина возвращалась в Рим. Обе партии были готовы ко всему, однако ничего не произошло. Марк Вибий предупредил Пизона, что ему следует отправиться в Рим для разбирательства. «Времени достаточно, чтобы за мной выслали претора», — отвечал Пизон… Он все еще ничего не понял.
Он вернулся в Сирию и обнаружил, что его место занял Гней Сентий Сатурнин, опытный военный. Пизон попытался силой вернуть себе управление провинцией, но, потерпев поражение в бою, был вынужден иначе оценить ситуацию. Сатурнин приказал ему возвратиться в Рим и сдаться на поруки.
Пизон отправился, все еще уверенный, что поступает правильно.
В Риме Тиберий столкнулся со второй волной беспорядков.
Глава 9
ДОЧЬ ЮЛИИ
Прибытие Агриппины в Брундизий стало событием, способным привлечь внимание любого правительства во все времена. На несколько дней она остановилась на острове Коркира, «чтобы оглядеться», прежде чем продолжить плавание. Эта передышка была не самоцелью и предполагала множество иных, далеко идущих планов.
Тиберия предупредили о возможном повороте событий. Известие о смерти Германика застало всех врасплох. Деловая жизнь Рима замерла. Суды закрылись. Сенат осыпал посмертными почетными титулами наследника принцепса. Он так старался, что, когда поступило предложение занести имя Германика на мемориальную доску среди знаменитых писателей, Тиберий заколебался и отметил, что литературный стиль человека не определяется его статусом. Вполне достаточно включить имя Германика в число классических авторов. Итак, мемориальная доска сохранила прежний вид, но Германик, по крайней мере официально, стал числиться среди классиков, там, где мы теперь напрасно пытались бы его отыскать.
Если Тиберий не понял причины подобных выражений горя, другое событие смогло помочь ему осознать свою ошибку. К несчастью, жена молодого Друза Ливилла как раз в это время стала матерью близнецов. Тиберий не мог скрыть радости и чуть ли не единственный раз в жизни выразил свои чувства.39 Он заметил на заседании сената, что никогда прежде не рождались близнецы у такого именитого отца. Сенат, уже истощенный своими прежними выражениями лояльности, очевидно, не разделял энтузиазма счастливого деда.
Это замечание Тиберия возбудило подозрения, которым лучше вовсе было не возникать. То, что теперь Друз становился наследником и преемником империи, было очевидно, однако это лишь усиливало раздражение Агриппины. Выражение эмоций, столь необычное для Тиберия, показывает, что он, как и Пизон, не вполне отдавал себе отчет в том, что происходит.
Задержка на Коркире позволила привести в готовность силы сторонников Агриппины. Вполне естественно, Тиберий выслал две когорты преторианцев встретить прах Германика и поручил городским властям оказать им официальный прием. Его представители обнаружили в Брундизии не только всех собравшихся друзей Агриппины, но и целую толпу, присутствие которой требовало отдельных объяснений. Офицеры, которые служили под началом Германика, естественно, прибыли сюда отдать последний долг своему командиру, другие оказались здесь из уважения к Цезарю. Третьи, у которых не было повода появиться, прибыли потому, что приехали другие, — причина обычная для всех времен и народов. Здания и улицы Брундизия были переполнены людьми.
Тщательно спланированное появление Агриппины было настоящим театральным представлением. Когда объятая горем вдова, медленно ступая и держа в руках погребальную урну, в окружении двоих детей появилась перед зрителями, толпа реагировала должным образом. Настроения, возникшие в Брундизии, сопровождали процессию весь путь до Рима.
Похороны Германика были бы обычными похоронами знатного человека, если бы не их некоторые особенности. На каждой остановке пути совершались религиозные церемонии и стекались толпы людей, чтобы отдать последние почести и выразить соболезнования в связи со смертью Германика. В Террацине дожидалась делегация из Рима во главе с Друзом и с участием брата Германика Клавдия (будущего императора) и его остальных детей. Их сопровождали консулы и сенаторы при огромном стечении людей. Хотя было совершенно ясным, что сама церемония явно служила интересам Агриппины, тем не менее она была официальной и отменить ее было невозможно, кто бы от нее ни выигрывал. Однако к тому времени не только Тиберий и Ливия, но и мать Германика Антония устранились от участия в ней.40
Германик должен был стать преемником не только по факту усыновления, но и путем прямого назначения. Теперь можно оценить, как прозорливо Август позаботился об интересах наследников по линии Юлии и насколько слабы были позиции кандидатов в императоры с точки зрения наследования власти. Тиберий наблюдал возрождение в новой форме коалиции между претендентами со стороны Юлии и сенатской олигархией, знакомой ему уже по первому году своего правления. Ни одна из партий коалиции не была достаточно сильной, чтобы добиться успеха в одиночку. Влияние фракции Юлии могло расколоть силы империи. Однако если бы Агриппина смогла победить, это означало бы первую стадию разрушения власти принципата, ибо ни один из ее сыновей не мог справиться с задачей контроля над римскими владениями. Власть, естественно, попала бы в руки олигархии, а затем наступило бы и полное безвластие в Риме.
День похорон стал кульминационным днем. Рим был взбудоражен. Город был на грани революции. Марсово поле заполнила толпа, раздавались крики, что с республикой покончено и всякая надежда пропала. Пробил час Агриппины. Симпатии к ней возросли до предела. Ее приветствовали как гордость государства, единственную представительницу рода Августа, образец древней добродетели. Это был очень своеобразный восторг, любительский или профессиональный, смотря как к этому подходить. Шли молебствия богам о пощаде ее детей и их спасении от происков врагов. Были развешаны лозунги «Верните Германика», а вечером их выкрикивали люди, скрывшие лица под покровом темноты.
Тиберий держался спокойно, что само по себе, если учесть накал этих страстей, было замечательно. В конце концов даже участники беспорядков мало пострадали от его реакции. Было замечено, что похороны прошли без особой пышности. Тиберий проявил себя лишь тем, что остудил слишком горячие головы. Он издал прокламацию, которая, может, и не ввела его в число известных римских авторов, однако некоторые ее фразы до нас дошли, и среди них следующая: «Принцепсы смертны, государство вечно»… Вероятно, это был его собственный символ веры.
Интересно, смогла бы Агриппина в более спокойной и разумной атмосфере выдвинуть те обвинения, что исходили от нее и ее приверженцев. Хотя имен не было произнесено, было достаточно очевидно, что Тиберий обвиняется перед всем римским миром в отравлении Германика. Обвинение было нешуточным. Учитывая обстоятельства, в которых он оказался — об этом позаботился не он, а Август, — легко было заявлять, что ему выгодна смерть Германика. Более того, Агриппина, вероятно, знала, что у Тиберия были гораздо более глубокие и сильные, чем у кого бы то ни было, причины для враждебности. Логика заговорщиков весьма своеобразна. И если бы Агриппина не участвовала в заговоре, то ее слова были бы бесполезны, а действия — бессмысленны.
Тиберий становился тем более опасен, чем спокойнее он становился. Он мог быть, а мог и не быть человеком, виновным в отравлении Германика. Но допустим, стало бы ясно, что Германик вообще не был отравлен?
Теперь сцена была свободна для более серьезного дела — суда над Пизоном.
Агриппину представляли Квинт Сервий, Публий Вителлий и Квинт Вераний, которые выдвинули обвинение в отравлении Германика в Антиохии. Вителлий и его коллеги просили Сентия Сатурнина выслать им из Сирии некую Мартину, которую полагали отравительницей и подругой Плакинии. Мартина, однако, внезапно скончалась на пути в Рим. Яд нашли спрятанным в заколке ее волос, хотя очевидно, что она скончалась не от яда. Что стало причиной ее смерти, и как оказался яд в ее заколке, мы не знаем, но случай с Мартиной был убедительным доказательством непричастности Пизона к этому делу.
До Пизона между тем постепенно доходило положение дел. Он выслал вперед своего сына для встречи с Тиберием, и тот заверил, что не намерен обвинять Пизона, предварительно его не выслушав. Сам Пизон отправился на встречу с Друзом в Иллирии. Друз был слишком осторожен, чтобы встретиться с ним лично, однако публично выразил надежду, что слухи об отравлении не имеют под собой оснований. По прибытии в Рим Пизон не выказал никаких признаков нечистой совести. Он вновь открыл двери своего дома и занялся обычными делами, что вызвало возмущение его недоброжелателей.
Известный доносчик Трион сам начал дело. Он лично изложил информацию против Пизона перед консулами. Против этого Вителлий и его друзья высказали свои возражения, как в наше время делают депутаты, чтобы задержать прохождение закона в парламенте. Тогда Трион сменил тактику и обвинил Пизона в его прежних ошибках, требуя разбирательства в имперском суде. Пизон согласился на это разбирательство, и, если бы оно состоялось, все дело против Пизона было бы перенесено в имперский суд. Тиберий между тем решил, что имперского суда недостаточно, поскольку практически он сам обвиняется вместе с Пизоном, и перенес дело на суд сената.
Теперь Пизону требовался защитник в должности сенатора. Поиски такого защитника наглядно демонстрируют раскол в старой партии. Среди пяти сенаторов, которые отказались его защищать, были Азиний Галл и Луций Аррунций, с которыми мы уже встречались. Однако не все сенаторы принадлежали к партии олигархов. Наконец, Маний Лепид, Луций Пизон и Ливиней Регул, сторонники империи, взялись его защищать.
Тиберий, не ставший слушать дело в имперском суде, воспользовался своим правом председательствовать в сенате. Его речь на открытии заседания, которую полностью приводит Тацит, была образцом беспристрастности и законности, дающих представление о римском праве. «Ни один британский судья, — говорит профессор Рамсей, — не мог бы выступить перед жюри с большей четкостью и непредвзятостью». Трион открыл прения по обвинению, однако его речь была не очень важной. Настоящие события развернулись, когда поднялся Вителлий и стал говорить от имени друзей Агриппины.
Они не настаивали на обвинении в отравлении. Пизон обвиняется в том, что ослабил воинскую дисциплину, сквозь пальцы смотрел на незаконные действия, проводившиеся против союзников Рима, а также в несправедливостях в отношении невинных людей. Он, наконец, использовал военную силу против офицера, представлявшего государство.
Обвинение в отравлении Германика развалилось. Дело было столь неясно, что в данный момент на него нельзя было пролить свет путем официального расследования. Поступили заявления, что в доме Германика были найдены кости мертвого человека, а также свинцовые таблички с проклятиями, что вряд ли могло служить доказательством отравления Германика; что тело усопшего несло явные следы яда, однако здесь свидетельства расходились; о том, что Пизон послал своего человека наблюдать за ходом болезни Германика, но это могло быть лишь выражением его почтения. Говорилось также, что во время обеда Пизона видели подмешивающим яд в пищу Германика, однако никакого доказательства тому привести не смогли.
Если бы обвинения против Пизона заключались лишь в отравлении Германика, он покинул бы заседание суда свободным человеком, однако политические обвинения были более основательны, и здесь было много подтверждающих свидетельств. Его попытка вернуться в Сирию с применением военной силы была очевидна. Тиберий сумел сохранить беспристрастность и не воспользовался своим положением, чтобы отвести эти политические обвинения. Ливия, менее заинтересованная в этих делах, стала использовать свое влияние для защиты Плакинии, которая, естественно, была не причастна к политическим промахам своего мужа. Пизон стал понимать, что его изолировали и что он не сумеет очиститься от политических обвинений. Он предложил прекратить его защиту.
Его сыновья убеждали его не сдаваться, и он вернулся в зал заседания. Но поскольку Тиберий не воспользовался своей властью и не встал на защиту Пизона, оправдываться было бесполезно. Слишком многое было поставлено на кон для Тиберия, чтобы он мог действовать по своему усмотрению. Сенат наверняка нанес бы ему самый сокрушительный удар.
Пизон отправился домой, ничем не обнаружив своих намерений, и вел себя так, словно на следующий день собирался явиться на заседание суда. Он написал несколько писем и записок, запечатал их и отдал одному из своих слуг; совершив обычный свой туалет, он запер дверь. Его нашли на следующее утро с горлом, перерезанным брошенным рядом мечом.
Соответственно написанные им письма были доставлены к пораженному Тиберию. Он, видимо, чувствовал то же, что и король Чарльз при известии о смерти Вентворта. Он подробно расспросил слугу об обстоятельствах дела. Поняв, что он больше ничего не может сделать, он прочел перед сенатом трогательную и мужественную просьбу Пизона, чтобы его сын был освобожден от всяких обвинений, связанных с ним лично, а затем продолжил заседание, поскольку теперь был вправе это сделать, воспользовавшись своими полномочиями, и проследил, чтобы призыв Пизона не остался без внимания.
Молодой Марк Пизон был освобожден от политических обвинений, впрочем, и Плакинию освободили от всяких обвинений, хотя Тиберий и сказал, что он вмешивается в это дело по просьбе своей матери. Когда обсуждали приговор Пизону, Тиберий наложил вето на предложение освободить от наказания всех, кроме его сына, исключить его имя из консульских списков; он не согласился и с предложением о конфискации имущества Пизона; а когда Мессалин и старый Цецина предложили воздвигнуть золотую статую Тиберию в храме Марса Мстителя или у алтаря Отмщения, он отклонил не менее решительно и эти предложения. Памятников заслуживают победители над внешними врагами, те же, кто борется с врагами внутренними, заслуживают лишь безопасного убежища.
Мессалин и Цецина, разумеется, ожидали такого вето, ведь эти предложения, разумеется, имели целью вынудить сенат заявить в специальном постановлении то, о чем нельзя было сказать в ходе судебного процесса, — что Германик был убит. Резолюция Мессалина имела целью привлечь Тиберия к этой декларации. Потерпев неудачу, он предпринял другую попытку и предложил вынести благодарность Тиберию, Ливии Августе, Агриппине и Друзу за их попытки отомстить за смерть Германика. В этом списке были лишь те (за примечательным исключением Агриппины), кто не склонялся к идее о том, что Германика убили; здесь также была еще одна попытка привлечь их на позицию Агриппины. Затем поднялся Луций Аспрена и вежливо поинтересовался, было ли исключение из списка имени Клавдия намеренным. Мессалин вынужден был включить имя Клавдия, что, естественно, сильно исказило смысл резолюции. Тиберий отклонил и это предложение.
Победа Тиберия была полной, хотя и была достигнута за счет поражения Пизона. Тем не менее Пизону следовало винить лишь себя за то, что его действия позволили выдвинуть против него обвинения, которые в противном случае никогда не были бы ему предъявлены. Поскольку было очевидно, что Тиберий не препятствовал вынесению обвинительного приговора, поползли слухи, будто Тиберий был соучастником преступления и приказал убить Пизона, чтобы убрать свидетеля. Сплетники верили в слухи, не рискуя быть привлеченными к ответственности.
Ясно, что вина Пизона и замешанность Тиберия в смерти Германика никогда не были доказаны, подтверждений этому не было и впоследствии.
Смерть Германика и суд над Пизоном стали поворотным пунктом в той волне обвинений, которые начались для Тиберия после военных восстаний на Рейне и Дунае. Конечно, Тиберий выиграл от смерти Германика, но лишь в отношении тех сил, в чьих руках Германик был марионеткой. Во всех других отношениях она ничего не добавляла к его власти, кроме того, что теперь он мог спокойно назначить Друза своим преемником.
О значении смерти Германика можно судить по силе ненависти, которую она вызвала. Ни одно обвинение, которое гнев и отчаяние могли выдвинуть против Тиберия, не было подтверждено, а когда все эти безосновательные и противоречивые обвинения превратились в слухи, те, поскольку не были разумно изложены, не могли быть и разумно отвергнуты. Столь большой гнев имел под собой и немалое основание, а причиной было то, что с уходом Германика исчез единственный полководец, имевший положение и популярность, чтобы возглавить армию и поднять ее против Тиберия.
Сам Германик, естественно, ничего не получил бы от такой революции. Наследование империи им было предопределено. Однако он в немалой степени был орудием в руках Агриппины, имевшей в этом свои интересы. Неприятности начались после объединения претендующей на власть Агриппины и сенатской партии. Для этой коалиции Германик был незаменим. Он усиливал ее вдесятеро. Его смерть означала, что армия оставалась единой, а Агриппина и партия олигархов могли рассчитывать лишь на интриги и обращение к общественному мнению.
На этом пути они встретили определенные трудности, и эти сложности поучительны, поскольку связаны с самой ситуацией. Мощь принципата, созданного Августом, покоилась на реальном компромиссе. Он был силен, поскольку сознательно опирался на фантастические возможности, предоставляемые реальной действительностью, а не на тщательно выверенную симметрию абстрактных теорий. Он никогда не одобрялся и искренне не принимался партией, у которой было собственное представление о прежнем римском политическом устройстве и которая стремилась восстановить Римскую республику, в том смысле, как они ее понимали, никогда не существовавшую. Республика была когда-то, но уже все забыли, каковой была эта республика в дни своего могущества.
Если бы представительские институты и не имели иных привилегий (а у них их множество), то они могли бы учитывать и определять общественное мнение и формировать те или иные партии. В отсутствие показателя общественного мнения люди склонны играть в азартные игры, чего в противном случае они делать не стали бы. Поэтому, если сила власти Тиберия оценивается достаточно точно, невозможно верно оценить реальную силу олигархии, постепенно начавшую оправляться после поражения в гражданских войнах. Новое поколение, которое не испытало морального урона поражения, видело старую политическую традицию в романтическом свете, принимаемом ими за истинную ее природу.
Глубочайшая слабость сенатской оппозиции заключалась в том, что они ничего не могли предложить людям в политическом смысле, они даже не понимали, что политическая власть основана по большей части на общем благе. Они молча ожидали поддержки, за которую не могли заплатить. Старые республиканские олигархи принесли Риму гегемонию над Средиземноморьем, они распространили внутренние торговые связи и финансы на весь современный им цивилизованный мир. Это послужило огромным толчком для развития благосостояния и богатства человечества. Но, когда они не сумели реализовать свои возможности, принципат обошел их, предложив людям порядок, безопасность, равенство перед законом, возможность мелкого предпринимательства. Политическая опасность для олигархии настала лишь тогда, когда она не смогла предложить равных ценностей, конец ее настал тогда, когда она не сумела предложить никаких ценностей вообще, кроме слов о «правах».
Она забыла, что имеет власть не за счет неких абстрактных «прав», но за конкретные заслуги, которыми теперь она могла бы похвастаться. В свое время она преодолела правление и власть древней знати, имевшей гораздо больше оснований говорить о правах, чем у нее. Наконец, олигархия по странной забывчивости впала в детство и рассеялась по столь многим политическим партиям, что стала бесполезной, и, как мошенник, уже не способный продать шиллинг за соверен, она предлагала своей аудитории продать соверен за шиллинг. Ряды ее сторонников постепенно таяли.
Сущность оппозиции сенатской олигархии можно понять, проследив за ее деятельностью. Наряду с важными событиями военных мятежей были и другие направления развития заговора. Особенно серьезным был ряд событий, связанных со смертью Агриппы Постума.
О смерти Агриппы обычно рассказывают как об отдельном факте, не связанном с другими обстоятельствами. Действительность показывает, что все обстояло вовсе не так. Сразу после смерти Августа была предпринята попытка освободить Агриппу из Планазии. Один из слуг Агриппы по имени Климент с группой сообщников отправился на остров. Его корабль опоздал, Агриппа был убит одним из охранников, и эта попытка провалилась. Не достигнув цели, Климент предпринял действия настолько удивительные, что они заслуживают отдельного рассказа.
Пользуясь некоторым сходством со своим хозяином, он отбыл в Этрурию, отрастил волосы и бороду и стал появляться, главным образом ночью, в различных городах, распространяя слух, что Агриппа жив. Об этом донесли в Рим. Предполагаемого Агриппу приветствовала толпа народа в Остии. Тиберий раздумывал, оставить ли это дело без внимания или нет. Наконец он отдал распоряжение Саллюстию Криспу, который однажды ночью выкрал Климента.41
Теперь, по всей вероятности, нельзя согласиться с тем, что этот эпизод был лишь действием отдельного авантюриста. Агриппа был внуком Августа и братом Агриппины; одно время он также был кандидатом в преемники принципата вместе с Тиберием, и то, что его права на престол были уничтожены решением Августа исключить его из списка претендентов, достаточно спорно. План Климента заключался в том, чтобы доставить Агриппу в армию на Рейне, где мятеж был в самом разгаре. Агриппа смог бы возглавить поход рейнской армии на Рим, если бы Германик отказался это сделать.
Действия Климента42 нельзя объяснить лишь его авантюризмом. Они требовали таких средств, которых у него не могло быть. Разумеется, за ним стояли люди — сенаторы, и всадники, и даже члены императорской фамилии, все это задумавшие и обеспечивавшие финансовую поддержку.43 На допросе он не назвал никого из сообщников. Говорят, что на вопрос Тиберия, как это он сподобился выдать себя за Агриппу, Климент отвечал: «Точно так, как ты выдаешь себя за Цезаря». Такой ответ сам по себе может многое прояснить. Тацит передает, что смерть Агриппы уничтожила последние надежды Юлии. Тиберий понял намек. Против него выступали претенденты на принципат — Юлия и ее дети, которые были исключены Августом из числа преемников. Когда дочь Юлии Агриппина вернулась в Рим с прахом Германика, они еще раз попытались возложить ответственность за смерть ее мужа на Тиберия.
Однако наследование, хоть и важный аргумент, был недостаточно силен в императорском Риме того времени, чтобы объяснить все обстоятельства дела. Нерушимость наследственной власти была приобретением более поздних веков. Да и вряд ли была известна корона как символ власти в те времена, когда Тиберий взял на себя труд управлять империей, в то время как императором он вроде бы и не был. Импульс исходил от людей, за которыми стояли Юлия и ее дети. Идея короны была на подходе, но еще не пришла.
Почти одновременно с этим, вскоре после сражения при Идиавизо и последнего вторжения в Германию, происходили и другие события. Луция Либона Друза после некоторой слежки обвинили в колдовстве, то есть в подозрительных и незаконных действиях, требующих объяснения.
Суд был необычный. Одним из найденных при обыске документов был список с именами Цезарей и сенаторов с таинственными значками против некоторых имен. Не последовало никаких вразумительных объяснений относительно смысла этих значков. Сам Либон оказался безвредным чудаком, любительски занимавшимся тем, что называют оккультизмом, однако занятия оккультными науками вряд ли нуждаются в списке политических деятелей — во всяком случае, не тогда, когда этому нет объяснения. Сам Либон отрицал авторство этого документа. Надеялись, что его домашние могут предоставить ценную информацию, причем не из оккультной сферы. Законно запрещалось заставлять рабов обвинять своих господ. Когда Тиберий предложил обойти этот правовой казус, поодиночке выкупив рабов, Либон покончил с собой. Он мог поступить так, чтобы спасти их от следствия, однако исход дела выглядел неудовлетворительным.
Но у Либона были связи. Он не был человеком неизвестным или безродным и представлял определенный интерес. Он был правнуком соратника Помпея Луция Скрибония Либона, на сестре которого был некогда женат Август, и, следовательно, двоюродным братом Агриппины, и также, возможно, братом того Луция Скрибония Либона, что был консулом в 16 г. — в год, когда схватили Климента. Отсюда и интерес Тиберия к этому делу.44
Тиберий, судя по всему, пришел к выводу, что Либон был пешкой в руках людей гораздо более коварных, и, хотя тот был признан виновным, собирался вступиться за него, если бы Либон не покончил с собой. В чем именно был признан виновным Либон, так и не выяснено, однако сам эпизод указывал на существование заговора и политических разногласий внутри сенатской партии.
Сенатская оппозиция, таким образом, прибегла к одной из самых неприятных форм оппозиции — скрытому сопротивлению, молчаливой враждебности людей, не имевших конструктивных предложений и желавших не лучшего, но перемен. Их тактика была разрушительной. Подобная оппозиция, хотя и не всегда безуспешна, почти всегда зловеща. Она не исправляет ошибки партии власти, она просто препятствует деятельности других, и ее бесплодность дает повод оправдывать суровые и столь же нерациональные репрессии. Плохая оппозиция может быть таким же злом, как плохое правление, порой даже способствуя ему. Сенатская партия наверняка усилила опасность военного принципата, отравив атмосферу слухами, предательством, сомнениями и недоверием.
Тиберий не мог допустить попыток восстановить республиканские порядки. С его точки зрения — а так считал и Август, — республика как политическая форма все еще существовала. Их же целью было уничтожить принципат и восстановить олигархию. Они действовали осторожно и тайно, их деятельность всегда маскировалась, единственное обличье, в котором они никогда не появлялись, было их собственное. Против этой оппозиции Тиберий и начал выстраивать свою оборону, не вовсе невидимую, но столь же скрытную и в то же время действенную. В ходе этого процесса республика, раздираемая двумя силами, и в самом деле была уничтожена.
Двумя бастионами его обороны стали закон об оскорблении величества и система доносов. В понятие оскорбление величества входило любое преступление, которое грозило государству — республике, — учитывая общественные интересы граждан, это понятие охватывало не только нанесение материального ущерба государству, но и (что, разумеется, было естественным логическим расширением идеи) все, что угрожало его престижу и оскорбляло его величие в глазах людей. Закон об оскорблении величества, в том виде, как он применялся при Тиберии, основывался на этой концепции и призван был оградить личность принцепса как представителя и держателя власти государства.
Несомненно одно. Это был не воинский закон и не единственный акт. Он приводился в действие официальными судами и соответствующими магистратами. Он никогда не привел бы к тому, к чему привел, если бы Тиберию не пришлось искать особые способы для защиты своего положения, и, будучи осторожным и осмотрительным, он, во избежание проявления произвола или деспотизма со своей стороны, поручил сенату осуществлять этот закон. Но разумеется, это был не совсем обычный закон. Он давал возможность начинать судопроизводство еще до того, как вина доказана: обидные или враждебные слова или жесты подпадали под закон об оскорблении величества, даже если их смысл был неясным или имел характер намека. От некоторых политических акций следует либо принципиально отказаться, либо применить их определенным образом, ибо, как только они приобретают конкретные очертания, становится невозможно их остановить.
Во многих случаях ответом сената стало столь ревностное исполнение этого закона, что он стал восприниматься как невыносимый. Сам сенат подвергался давлению общественного мнения, он не мог ни отказать Тиберию в требуемой им власти, ни остановить исполнение закона, однако он мог исполнять его слишком рьяно, так что его все возненавидели. К этому относится и случай с поэтом Клуторием Приском, который получил похвалы за создание поэмы на смерть Германика, а прослышав, что Друз болен, написал посмертную поэму и о нем. Друз поправился, а поэта обвинили в косвенной измене. Хуже то, что его казнили… Когда это случилось, Тиберий отсутствовал. Узнав об этом, он сразу же внес предложение, чтобы ни одна казнь не была осуществлена без предусмотренного законом промежутка времени, когда приговор может быть оспорен и пересмотрен.
История несправедливо обошлась с сенатом. То, что впоследствии расценивали как угодничество, на деле было сарказмом.
Как только закон об оскорблении величества стал применяться на практике, донос превратился в средство политической расправы.
Система доносительства не возникла в одночасье, она росла постепенно. Сам Август был невольным инициатором создания системы профессионального доносительства. Первоначально доносчики были просто агентами, собиравшими сведения о долгах перед казной и сообщавшими об этом соответствующим властям. Название в конце концов закрепилось за всеми, кто поставлял в суды информацию о деяниях, за которые выносилось наказание. Август, с большими трудностями проводя в жизнь закон о браке и разводе, предлагал выдавать денежное вознаграждение за сведения, представленные в суд. Поскольку не существовало системы общественных обвинителей, частная инициатива была единственным доступным средством. В результате этого доносительство превратилось в признанную обществом профессию, а доносчик был профессиональным частным детективом, имевшим комиссионные в случае успешного для обвинения решения суда.
Мы можем иметь собственное мнение относительно желательности такого порядка. Большинство подобных систем весьма сомнительны. Но есть доводы в защиту доносительства, трудно придумать иной работающий метод, учитывая время, место и обстоятельства, более того, те, кто намеренно нарушают закон, в любом случае рискуют и не должны уж очень жаловаться, если их поймали. Однако нам следует непременно иметь в виду, что, к каким бы ужасным последствиям этот закон потом ни привел, в нем не было заложено дурных намерений. Он был основан на вполне понятных принципах и являлся легитимным.
Тиберий включил в систему доносительства и сбор политической информации. Он содержал несколько ценных опытных расследователей, их награда зависела от результата, а их деятельность избавляла от трудностей, сопровождающих официальное следствие. Он мог позволить себе платить много. В конце концов, деньги приходили из поместий нарушителей закона. В результате все наиболее удачливые доносчики обратились к политике как к основному направлению деятельности.
Естественно, нам нет нужды рьяно оправдывать доносчиков. Во всяком случае, сенатская партия сохранила свидетельства их успешной деятельности. Очевидно, что для того, чтобы успешно работать, некоторые из доносчиков могли вращаться в высших слоях общества и быть людьми образованными. Например, доносчик Домиций Афр в свое время имел столь же классную репутацию судейского оратора, как современные известные юристы.
И вот после событий, сопутствовавших смерти Германика и суду над Пизоном, закон об оскорблении величества и система доносительства стали распространяться и приобрели немалую значимость. Борьба теперь переместилась от границ Германии в самый Рим. Отодвинулась опасность гражданской войны. Борьба, теперь ведущаяся в столице, стала состязанием в хитроумии и ловкости — тихим, скрытным, однако смертельно опасным.
Обе партии обладали всем необходимым для схватки — средствами и организацией. Это была борьба за власть над миром. Обе они обращались к своим сторонникам, олигархи — с романтической мечтой о республике, которой никогда не существовало. А Тиберий — с прозаическим принципом хорошего правления.
А тем временем на них помалу надвигалось нечто неожиданное и непредсказуемое.
Глава 10
ПОЯВЛЕНИЕ ЭТРУСКА

Примечание: под цифрами с 1 по 5 — пять первых императоров.
Смерть Германика создала ситуацию, к которой никто не был вполне готов. Тиберий освободился от бремени, которое он, без сомнения, безропотно нес бы и дальше, поскольку это была его обязанность, однако теперь он мог свободно следовать велению сердца и передать наследование своему сыну Друзу. Самый этот факт заключал в себе и приманку, и ловушку.
Друз повторял Тиберия без всякого признака гения. Более того, что-то от его прадеда Агриппы смешалось с кровью рода Клавдиев. Он был основателен, дружелюбен, имел чувство ответственности, однако его характер и рассудительность были вроде бы сделаны из менее прочного материала, чем у его отца. Он любил и восхищался своим двоюродным братом Германиком и взял на себя заботу по обеспечению состояния его детей. Однако в отношениях Тиберия с сыном ощущалась естественная и непреднамеренная неприязнь.
Кровь Випсаниев выдавала себя в грубой породе, чуждой утонченным наклонностям Тиберия. Друз, кажется, страдал от положения, обусловленного имперской значимостью его отца. Он пил сверх меры и нередко проявлял качества, свойственные скорее Випсанию, чем Клавдию. С отцовской прямотой Тиберий говаривал своему сыну: «Я не дам тебе так себя вести, пока я жив, а если не послушаешься, я позабочусь, чтобы ты не смог делать этого и после моей смерти». Нельзя было сказать более прямо. Они оба были недовольны, что смерть Германика открыла Друза для атак со стороны тех, кто не имел к нему претензий, пока Германик был жив.
Ливия — Ливилла, Маленькая Ливия, чтобы не путать ее с Ливией Августой — едва ли сильно была привязана к своему неуклюжему мужу, сочетавшему в себе наиболее явные недостатки Тиберия и столь же очевидные пороки Агриппы. Она была красивой, умной и очень современной женщиной, вполне готовой стать орудием в руках других, так же как и ее брат Германик. Но за ее спиной стоял некто другой — а именно Сеян. Личность Сеяна заслуживает того, чтобы на ней задержаться подробнее.
Он был этруском, родом из этой странной, загадочной расы, многие характерные особенности которой возводят ее к самобытной древней культуре, а не к классическим традициям Греции и Рима. Этруски обладали всеми доблестями и пороками той цивилизации, которую никогда не могли воспринять римляне: самый их ум и характер, как и у иудеев, был настроен на отдаленный исторический опыт жизни в населенных городах и больших сообществах. Меценат — этот очень мудрый гражданин мира, который никогда не сражался, никогда не работал, но жил в постоянных разговорах и управлял людьми, которые воевали и трудились, тоже был этруском. В конце концов, искусство понимания других людей — приобретение цивилизации.
Сеян обладал такой способностью. Он был гением приспособления к другим. Его с полным правом можно назвать так, поскольку он сумел войти в доверие к одному из самых скрытных и необычных людей, к самому трудному человеку из когда-либо живших — к Тиберию.
Луций Элий Сеян, как и следовало ожидать, сделал блестящую карьеру, в основном связанную с домом Августа. Его можно причислить к тем, кто использовал армию Цезаря в качестве ступеней к славе и богатству. Он был сыном простого всадника Сея Страбона, начальника преторианской гвардии в последние годы правления Августа. Его матерью была сестра Юния Блеза. После службы с молодым Гаем Цезарем на востоке он был принят в ставку Тиберия и сумел оказаться полезным. Сеян стал служить вместе со своим отцом, когда Тиберий унаследовал принципат. Мы уже встречали его в сопровождении Друза при подавлении паннонийского мятежа. Когда его отец получил в управление Египет, Сеян получил назначение на должность начальника преторианской гвардии.
Его возможности были отнюдь не воображаемыми. Очевидно, Тиберий считал, что может на него положиться. По всем свидетельствам, Сеян был повесой и смельчаком, не вызывал недружелюбия и жил в приятной атмосфере надежности и внешнего успеха. Все жизненные колеса вокруг Сеяна крутились мягко и ровно, как по маслу. Будучи префектом преторианской гвардии, он контролировал внутренние войска, от которых зависела власть Цезаря.
Значимость Сеяна и желание иметь столь способного и верного человека во главе преторианцев были понятны, если иметь в виду обстоятельства первых лет правления Тиберия. Он неустанно охранял принцепса, поначалу не отличаясь сенсационными результатами. В первые восемь лет прошло двенадцать судов по обвинению в измене, и ввиду кризисов, которые преодолел Тиберий, и постоянной угрозы ему трудно удивиться этой цифре. Пока надежды оппозиции в основном возлагались на военный мятеж, мы мало слышим о Сеяне.
В те дни Тиберий не утратил еще того чувства республиканской свободы, проявляемого на Родосе. Задолго до того, как Тиберий задумал все бросить и поселиться на Капри, Луций Пизон яростно выступал в сенате против тогдашних пороков и продолжал это делать. Тиберий был раздражен, и все друзья Пизона пытались урезонить смутьяна. Это был тот самый Пизон, что осмелился подать в суд на матрону по имени Ургулания, подругу Ливии Августы. Она, естественно, приняла вызов, а Ливия призвала против Пизона всю мощь империи в лице Тиберия. Как человек, обязанный повиноваться матери, даже в возрасте пятидесяти семи лет, Тиберий отправился на суд, но с обычной своей ловкостью обходить острые углы он пришел на суд как частный гражданин! Естественно, тогда еще оставалась некоторая надежда на восстановление республики, и он шел по улицам Рима как всякий другой, а его преторианцы следовали в отдалении. Дела еще недалеко ушли от того дня, когда старый Лентул, умеренный сенатор, будучи обвинен в измене, мог встретить обвинение в свой адрес со смехом. «Мне не стоит жить, если Лентул меня ненавидит», — говорит удовлетворенный Цезарь, сенат рассыпается в выражениях любви и единодушия.
Однако все это, вероятно, имело свою цену, и цена была заплачена позднее. Часть ее, без сомнения, была обеспечена заботой этруска. Хотя его хлопоты и были неусыпны, он, тем не менее, начал видеть радужные сны. У него были свои способы находиться в курсе приливов и отливов общественного мнения. Одним из них были связи с женами важных лиц, обладавшими массой полезной информации. Вероятно, он зашел в своем рвении чуть дальше, чем это диктовалось необходимостью, во всяком случае, он включил жену Друза Ливиллу в сферу своей деятельности.
Интрига с Сеяном оставалась бы забавным эпизодом, если бы он вел любовную линию с тем же искусством, что и в других делах. Все, с этим связанное, выглядело бы как невинная шутка. Молодая жена, будучи замужем за непривлекательным мужланом, едва ли могла устоять перед таким красивым и ловким человеком, как Сеян, который чаровал днем и ночью и рассыпал по небу больше звезд, чем способны различить глаза человека. Кроме того, такой человек, как Сеян, обладал даром выставить в невыгодном свете грубоватого мужа. Друз этого заслуживал.
Неуклюжесть Друза не позволяла ему одолеть такого соперника. Он пожаловался отцу. Некое инстинктивное предубеждение усиливало его неприязнь к ухажеру жены, это была подозрительность, свойственная прямым натурам в отношении тех, кто слишком умен и легкомыслен. Этот человек мог им манипулировать. В свою очередь Тиберий выказал удивительную бесчувственность. Он не хотел — да и как он мог? — преувеличивать опасность. Он, естественно, видел в этруске лишь хорошие стороны. Он создал Сеяна и не мог его переделать. Люди обычно не боятся инструментов, которыми пользуются. Сеян, умевший приспособиться к любому, приноровился и к Тиберию. В те дни этруск, вероятно, был единственным, кто имел ключ к тому тайнику, где в одиночестве без всяких масок и притворства обитал не Тиберий Цезарь, но просто человек Тиберий Клавдий Нерон.
Опыт с Ливиллой, кажется, открыл перед Сеяном новые и волнующие возможности. До этого он как следует не понимал, как далеко он может пойти. Даже если раньше он лелеял какие-то надежды и амбиции — а этому свидетельств нет, — он, естественно, совершенно не надеялся на успешное их исполнение. Но уже на полпути его интриги с Ливиллой у него должна была мелькнуть мысль о поистине волнующей возможности. Таким способом он мог достичь… Чего? По утверждению историков, ответ прост. Того, о чем говорят его дальнейшие действия. Он провел целую политическую операцию в своих интересах. Пастушья собака погнала и пастуха, и стадо туда, куда захотела. Наступит время, и пастух, опомнившись, спросит себя, куда же он идет. Однако это время еще не настало.
Друз, хотя и понимал ситуацию, был не в состоянии с ней справиться. Его предупреждения, его жалобы, его ссоры не принимались во внимание. Он все больше терял выдержку. Однажды, говорят, он ударил Сеяна. Ударить этруска было делом опасным, даже для римлянина.
Разногласия между Друзом и Сеяном закончились на девятом году правления Тиберия смертью Друза, последовавшей после краткой болезни. Общество не было столь удивлено, как можно было ожидать. За два года до смерти он был консулом вместе со своим отцом. Не надо было быть пророком, чтобы предсказать несчастье. Все помнили, что Публий Квинтилий Вар исполнял консульские обязанности вместе с Тиберием в 13 г. до н. э., и все знали, что случилось с Варом. И Гней Пизон был консулом в 7 г. до н. э. вместе с Тиберием, и все знали, что случилось с Пизоном. И Германик был консулом вместе с Тиберием в 18 г., и все помнили, что случилось с Германиком. Когда четвертый человек, бывший консулом вместе с Тиберием, умер два года спустя, предсказатели только качали головой. Быть консулом в паре с Тиберием — зловещий знак. Кто будет пятым?
Вероятно, и Сеян следил за коллегами Тиберия по консульской должности. Ему предстояло еще раз наблюдать за этим в обстоятельствах более интересных для них обоих.
Удар был слишком тяжелым для пожилого человека. Смерть Друза была еще одним знаком злой судьбы, сметающей все надежды человека. Он вынужден был развестись с Випсанией, чтобы жениться на Юлии, ставшей причиной многих его бед. Ему пришлось обойти собственного сына Друза и усыновить Германика в качестве своего преемника. Германик умер… Мы видели, при каких обстоятельствах, а теперь судьба вырвала и Друза. Его собственный сын теперь никогда ему не наследует, будут другие люди, более или менее — скорее менее — близкие и незаинтересованные в методах и идеалах правления, столь много значивших для Тиберия.
Смерть Друза обозначила этап в жизни и характере Тиберия. В глазах других людей он весьма легко перенес тяжесть утраты45 и отказался прервать исполнение государственных обязанностей на долгое время официальных похорон. Однако он никогда уже не был прежним Тиберием. Скрытые в нем чувства породили желание удалиться от мира и жить в одиночестве. Он, как и прежде, появлялся в сенате и мягко отвергал знаки соболезнования. Не упрекая тех, кто поступал иначе, он (по его словам) искал утешения в работе. Возможно, он думал, что для сената это не такое уж большое горе, и, вероятно, сенаторы это чувствовали — чем меньше они сожалели в душе, тем больше старались внешне выказать свои соболезнования.
Если Тиберий и был причастен каким-то образом к трагедии Германика, к смерти сына он ни в коей мере не был причастен. С обычной своей невозмутимостью следуя здравому смыслу, он обошел своего внука, сына Друза и Ливиллы, в пользу сыновей Германика и Агриппины, возраст которых более подходил для назначения их наследниками. Соответственно они были приведены консулами и предстали перед Тиберием. Он обратился к ним с краткой речью, которая потрясла сенаторов до слез.
Он сказал им, что после смерти отца он поручил их заботам дяди. Теперь, когда Друз ушел из жизни, он просит сенат перед страной и ее богами встать на защиту интересов внуков Августа. «Для вас, Нерон и Друз, сенаторы заменят отца. По праву вашего рождения отныне ваши удачи и ваши неудачи касаются всего государства» (Тацит. Анналы, IV, 8).
Агриппина не смягчилась. Если Тиберий надеялся, что этим действием он в какой-то степени перебросит мостик к взаимопониманию, его ждало разочарование.
Похороны Друза были отмечены необычными изображениями предков. В траурной процессии несли изображения Энея и альбанских царей, а также Атта Клауза и сабинских предков дома Клавдиев.
Еще одна пара требовала внимания Тиберия. Сеян обратился к нему с письменной просьбой жениться на вдове Друза Ливилле. Он уже развелся с Апикатой, чтобы устранить все официальные препятствия на этом пути.
Это, однако, было слишком. Тиберий подробно ответил ему, предупреждая, что женитьба на Ливилле не будет для него безопасной. Сам он не станет препятствовать тому, что задумал Сеян, но, хотя он и не знает его намерений, он уже позаботился о продвижении Сеяна. Он может рассчитывать на любую должность, и в положенный срок он об этом узнает. Это письмо исполнено столь дипломатично, что позволяет предположить его подлинность.46 Ответ озадачил Сеяна, поскольку он означал руководство к действию. Что именно опасного было в том, чтобы жениться на Ливилле? Письмо, кажется, намекало на то, что у Тиберия есть для Сеяна нечто лучшее. В действительности это могло предполагать любой поворот событий. Оно могло означать и то, что аристократ Тиберий не хотел вводить «Сподручный Инструмент» в круг августейшей фамилии. Сподручный Инструмент стал размышлять о других путях и способах для достижения своего плана.
Все шло к тому, что Тиберию придется покинуть Рим.
План этруска жениться на Ливилле и стать отчимом детей императора с треском провалился. С другой стороны, с усыновлением детей Германика в качестве наследников империи перед Агриппиной рисовались перспективы будущей власти.
Однако если посмотреть на ситуацию в целом, на стороне этруска было множество преимуществ. Тиберий получил много жизненных уроков, но выучил ли он самый горький из всех — о вероломстве и предательстве? Для Сеяна, разумеется, дело представлялось в более выгодном цвете. Сам он не видел ничего дурного (а он, без сомнения, это учитывал) в том, чтобы ввергнуть себя в ту высокую интригу, в которой столь преуспели Гай Юлий Цезарь и Август. Если он смог провести искусного и проницательного Тиберия, какой закон может его остановить?
Положение Агриппины было уязвимым, и, если уничтожить ее и сыновей, для этруска откроется прямой путь к вожделенной цели. Тиберия нельзя было натравить на Агриппину простыми и прямыми средствами. Назначив ее сыновей своими наследниками, он был непреклонен в намерении довести это до конца. Следовательно, должны быть использованы другие средства. Императору можно было внушить, что сторонники и друзья Агриппины в сенате представляют политическую угрозу. Агриппину, с другой стороны, следовало убедить в том, что кампания против ее друзей в сенате направлена против нее лично. Брешь между ними следовало увеличивать, пока она станет непоправимой. И за все, что произойдет, следовало переложить ответственность в глазах людей на Тиберия. Сам Сеян мог с некоторой долей иронии сознавать, что он действительно представляет собой Сподручный Инструмент. Возможно, настанет время, когда он сможет отказаться подчиняться Тиберию и встанет на сторону жертв тиранического режима.
И это были не пустые мечтания. Мы бы содрогнулись, узнав о том, какую политическую интригу он задумал для достижения своей цели, используя ее для дискредитации Тиберия и очернения его имени, однако потерпел неудачу.
Агриппина была лишь невежественной и страстной женщиной, не ведавшей, что попала в политические сети войны гигантов и использовалась как оружие в борьбе, в которой никогда не могла победить, поскольку не осознавала своих подлинных роли и положения. От нее требовали лишь быть еще подозрительней, неразумнее и более неудовлетворенной, чем она была, и она пошла на все ради своих детей — не нуждавшихся в этой жертве, поскольку Цезарь сделал их своими наследниками и дал все необходимые права. Она уже предлагала передать управление империей в руки сената. Олигархи всячески приветствовали такого союзника. Они восхищались патриотизмом, который столь многим жертвовал ради их интересов. Сенат чтил память о доблести того, кто согласился быть пешкой в их игре, в отличие от тех, кто на это не пошел. И в самом деле, в истории именно пешки порой получают многие регалии и становятся известны потомкам. Тем же, кто обладает более развитым чувством собственного достоинства, выпадает более трудная судьба.
Несмотря на то что интрига была бы исполнена даже в отсутствии Агриппины, все же дала повод именно она, отказываясь поверить в искренность Тиберия. Вероятно, от нее пошла та невероятно суровая критика вымышленного образа Тиберия, что, покончи он с собой в знак примирения, за этим все равно подозревали бы скрытые мотивы.
Перенос центра борьбы в Рим был отмечен несколькими событиями. В первые восемь лет правления Тиберия было лишь пять судов по обвинению в государственной измене. В следующие шесть лет после смерти его сына Друза их уже было двадцать. В тот год Сеян предложил предпринять некоторые упреждающие шаги, с которыми согласился Тиберий. Преторианская гвардия, до тех пор разбросанная по лагерям в окрестностях Рима, теперь была сосредоточена в укрепленном постоянном лагере в самом Риме… Эти меры имели далеко идущие последствия. Объяснением стало то, что охрана принцепсов теперь осуществлялась надлежащей воинской силой, которая всегда была под рукой. Вместе с тем появилась возможность, используемая довольно долго и выявленная лишь годы спустя — слишком поздно для умного дипломата, впервые предложившего этот план. Теперь Рим, а вместе с ним и принцепсы находились в руках военных и человека, который ими командовал.
Совпадение такой концентрации сил в Риме со смертью Друза и с последующими событиями было свидетельством намерений Сеяна. Одно кольцо в цепи, взятое отдельно, могло быть случайностью. Однако связанные вместе, они никак не могли оказаться случайными. И по свидетельству историков, писавших о том времени, именно так и было.
Со времени смерти сына Тиберий все больше государственных дел стал отдавать на рассмотрение Сеяна еще до того, как они попадали к нему лично. Консулы и магистраты привычно толпились у дверей дома Сеяна, каждое утро дожидаясь аудиенции, чтобы изложить перед ним свои планы и распорядок дня, и даже личные дела попадали к Тиберию через руки Сеяна. Поэтому этруск был в курсе всего, и его влияние было признано неограниченным.
Проницательность Тиберия его не подвела. До определенного момента, который еще не наступил, Сеян был прекрасным исполнителем. Насколько далеко распространялась проницательность Тиберия, насколько предвидел он опасность, на этот вопрос у нас нет ответа. Который из двух был хитрее, могло показать лишь дальнейшее развитие событий.
Если бы Агриппина приняла оливковую ветвь мира, ей протянутую, и согласилась дождаться естественного восхождения на трон своих сыновей, это был бы конец истории и рассказывать было бы нечего, кроме того, что все вместе жили счастливо. Но она не могла доверять Тиберию. Давление на нее было слишком сильным, и она не могла ему противостоять. Сенатская партия не меньше этруска была заинтересована в возбуждении и разжигании ее чувств. Она попала в водоворот между этими двумя силами и уже не могла выбраться.
Сам Тиберий никогда бы не поднял руку на Агриппину. Ее жизнь и жизнь ее сыновей были его гарантией против могущественных, но необходимых слуг, таких, как этруск. Пока они были живы, он был в безопасности, и Сеяну были предоставлены все полномочия для борьбы с партией олигархов. Однако если бы их не стало, наступило бы для него время опасаться за свою жизнь.
В сущности, Тиберий предложил Агриппине и ее сыновьям коалицию против общего врага, ценой которой было наследование империи. Скоро стало ясно, что они не приняли предложения, и что их враждебность скорее окрепла, чем уменьшилась.
Во всяком случае, удача была на стороне этруска.
Таким образом, интересы Тиберия и Сеяна оставались достаточно близкими, чтобы назвать их одинаковыми. Отслеживание деятельности Агриппины и ее друзей было для Тиберия способом контролировать партию, стремившуюся уничтожить принципат. Сеяну это сулило наилучшую возможность увеличивать разрыв между Тиберием и Агриппиной. Гай Силий был сторонником партии Агриппины. Историк Кремуций Корд принадлежал к другой сенатской партии, действующей независимо от Агриппины.
Процесс над Кремуцием Кордом стал первым важным процессом, в котором для вынесения обвинительного приговора было использовано фальшивое обвинение, и в то же время первым, где использовались методы Сеяна. Кремуция судили за то, что он назвал Брута и Кассия последними истинными римлянами. Это было, разумеется, весьма облыжное обвинение, сравнимое с похвалой Робеспьера во время правления Бурбона или похвалой цареубийц при Карле II. Защита настаивала на том, что Август читал его книгу и у него это высказывание не вызвало возражений. Кремуций тем не менее, видя, что ему готовы вынести приговор, добровольно отказался от пищи. Утверждали, что истинной причиной обвинения Кремуция были дела личного свойства. За три года до процесса сгорел театр Помпея, и Тиберий особенно отметил действия Сеяна во время тушения пожара; соответственно во вновь отстроенном здании была поставлена статуя Сеяна. Кремуций по этому поводу отпустил ряд язвительных замечаний, на которые так скоры были члены сенатской партии. Он заметил, что теперь, во всяком случае, он увидел ущерб, нанесенный театру. Однако в защиту Кремуция можно сказать, что даже его друзья отмечали его неосмотрительность.
Суд над Кремуцием показал, что борьба возобновилась.
То, что она возобновилась преднамеренно и не была случайной, показывает другой процесс, последовавший вскоре после этого. Намерение Тиберия удалиться со сцены было с энтузиазмом поддержано Сеяном, и это стремление еще больше усилилось в ходе суда над Вотиеном Монтаном, обвиненным в клевете на государство. Тиберий лично прибыл в суд, чтобы присутствовать на процессе. Среди свидетелей был солдат по имени Эмилий. Свидетельство Эмилия, полное подробностей и твердо подкрепленное, было столь скандальным, что Тиберий пришел в ужас. Он кричал, что без промедления должен сам оправдаться и в том же суде. Его друзья вынуждены были его успокаивать, но и заверения целого собрания его не утешили.
Хотя сами свидетельские показания Эмилия до нас не дошли, нетрудно понять их направленность. Они, должно быть, состояли из обвинений, сохранившихся в соответствующих главах Светония, и, хотя относятся к последнему периоду его пребывания на Капри, есть все основания полагать, что имели гораздо более раннее происхождение и были теми наветами, что начала распространять Юлия и подхватила Агриппина. Если так, чувства Тиберия можно понять. Его реакция была бурной.
Процесс Вотиена имел довольно серьезные последствия. Тиберий нелегко воспринял услышанные утверждения, и если, как передает Тацит, с тех пор он стал более суровым, виной была Агриппина, ибо она более всего пострадала от такой перемены его нрава.
Хотя мы и не можем проследить в точности, должна была существовать определенная связь между процессами Вотиена и Клавдии Пульхры. На сей раз суд очень близко подошел к Агриппине, поскольку Клавдия была ее ближайшей подругой. Обвинения против Клавдии состояли в наличии связи с неким Фурнием и их намерении отравить Тиберия и извести его с помощью заклинаний. Это было громкое дело. Обвинение было представлено доносчиком Домицием Афром, который прославился как лучший оратор своего времени.
Насколько всерьез можно принимать подобные заявления в качестве реальной вины — вопрос спорный, искусство выносить приговор на основании косвенных улик, когда истинность трудно или нежелательно выяснить, изобретение не только последних лет. Домиций Афр в совершенстве владел этим искусством. В результате процесса всплыло имя Агриппины.
Узнав, что Клавдии готовы вынести приговор, она отправилась к Тиберию для выяснения отношений.
Разговор был примечательным.
Поскольку воспоминания Тиберия никогда не были опубликованы, вероятнее всего, его подробности дошли до нас от самой Агриппины через мемуары ее дочери Агриппины Младшей, матери императора Нерона.
Она застала его за жертвоприношением в храме Божественного Августа и сказала, что негоже воздавать почести Августу и одновременно преследовать его потомков. Дух этого божественного человека не сошел ни в одно из его изображений, но она, Агриппина, — его истинный образ и представитель. Единственная вина Клавдии в том, что является ее подругой.
И даже если так, высказывание было бестактным. Она не могла сильнее уколоть его, намекая на принцип наследования, лежащий в основании его власти. Тиберий ответил цитатой из греческой трагедии: «Не в том ли я повинен, дочь моя, что не царица ты?» Такое положение действительно выражало их отношения.
Она вышла из себя, узнав о приговоре Клавдии. Какова бы ни была в действительности вина, было очевидно, что Агриппина намеренно вовлечена в этот процесс. Тиберий отправился к ней для разговора. Она просила позволения вторично выйти замуж. Он не дал ответа. С кем она собиралась сочетаться вторым браком? Теперь был его черед оставить без ответа то, о чем лучше умолчать.
Все это отдаляло их друг от друга. Сеян постоянно заботился, чтобы предубежденность Агриппины становилась все сильнее. Теперь она постепенно приходила к выводу или делала вид, что приходила к выводу, будто Тиберий намерен ее отравить. На обеде с ним она подчеркнуто и нарочито отказывалась от пищи. Тиберий был бы бесчувственным человеком, если бы не понимал столь явно выраженных намеков. Чем менее ее туманные обвинения соответствовали истине, тем серьезнее он к ним относился. Даже если она сама в это не верила, ситуация сама по себе была достаточно неприятной. Если же верила — дело обстояло еще хуже. Тиберий имел дело с сестрой Агриппы Постума и матерью Калигулы.
Некоторые мысли и чувства, если их лелеять, пожирают и разрушают не хуже живых паразитов мозг и душу их хозяев. Возможно, Тиберий имел дело с сумасшедшей — однако именно на ее стороне оказались симпатии потомков в последующие двадцать веков.
В конце концов, он был не железным. Сказывалось утомление. Он все глубже уходил в себя. Однако удар, заставивший его удалиться из Рима в его второе изгнание, был нанесен с другой стороны. Он исходил от Ливии Августы.
Поскольку Ливия не оставила воспоминаний, нам неизвестны интимные подробности — реальные или воображаемые, — которые Агриппина сообщила потомкам. Светоний и сам использует оборот «говорят» в подтверждение своего рассказа. Есть много причин, почему Тиберий сопротивлялся попыткам своей матери контролировать его действия. Ливия не любила Сеяна и не приветствовала применение суровых мер в отношении Агриппины. Как и многие матери, она с неприязнью относилась к тесному общению своего сына с этруском. Тиберий пошел на это, несмотря на недовольство матери… Однако непосредственной и действительной причиной возникшего кризиса было другое. Она хотела, чтобы вновь получившие гражданство могли занимать места среди членов жюри.
Тиберий возражал. Ливия настаивала. Наконец он согласился с условием, чтобы сенат одобрил имена новых членов жюри, внесенных в список императором под давлением его матери. Столь ловкий поворот в споре вывел Ливию из себя. Чтобы доказать, что Тиберий вообще не соответствует своему положению и ничего не смог бы добиться без ее помощи, она продемонстрировала старые письма Августа к ней. Удар оказался гораздо сильнее, чем она предполагала, — Тиберий удалился в изгнание. Если судить по его последующему отношению к матери, он воспринял ее поступок как жестокий и позорный удар в спину. Это было все, чего он мог ожидать взамен многих принесенных им жертв и преданности делу, на которую способны немногие люди! В эти дни он больше не был прежним Тиберием. Он не мог — во всяком случае, он этого не сделал — обратить это в шутку. В любом случае он не был человеком, которого судьба наградила своими дарами!
Едва ли с тех пор он когда-либо виделся с Ливией. Он отказался не только от нее, но и от присутствия этих людей, что преследовали его с их слепой враждебностью, бессмысленной злобой и невежественной оппозицией.
Ему было шестьдесят семь лет, когда он совершил самый странный и загадочный поступок в своей странной и загадочной жизни. Все время своего правления он жил дома. Несмотря на намерения посетить провинции, он так никогда этого и не сделал, передумав в самый последний момент. Он намеренно отправился в Кампанию, чтобы освятить храм в Капуе. Его сопровождали сенатор Марк Кокцей Нерва, дед императора Нервы, Сеян и несколько астрологов. После освящения храма он посетил остров Капри, этот удивительный романтичный скалистый островок, купленный Августом у города Неаполя и возвышавшийся посреди Средиземного моря за оконечностью Соррентийского полуострова. На Капри он задержался.
Здесь он выстроил двенадцать вилл и здесь нашел уединение. Здесь была защита от непрошеных гостей. Тиберий уединился в цитадели. С этих пор он становится легендой, он перестает быть человеком среди людей и становится невидимой силой, являя свое присутствие через поступки, и никак иначе. В Риме моментально стали шептаться, что он уединился, чтобы предаваться своим порокам, что он прячет от людских глаз свое ужасное моральное падение, что испытывает муки совести. На это Тиберий никак не отвечал. Люди судачили, но на Капри, где спокойные воды переливались в солнечных лучах, царило молчание.
Нетрудно понять чувства, приведшие его на Капри. У него были свои причины. Он оставил Рим для молодого Нерона, сына Германика и Агриппины, который, не будучи стеснен его присутствием, мог легче ознакомиться с механизмом правления империей. Если и было что-то хорошее в детях Агриппины, появился шанс проявить эти качества, как, впрочем, и качества дурные. Удаление Тиберия стало таким испытанием.
Это напрямую соответствовало намерениям Сеяна. Если бы этруск сам задумал такой план, он не мог бы сделать то, что более соответствовало всем его желаниям. Поле политической борьбы Рима оставалось для него свободным, он получил доступ к огромному куску империи. После удаления на остров Тиберий как бы сошел со сцены, и Сеян оставался в глазах окружающих единственным его голосом и исполнителем. Когда постепенно голос за его спиной заглохнет, когда наконец он исчезнет (по какой-либо причине) — тогда останется лишь голос Сеяна, и аудитория вряд ли заметит, что он произносит уже свои собственные слова.
Все вещи, происходящие от мыслей людей интеллектуальных, имеют странное свойство, подобное действиям опытного шахматиста, который одновременно имеет в виду множество возможностей, преследует множество целей и готов к сотне возможных вариантов. Это качество присутствовало в любом простейшем действии Тиберия. Оно отсутствовало в действиях Сеяна. Удаление на Капри могло заключать в себе множество возможностей для Тиберия. Одно событие способно было перечеркнуть все возможности Сеяна. В этом была очевидная слабость положения этруска. Его положение не отличалось бесконечным количеством сложных вариантов защиты, которыми Тиберий, даже особенно над этим не задумываясь, из простого чувства самосохранения, окружил себя.
И когда население Рима — и роскошное, и плохо одетая толпа — смирилось с мыслью, что Тиберий удалился на Капри, чтобы забыть об остальном мире, старый человек вовсе о нем не забывал. Он сидел за столом, разбирая дела, как он сидел и в Риме; дела управления, как и прежде, находились в его руках. Возможно, он даже лучше мог видеть перспективу с Капри, вдали от отвлекающего влияния Рима и враждебности римлян.
То, что его удаление на Капри было не просто выражением разочарования в людях, он доказал сразу по прибытии на Капри. Обвалился театр в Кампании, что повлекло за собой множество жертв. Он сразу же вернулся в Кампанию выказать свое сочувствие и оказать посильную помощь, и этот его визит нашел тем больший отклик, поскольку накануне он был там как частное лицо. Он всегда оставался самим собой, если появлялось дело, в котором он мог быть полезен и сведущ.
Глава 11
ДВУСМЫСЛЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕТЕЙ ЮЛИИ. ПАДЕНИЕ ЭТРУСКА
Если старик полагал, что его отсутствие в Риме проявит качества молодого Нерона — плохие ли, хорошие ли — и высветит истинную его природу, он был прав в своих расчетах. Друзья Агриппины решили, что отъезд Цезаря — признание его поражения. В наступившей в Риме удивительной свободе они стали более уверенно поднимать голову. Однако Тиберий оставил наблюдать за ними глаза столь же острые и проницательные, как и его собственные. Если Агриппина сделает ложный шаг, этруск не упустит возможности настигнуть свою добычу.
Рассказ о процессе, которым он напакостил им, запутан и сопровождается темной предысторией, о которой современные историки могут лишь гадать. Как излагают эту историю сами римляне, она идет от доносчика Латиния Латиария и трех друзей, желавших получить консульские должности. Сеян оказывал им необходимое покровительство, и поэтому они прежде всего обратились к нему. Очевидно, они обладали информацией столь полезной, что покровительство им стало для него способом использовать эту информацию в интересах Тиберия и своих собственных.47
Латиарий и его компания, в которую входил Фульциний Трион, в любом случае знали, что Тит Сабин, друг и доверенное лицо Агриппины, готовится предпринять важные шаги. Как только они заручились гарантией собственной безопасности, они затеяли всю процедуру. Сабина как бы случайно вызвали на разговор, и, когда он в присутствии укрытых свидетелей заявил о своих планах, его заставили в их же присутствии это подтвердить. Эти свидетельства затем были направлены Тиберию, передавшего дело на рассмотрение сената.
Известие об аресте Сабина вызвало неоднозначную реакцию в Риме. Паника и настороженность, охватившая людей, показали, что многие известные люди имели слишком много причин опасаться расспросов доносчика. Вид уверенности в себе возвратился к ним лишь тогда, когда они поняли, что паника может обратиться против них же.
Друзья Сабина говорили, что единственное его преступление состоит в неосторожном высказывании его мнения, что Цезарь жестоко и бесчеловечно обращается с несчастной Агриппиной. Официальное обращение в сенат, поступившее с Капри, содержало совсем иную информацию. Сабин обвинялся в подкупе слуг Тиберия и в заговоре с целью покушения на его жизнь. Что именно изложил Тиберий в своем послании, неизвестно, но его было достаточно для того, чтобы немедленно взять Сабина под стражу, а быстрота — даже поспешность, — с которой Сабина казнили по приказанию сената, позволяет предположить, что многие очень влиятельные личности опасались, что Сабин, покинутый своими друзьями, в отчаянии мог наговорить много лишнего.
Тиберий направил еще одно послание в сенат. Благодаря сенат за проделанную работу, он намекнул, что все еще опасается за свою жизнь, и, хотя имена не были названы, было ясно, что имелись в виду Агриппина и Нерон.
Но что именно было известно Тиберию? Немало людей много бы дали, чтобы знать это. Спикер Азиний Галл, поднявшись с места, предложил, чтобы Цезарь вверил свои опасения на рассмотрение сената и позволил им заняться этим делом. Это неумное предложение дать дело на рассмотрение тем, кто мог быть в нем замешан, вызвало гневную реакцию Цезаря. Сеян отвлек его гнев. На кон поставлены более важные (во всяком случае, с точки зрения этруска) вещи, чем получить одно очко в лице Азиния Галла, когда речь идет о жизни и смерти самой империи.48
Судя по всему, на основании добытых доказательств Нерона и Агриппину можно было привлечь к суду. Однако сделать это на законном основании было весьма трудно. Преданные им друзья осмелились действовать в их интересах. Даже против Нерона свидетельства были скорее косвенные, нежели прямые. Чтобы провести суд над Агриппиной и Нероном, следовало предъявить косвенные обвинения, достаточно сильные, чтобы компенсировать отсутствие реальных. Однако это было невозможно, пока жива была Ливия Августа. Она оставалась основным препятствием, и даже отчуждение Тиберия не заставило ее отступить.
Во время напряженного перерыва, вызванного казнью Сабина, отношения между партиями оставались натянутыми. Все еще невозможно было узнать, как много известно Тиберию. Нерон проявлял признаки беспокойства. Он открыто выступал против Тиберия и не заботился о том, чтобы скрыть свою враждебность. Сторонники Цезаря обходились с Нероном холодно и пренебрежительно. Немногие осмеливались выказать свои симпатии к нему. Сам Тиберий держался уверенно и старался не замечать холодного к нему отношения. Долго это не могло продолжаться. Первое же событие, нарушавшее равновесие сил, вызвало жесточайший кризис.
Особенностью этого времени стало возвеличивание этруска. Блеск его нимба начал затмевать солнце Тиберия. Вопрос, кто из них солнце, а кто его спутник, стал занимать умы многих людей. Сенат постановил воздвигнуть алтарь Милосердию и Дружбе, позади алтаря воздвигли статуи Тиберия и Сеяна — еще одна пара Божественных Близнецов. Сенат торжественно просил их чаще появляться на людях. Очевидно, они по-разному это понимали. Сеян с радостью согласился красоваться на публике, Тиберий не видел в этом необходимости. Поэтому вместо того, чтобы отправиться в Рим, он посетил Кампанию. Каждый, кто мог двигаться, спешил нанести им визит, особенно Сеяну. Сенаторы, всадники и простой люд осаждали двери этруска. Однако попасть к Сеяну было трудно. Он принимал лишь тех, кто мог быть ему полезен, и даже эти люди должны были пробиваться подкупом или кулаками сквозь толпы конкурентов. Если бы Тиберий этого не замечал, он не был бы Тиберием. Человек должен быть вовсе бесчувственным, чтобы не заметить, что на трон Цезаря покушаются две группы претендентов. Даже самые неискушенные люди отдавали себе в этом отчет, и многие считали, что Цезарь сдался на милость победителя. Да и относительно самого Цезаря стали появляться сомнения. В конце концов, он был очень старым человеком — в том году ему исполнилось семьдесят лет.
Со смертью Ливии Августы в возрасте восьмидесяти шести лет главное препятствие было устранено с пути Сеяна. Глубину разногласий между ней и ее сыном можно было видеть по поведению последнего. Он не посетил ее во время ее болезни. После ее кончины, хотя он выразил намерение видеть ее, после нескольких дней ожидания он так и не приехал, и пришлось хоронить ее в отсутствие сына. Он письменно объяснил, что его задержали важные государственные дела. Надгробную речь перед ее могилой произнес ее правнук Гай, более известный под именем Калигула. Тиберий не стал воздавать почести жене Августа. Сенату было запрещено обожествлять ее, похороны были спокойными, он проигнорировал ее завещание и оставил его неисполненным. Этруск должен был быть счастлив, оттого что Цезарь не разделяет взглядов своей матери. Однако догадываться, что именно таит в душе Цезарь, становилось опасным.
То, что сенат ни в коей мере не был полностью раболепен по отношению к Тиберию, видно из того почтения, которое он посмертно оказал Ливии. Он не выполнил предписанной ему программы. Поскольку это было общественное мнение, а не просто выражение личной скорби каждого, проголосовали за то, чтобы объявить годичный траур и воздвигнуть арку в ее честь — такая честь никогда не оказывалась ни одной женщине. Тиберий взял расходы по возведению арки на себя. Поскольку он так ничего и не предпринял, арка не была возведена.
Сеян действовал стремительно, пожалуй, даже слишком. Он становился самоуверен, а это всегда непозволительная роскошь. Тиберий был готов предпринять шаги, от которых многое зависело. Соответственно в сенат с Капри было направлено послание. Агриппина обвинялась в оскорбительных речах и неповиновении, Нерона обвиняли не в заговоре, а в безнравственном поведении. Послание стало чрезвычайной сенсацией. Положение усугублялось тем, что Тиберий ничем не намекнул, чего он ждал от сената. Подобно Генриху VIII и по тем же причинам он не собирался взваливать ответственность за столь суровые меры на свои плечи, он хотел разделить ее с сенатом. Однако было много разных причин, препятствующих этому. Он делал вид, что сенату известны те же факты, что и ему, и сенат не нуждается в дополнительной информации. Но что именно ему известно, никто не знал, но признание вины Агриппины и Нерона означало для одних допустить, что им известно то, чего они не знали, а для других — признаться, что они якобы знали и молчали. Те, кто был на стороне Агриппины, не могли предъявить ей пустое или ложное обвинение. Были и выступавшие на стороне партии Цезаря, но некоторые из них придерживались точки зрения Ливии и просили палату не поддерживать политику, о которой сам Цезарь мог горько пожалеть. Когда Марк Аврелий Котта от имени Цезаря поднялся с места, чтобы огласить обвинения, сенаторы устроили ему обструкцию — старик поставил их перед неразрешимой дилеммой.
Единственным выходом было (как это часто бывает) обратиться к мнению народа. Было проведено шествие, во время которого рискнули пронести изображения Нерона и Агриппины, и это дало возможность спикеру заявить, что послание Цезаря было подложным. Влиятельные сенаторы стали распространять постановления с резолюциями, направленные против Сеяна. Результат этого опроса народного мнения, очевидно, оказался разочаровывающим. Обращение к общественному мнению и в самом деле было пустой затеей. Люди, мнение которых имело значение, состояли в рядах армии Цезаря, а с теми, кто был недосягаем на Рейне и Дунае, нельзя было связаться из Рима. Цезарь хранил молчание, Сеян разжигал страсти. Он убеждал Тиберия в том, что его сетования остаются без внимания, и грозил, что на улицах Рима во главе толпы вскоре появятся не изображения, а их реальные прототипы. Тиберий, похоже, соглашался, он направил сенату второе послание, где потребовал, чтобы сенат, если не способен действовать, передал дело на его рассмотрение.
Когда дело приняло такой оборот, стало ясно, что положение Агриппины и ее сторонников пошатнулось. Сенат сдался и униженно отвечал, что Тиберий может предпринимать любые шаги, какие сочтет нужными.
Соответственно Агриппину и Нерона судили перед самим Цезарем, и, поскольку сохранились лишь некоторые детали этого суда, он, вероятно, был закрытым. Среди обвинений, выдвигавшихся против Агриппины, было ее намерение (которое, естественно, отрицалось) бежать и найти пристанище в армии. К показаниям был привлечен командир рейнской армии Гней Лентул Гетулик. Он избежал обвинения, мужественно и смело ответив на вопросы, что понравилось Тиберию, он сказал, что ничего не предпринимал против Цезаря, но, если бы его собственная жизнь была в опасности, он полагает, что смог бы пойти на многое. Против Лентула не было принято никаких действий; и после такого его признания Тиберий пожелал остаться один.
Агриппина долго вила свою веревочку, но теперь, похоже, настал ее конец. Ни один королевский указ об изгнании никогда еще не сметал с пути опасных заговорщиков так решительно, как суд Цезаря над Агриппиной и Нероном. Они были сосланы. Она на Пандатарию, а он на Понтию в кандалах и закрытых носилках. Стража не позволяла встречным даже остановиться, чтобы взглянуть на них. В Пандатарии, где отбывала заключение ее мать, разъяренная Агриппина дала волю своим чувствам. Она высказала все, что думает о Тиберии. Но здесь было не место. Здесь слово Цезаря было законом. В драке с охранником она потеряла один глаз.49 Когда она объявила голодовку, ее кормили насильно. Общее мнение было, что голос мог принадлежать и Цезарю, а вот руки Сеяну.
Оставались еще два сына Германика: Друз и Гай, обоих Тиберий держал при себе на Капри. Гай — неуравновешенный, дегенеративный, с лицом младенца — оказался слишком хитер для Сеяна, он выжил и стал императором Калигулой. Однако Друз, после того как его использовали в качестве ловушки для Нерона, следующим попал в расставленные этруском сети. Сеян соблазнил жену Друза Лепиду, как в свое время Ливиллу. На основе ее показаний Друз был отослан назад в Рим. Сеяну этого было мало. По его указанию консул Кассий Лонгин арестовал и взял Друза под стражу, теперь и второе имя попало в синодик этруска. Тиберий уберег молодого Гая. Сохранилось его пророческое высказывание о нем: «Он живет на погибель себе и другим».
Препятствия на пути Сеяна быстро исчезали. Если так пойдет и дальше, они вскоре исчезнут вовсе. Однако это была лишь передышка. Еще был жив брат Германика Клавдий, хотя его считали весьма недалеким и, во всяком случае, его кандидатура в качестве преемника принцепса не рассматривалась. В сочинениях историков ему будут посвящены многие тома. Этруск уже готовился стать единственным человеком, способным надеть мантию Цезаря, и решил, что время это настало.
Какие же мысли и намерения витали в голове Тиберия на Капри? Работа этруска была закончена — дети Юлии, которые дважды пытались вырвать принципат из его рук, ушли, сенатская партия, возлагавшая на них свои надежды, была парализована. Теперь не торопясь он мог обратить свой взор на этруска и внимательно рассмотреть эту примечательную фигуру с заслуживающим того интересом.
Сеян был с Тиберием в отношениях, подобных тем, что были у Тиберия с Августом. Однако было и различие. Сеян не представил Тиберию тех гарантий верности, которые последний предъявил Августу. Он никогда не забывал о себе и не испытывал давления, какое в свое время испытывал Тиберий, он никогда не удалялся в добровольное изгнание на Родос, никогда не обходил собственного сына, чтобы усыновить и сделать наследниками Германика и Агриппину. С возрастом Тиберий становился холоднее, и чем старше он становился, тем менее охотно он воспринимал подобострастие этруска. Сеян же расцвел, подобно тропической орхидее. Это был человек, неспособный оставаться в тени.
Лояльность этруска лишь однажды выдержала испытание. Проезжая Кампанию на пути к Капри, спутники Цезаря устроили пикник в пещере. Место было небезопасным, и во время трапезы произошел вызвавший панику обвал. Сеян прикрыл Тиберия и принял на себя камень, который мог бы убить господина. Такое доказательство преданности было отмечено, но было ли оно истинным? Это могло означать, что жизнь Тиберия была нужна этруску, пока наследники еще живы.
Общественное мнение Рима пролило свет на ситуацию. Не вызывало сомнений, кто из них главный. Тиберия считали удалившимся на Капри, чтобы скрываться там в компании астрологов и проводить время в бесчисленных оргиях,50 человеком же, ухватившим судьбу за хвост и пользующимся наибольшим влиянием, был Сеян. День его рождения праздновался публично, ему посвящались храмы и совершались возлияния, люди клялись судьбой Сеяна, так же как и судьбой Тиберия, он был в дружбе с сенатом и народом. Старик на Капри мог поздравить себя с тем, что с дальнего расстояния он может видеть перспективу, которой не имел в Риме. Самое отсутствие Тиберия ясно свидетельствовало о фактах, которые в противном случае могли быть незамеченными.
Были и другие тревожные приметы. Преторианцы находились всецело в распоряжении своего начальника. Хуже всего было то, что его влияние распространялось и на личное окружение Цезаря. Всякие действия и высказывания Цезаря тотчас доносились этруску, а у Тиберия не было возможности получать информацию об этруске. Агриппина содержалась на Пандатарии, Нерон — в Понтии, и, если бы слабый ручеек общения с внешним миром истощился, Тиберий мог бы стать таким же пленником, как и они.
Теперь задачей Сеяна стало разными способами — то ли дружеским отношением, то ли запугиванием — собрать вокруг себя партию, которая поддерживала Агриппину. Следующим шагом, если бы он успел это сделать, было бы переложить на Тиберия ответственность за действия против Агриппины и таким образом стать во главе коалиции партий, перед которыми Тиберий оказался бы в одиночестве.
Постороннему наблюдателю вполне могло показаться, что положение Тиберия слабее и опаснее, чем когда бы то ни было. Однако старик знал, что ему следует предпринять. И на Капри царили полные покой и тишина.
Выбор времени и удобного момента зависел от определенных событий. Критический момент мог наступить со смертью Агриппины и ее сыновей. Сам Тиберий стал заложником их жизни, ибо Сеян никогда не осмелился бы прямо выступить против него, если Тиберий мог вернуть их на свое место. Поэтому у Тиберия были все причины, чтобы не допустить самоубийства Агриппины.
Когда на Понтии скончался Нерон, начался первый этап опасной игры. Тиберий несколько издевательски предложил Сеяну взять в жены вдову Нерона. Она была его внучкой — дочерью его сына Друза. Тиберий решил оказать Сеяну честь и предложил консульскую должность в своей компании. Таким образом, Сеяна отослали в Рим, чтобы он занял должность от имени их обоих. Его влияние к этому времени было безгранично. Двери его дома осаждали просители, жаждавшие отметиться на стороне победителя. Он испытывал тот восторг всесилья, незнакомый Тиберию и к которому тот никогда не стремился. Люди обращались к нему как к коллеге Тиберия, и не только потому, что он был консулом. Один из способов уничтожить кота — перекормить его сметаной.
На Капри — тишина.
Однако там ум более великий, холодный и расчетливый, чем у этруска, словно вычислительная машина, уже начал свою сложную и тонкую работу. Тиберий на Капри раздумывал. Однако машина ни звуком не выдавала своей работы. В суетливом и говорливом Риме присутствовали надежда и страх, сомнения и уверенность, бешеная энергия и осторожные предположения, но над озаренными солнцем скалами и бирюзовыми водами Капри простерлась мертвая тишина.
События развивались неспешно. Следующий шаг, видимо, был сделан, когда через пять месяцев Тиберий отказался от консульской должности. Сеян вынужден был последовать за ним, и два суффекта стали их заместителями. Старик выдержал свой замысел до конца. Это должно было заронить в душу Сеяна хоть робкий проблеск сомнения, который вынуждает людей торопиться и выдать свои замыслы. В июле суффектом стал Луций Фульциний Трион, принадлежавший к партии Сеяна. В глазах других Тиберий мог быть безответственным и капризным, однако Сеян, кажется, был информирован лучше. Появились знамения, некоторые из которых, если это действительно так, могли быть подкинуты самим Тиберием. Тиберий, конечно, был мастером играть на нервах, что всегда было высшим искусством в Риме.
Хотя Сеян теперь был свободен от консульских полномочий, он не спешил на Капри. Тиберий сказал, что сам направляется в Рим. Затем он возвысил Сеяна до поста проконсула — одной из главных должностей принципата. Поощрив его таким образом, он ловко нанес удар, назначив отправлять жреческие полномочия одновременно Сеяна и Гая Цезаря. Это возложение имперской мантии на Гая, смягчившее сторонников Агриппины, умерило пыл партии этруска и было столь многозначительным, что Сеян забеспокоился. Он просил разрешения вернуться на Капри, навестить свою больную невесту. Тиберий туманно отвечал, что все они собираются посетить Рим. Вскоре после этого в сенат поступило послание, в котором Сеян упоминался без всех его титулов, а также было запрещено оказывать божеские почести живым людям.
Такой удар вернул Сеяна к действительности. Он понял, что, если не рискнуть сейчас, завтра может стать поздно. Все было готово. По приезде в Рим Тиберия следовало убить. Старик на Капри, должно быть, ухмылялся. Он и не собирался в Рим!
Это было еще не все. Главный ход он приберег напоследок. Лишь одна ступень отделяла Сеяна от трона Цезаря — отсутствие трибунской власти, второй основной власти в империи. И здесь Сеян промахнулся, а Тиберий наконец поймал на крючок и подсек долгожданную рыбку.
Однако Тиберий так и не появился перед этруском, чтобы преподнести ему последний подарок. Все это время он направлял послания в сенат или непосредственно Сеяну с самыми противоречивыми известиями. Он здоров, он нездоров, никогда не чувствовал себя лучше, он на краю могилы — ему удалось сбить всех с толку, скрывая свои замыслы и маскируя свои действия. Число людей, ожидавших, чем кончится дело, росло. Сеян не мог решиться отступить и не мог решиться на последний шаг. Многие стали избегать встречи с ним или оставаться с ним наедине.
И вот 1 октября Фульциния Триона сменил суффект Публий Меммий Регул, который не был на стороне этруска. Тиберий все еще оставался на Капри.
События стали разворачиваться, когда однажды утром Сеян пришел в здание сената и встретил там Невия Сертория Макрона. Он хорошо знал Макрона, одного из офицеров преторианской гвардии на Капри, приписанного к имперскому дому. Он, должно быть, очень удивился. Это появление требовало по меньшей мере объяснения. Макрон был воплощенная вежливость и почтительность. Он, улыбаясь, что-то шептал на ухо Сеяну. Он находился в Риме по делам — для наблюдения за получением инвеституры с трибунскими полномочиями. Этруск понял. Настал великий миг! Довольный, едва веря в свою удачу, пока сам не удостоверится, он помчался в сенат.
Сенат заседал в храме Аполлона на Палатине. Все были вызваны в обязательном порядке. Макрон вручил послание от Цезаря консулу Регулу и вышел. С посланием в руках консул поднялся с места, сенаторы, сидя в напряженном ожидании, не знали, что ждет их в этом послании. Возможно, этруск получил долгожданное назначение? Да, несомненно! Или… Но альтернатива невозможна! Сеян не мог пасть именно теперь. Если дойдет до борьбы, Тиберий сам потерпит поражение! Регул развернул свиток с посланием Тиберия. Не более других знал он, что оно в себе заключает. Он начал читать… Это был пространный документ, написанный, очевидно, весьма витиевато старым человеком, однако опытным дипломатом. После первых слов многие сенаторы стали заискивающе улыбаться в сторону могущественного этруска. Они уже спешили поздравлять. И вдруг будто набежавшая туча стерла улыбки с лиц. А пока зачитывают это письмо, давайте обратимся к Макрону.
Накануне под мирным солнцем Капри Цезарь тихо отдавал приказ Макрону. Офицер стоял, глядя на угрюмого старца… Тиберий назначал Макрона префектом преторианской гвардии вместо Сеяна и отдавал ему определенные указания — столь же определенные, как Шерлок Холмс мог отдавать помощнику, и почти столь же таинственные. Чего не знал даже Макрон — это что всепроникающее влияние Цезаря простирается в самые отдаленные уголки и щели. Сатрий Секунд, одно из доверенных лиц Сеяна, после долгих колебаний и сомнений выдал его секрет Антонии, та передала его Тиберию, и Тиберий все знал.
Макрон, вооруженный его наставлениями, отправился или занять, или потерять новое назначение, которым его облагодетельствовал Цезарь. Он прибыл в Рим в полночь. Первое его свидание было с консулом Регулом. Дожидаясь, пока Регул сменит на посту Триона, Тиберий хотел быть уверен, что в Риме на должности консул, обладающий силой и властью, а также лояльностью, чтобы исполнить приказ Цезаря. Ему следовало созвать заседание сената рано утром в храме Аполлона. Ранний час был особенно важен. Регул в точности исполнил приказание, не зная, что за этим кроется. Были разосланы повестки участникам собрания. Следующая встреча состоялась с Грецином Лаконом, начальником караульной когорты, было условлено, что подступы к храму Аполлона будут охраняться караульными частями. Преторианцы были полностью отстранены от участия в операции.
Все произошло накануне ночью. Вряд ли Макрон мог сомкнуть глаза с тех пор, как он ночью посетил Регула, и до встречи на следующее утро с Сеяном. Покинув заседание сената, он не сомневался, что ему не стоит переодеваться после прибытия с Капри. У него едва было время привести себя в порядок. Наконец, в промежутке между посещением Сеяном сената и вручением сообщения, он исполнил последнюю часть поручения, и притом самую опасную.
Для искушенного и предусмотрительного Тиберия характерно, что он наказал Макрону проверить преторианское окружение Сеяна до вручения послания. Если бы они не приняли Макрона, все было бы потеряно — однако в этом случае послание не было бы вручено, и престиж Тиберия не понес бы урона в результате неверного шага. Макрон выполнил поручение, вручив денежные вознаграждения преторианцам в знак признания их заслуг. Это был критический момент. Все, что было сделано ранее и что намечалось сделать потом, в полной мере зависело от того, как преторианцы примут Макрона. Однако расчет Тиберия оказался верным. В отсутствие их начальника имя Цезаря сохраняло свою силу. Гвардия приняла Макрона без возражений. Тогда он приказал им возвращаться в лагерь. Затем, видя, что армейские военные заняли свои места, он вошел в здание храма, вручил послание, снова вышел и, переговорив с Лаконом, последовал за преторианцами.
Сеян остался один в здании сената.
Чтение послания продолжалось, в то время как преторианцы неспешно удалялись. К тому времени, как они отошли на достаточное расстояние, чтобы не услышать призыва начальника, послание Тиберия от экивоков перешло к делу. В нем выражалось требование принять меры против Сеяна и его сообщников.
Люди — и среди них Сеян — застыли словно пораженные громом. Консул ничего не мог поделать. Он пригласил Сеяна выйти вперед. Этруск должен был встать и осмыслить ситуацию. Он настолько утратил привычку подчиняться командам, что в каком-то ступоре переспросил: «Ты обращаешься ко мне?» Наконец он встал, а вошедший Греции Лакон занял место позади него.
Консул не стал проводить обычной процедуры опроса каждого сенатора по отдельности, не стал он и проводить голосование о смертном приговоре. Он огласил постановление о взятии под стражу, передал ведение собрания одному из сенаторов и, получив одобрение собравшихся, объявил дело законченным. Он и другие магистраты вывели Сеяна из здания, после чего Лакон препроводил его в тюрьму. Заседание сената поспешно завершилось, и каждый сенатор с тревогой ожидал, какой удар грома последует за ним.
Ничего не случилось. Лагерь преторианцев под командованием Макрона оставался закрытым. Лишь толпы с ликованием бродили по улицам, сбрасывая статуи Сеяна и радуясь его падению. Только когда сенаторы окончательно убедились в том, что в ближайшее время земля не разверзнется и не поглотит их, они покинули свои дома и собрались вновь. Было проведено заседание, на котором Сеян был приговорен к смертной казни. Приговор был сразу же приведен в исполнение. Еще утром Сеян был полон намерений стать равным и соперничать с Цезарем. К полуночи его тело сволокли с Гемонийской лестницы и сбросили в Тибр.
Вместе с ним казнили его семью. Дочь Сеяна, этого гордого и безжалостного человека, была невинная молодая девушка, которая вырывалась, когда ее тащили незнакомые зловещие люди. В чем бы она ни была виновна, кричала она, она не заслуживает большего, чем наказание плетьми. Она не знала мира, в котором внезапно оказалась. Они заколебались, поскольку в Риме существовал закон, в соответствии с которым девственницу нельзя подвергать высшей мере наказания. Однако они не могли рисковать. На выручку пришел палач, и дочь Сеяна была задушена и сброшена с Гемонийской лестницы.51 Немезида и фурии уже отправились в Рим.
Цезарь на Капри не питал иллюзий. Он, как никто другой, знал, насколько далеко зашло все дело. Флот стоял наготове, чтобы отвезти его на восток в случае, если операция пойдет не так. Он стоял на вершине самой высокой скалы и ждал известий. Когда, наконец, ему просигналили, что все прошло успешно, он вернулся домой, и корабли были отпущены.
Некоторые из сторонников Сеяна выдавали сообщников и свидетельствовали против них, но их это не спасло, поскольку те, кого они выдавали, показывали, в свою очередь, на них самих. Тиберий направил все обвинения на рассмотрение сената как в высший уголовный суд.
Обвинения были серьезными. Публий Вителлий, префект военной казны, был обвинен в том, что использовал казенные средства для поддержания действий Сеяна. Секст Пакониан был избран Сеяном для организации убийства Гая Цезаря. По меньшей мере трое друзей Тиберия были замешаны в этом деле. Но из двадцати обвиняемых четверть были оправданы. Некоторые из обвиняемых сами защищали себя на суде, причем говорили довольно свободно. Другие, чтобы избежать конфискации имущества и сохранить его для детей, кончали самоубийством, не дожидаясь суда, поскольку если всех осужденных ждала конфискация имущества, то людей, добровольно ушедших из жизни, она не касалась.52
Расследование деяний Сеяна и его сообщников было длительным и сложным. Многие из обвиняемых все это время находились под стражей. Тиберий настаивал на том, чтобы все выяснилось как можно подробнее. Он требовал, чтобы сенат пунктуально собирался и заседал определенное количество часов. Он передал им всю информацию, бывшую в его распоряжении. Приговоры отсылались в сенат. Что бы сенат ни хотел или считал нужным изменить, у него не было никакого выбора. По иронии истории памфлет Тацита дошел до нас в очень плохом состоянии, не сохранив дело, над которым так тщательно работал Тиберий. Он, видимо, состоял из нескольких томов документов и хранился в имперском архиве. Многие обвинения против Тиберия, содержащиеся в следственном деле, историки затем изложили как факты его биографии, хотя и черпали информацию из тех нападок, которым Тиберий постоянно подвергался со стороны своих врагов.
Однако он еще не совсем отделался от этруска.
События, которые последовали за падением Сеяна, сами по себе были достаточны, чтобы воздействовать на семидесятидвухлетнего человека. Ощущение опасности, неприятности, умственное и нервное напряжение, тяжесть момента, когда все висело на волоске, были способны и крепкого человека поставить на грань нервного истощения. И теперь ко всему прочему пришла новость столь ужасная, что все деяния Сеяна в сравнении с ней казались безделицей.
Месть Сеяна была особенно изощренной и удачной. Он развелся с Апикатой, чтобы жениться на Ливилле. Его первая жена, видимо не пережив разлуки, покончила с собой. Но перед смертью, будучи в курсе всех тайн своего мужа, она отомстила ему, написав письмо Тиберию.
Послание Апикаты открыло истину: сын Тиберия Друз не умер естественной смертью. Он был отравлен Сеяном и Ливиллой.
Глава 12
СТАРИК С КАПРИ
Никто не писал, что за внешним спокойствием Тиберий скрывал состояние ума и души. Никто не рассказал нам о бессонных ночах от унижения и боли, о том, как старый человек бродил по своим покоям, полный страшных мыслей и ужасающих сомнений. Если он не испытывал подобных чувств, он не был похож на остальных людей, ибо главное заключалось в том, что его провели как мальчишку. Ему было известно больше, чем нам. Он мог оглянуться назад, тогда как у нас нет возможности точно определить, насколько он заблуждался, будучи втянутым в действия, о которых мы теперь можем лишь гадать. И это сделал человек, которому он доверился и оказывал предпочтение, человек, которого в глубине души он презирал!
Есть ситуации столь горькие, столь широко и глубоко охватывающие существо человека, что он становится полностью ими отравлен, и тогда он совершенно меняется и, кажется, утрачивает всякую связь с человеческим сообществом. Нет ничего горше, чем испытать предательство. Человек устроен так, что глубочайшая душевная мука для него — знать, что друг, которому он доверял, использовал это доверие против него, принял его сердечное отношение и растоптал его. Еще обиднее, когда предателем оказывается не один, а все. Нет ничего разрушительнее, чем видеть, как все тебе улыбаются и каждая улыбка неискренна, здороваться с каждым и знать, что каждая протянутая рука вероломна. Но как и боль физическая, душевная боль подвластна закону возвращения в ослабленном виде. Последние всплески больше не приносят страданий. Они просто отравляют и парализуют душу, и то, что поначалу приносило страдание, теперь действует иначе. Человек привыкает к одиночеству, к ужасной изоляции от источника человеческой любви и беззаботного доверия; он привыкает к состоянию одиночества, закрываясь в раковине индивидуализма, и научается наблюдать, оценивать и точно определять то направление, откуда исходит предательство; ставить ему точный диагноз, как опытный врач определяет болезнь при невыявленных еще (невидимых обычному глазу) симптомах, и точно наносить удар без спешки или промедления. Однако эта способность означает утрату всех присущих человеку качеств и способности быть счастливым. Человек в таких обстоятельствах и столь изменившийся — вроде бы уже и не человек вовсе в том смысле, как мы понимаем человеческую природу, он становится словно одержимым демоническим духом.
Слабый человек погибает, возможно от сердечного удара, как мы это называем, или начинает пить, и мы находим его в темных притонах, рассказывающим всем о своих несчастьях в дикой надежде найти кого-то, кто его поймет и прольет на него, возможно случайно, бальзам человеческого сострадания и мимолетной симпатии. Однако сильный человек стоит крепко и становится одержим демоном. Так и Тиберий… Если мы взглянем на его изображение в старости, мы сможем в этом убедиться. Глубокие морщины бороздят его черты, и причина этого не только в приносившей ему страдания диспепсии. В случае с Тиберием это были внутренние, невидимые слезы, проливаемые без всякой надежды. Он утирал их и вновь смотрел на мир с намерением обрести равновесие. Это был непроницаемый, не впускающий в себя взор, который видел все, но не показывал, что он видит.
Откровение, последовавшее за смертью Сеяна, кажется, наделило Тиберия такими демоническими качествами. Всегда опасно, когда человек меняется к худшему. Казалось, все люди и все вещи сговорились, чтобы сокрушить владыку мира, и владыка мира сидел спиной к стене, отбиваясь и нанося удары всем людям и всему на свете. Причудливая логика заставляет одних людей становиться тиранами, а других — их жертвами. Что-то ненормальное есть во всем этом.
Никто не знает в точности судьбы Ливиллы. Одни говорят, она была казнена, другие — что покончила с собой, третьи — что ее отдали Антонии, которая позаботилась о том, чтобы Ливилла тихонько исчезла. Тиберий был полон решимости пролить свет на все это дело. Но теперь это был не прежний Тиберий. Это был новый и ужасающий человек с внешностью Тиберия, излучавший неутомимую и беспокойную энергию.
Правду вырывали под пытками. Дни напролет он был занят дознанием. Он настолько был поглощен этим, что появилась история, будто, когда один из его друзей с Родоса, сердечно приглашенный им посетить Рим, прибыл его навестить, Тиберий, совершенно забыв о приглашении, велел его допросить, полагая, что это еще один свидетель, показания которого следует проверить.53 Сохранилось много рассказов о его состоянии ума в это время.54
Когда не дожил до казни некий Карнул, Тиберий заметил: «Карнул ускользнул от меня». Другому, который после пыток просил о скорой смерти, он отвечал: «Я еще не простил тебя». Это был не тот Тиберий, которого знали прежде. Он не выказывал ни малейшего признака упадка сил или умственного расстройства. Никогда не был он так активен и деятелен. Однако эти нечеловеческие силы, казалось, придавала ему странная демоническая энергия. У него хватило мудрости немедленно пресечь попытку одного из солдат дать информацию и постановить за правило, что ни один человек, связанный с армией, не может заниматься доносительством.
Все документы он направлял в сенат. Даже наветы на него лично и обвинения в его адрес были обнародованы. Ему не важно было, что именно обнародуется: все, с чем он сталкивался, должно было выйти наружу. Фульциний Трион (которому до сих пор удавалось избежать суда, но совесть которого была неспокойна) был столь встревожен таким поворотом событий, что покончил с собой. Его родственники нашли его завещание с ужасающими поношениями Тиберия, которого он называл «умалишенным старикашкой». Они пытались скрыть завещание, однако «умалишенный старик» потребовал, чтобы оно было зачитано вслух без купюр. Никто не мог понять его мотивов, а он не давал себе труда их объяснять.
Тем временем сенат выносил смертные приговоры простым исполнителям. Главарей — Сеяна и Ливиллы — уже не было в живых. Тиберий искал повод для удовлетворения и нашел его, пересматривая дела Агриппины и ее сына Друза.
Тиберий уже знал, что сенат сам планировал привлечь к суду и казнить Агриппину и ее сыновей. Теперь он знал всю правду. Но хотя правда стала известна, ничего нельзя было исправить. Тиберий не мог высвободиться из порочного круга. Он не мог на этом этапе принести извинения Агриппине и Друзу и вернуть им прежнее положение. Он не мог так поступить ни на каком этапе. Искусство этруска в том и заключалось, что он сумел настроить их против Тиберия. Не столь уж справедливо было считать Агриппину источником всей цепи событий. Те, кто ее подстрекал, были виноваты больше, но они были теперь недосягаемы.
Тиберий не мог изменить или попытаться исправить то чувство ненависти, которое питали к нему дети Юлии. То, что Сеян действовал в собственных интересах, дела не меняло. Он, впрочем, мог придать этому делу огласку. Он хотел, чтобы свет увидел всю необоснованную и непримиримую ненависть, кипевшую в душах детей Юлии, утверждавших, что именно он преследовал их, хотя он лишь защищался от обвинений в свой адрес. А возможно, что простое совпадение имен вызывало болезненный интерес Тиберия. Один Друз отплатил за другого Друза.
Здесь могло быть некое странное удовлетворение; ведь когда люди подавлены свыше всякой меры, они находят облегчение в необычном — поверхностное сходство, случайные ассоциации занимают место реального сходства и утраченной подлинности. Сенат был в смятении, когда Тиберий очень подробно, со всеми деталями, с каким-то злорадным удовлетворением сообщил о смерти Друза, сына Германика и Агриппины.
Друз слабел с каждым днем. В течение девяти дней он грыз свой матрас. Тиберий презрительно называл его слабаком и предателем. Он представил ежедневные записи охранников, наблюдавших за кончиной Друза. Как в романе Золя, в них описывалась поминутно каждая стадия смерти от голода в его тюрьме, первоначальные ярость и ужас заключенного, его проклятия и оскорбления в адрес Тиберия. Перечислялись все грехи, в которых его обвиняли друзья Юлии, рассказывалось и что стражники ему отвечали и как они его избивали, когда он старался выломать прутья своей камеры, как, утратив надежду, он изощренно и тщательно призывал проклятия на голову Тиберия, молясь о том, чтобы он был проклят в памяти потомков, поскольку он убил свою невестку (Ливиллу), сына своего брата (Германика) и своих внуков (сыновей Агриппины), утопив свой дом в крови. Сенат в панике покинул собрание, ужаснувшись этой истории. Возможно, старик сочинил это, но он брал на себя ответственность за это преступление, и не нам отвергать его желание этой ответственности. Но здесь была и практическая польза. В послании подчеркивалось, и теперь сенат знал об этом, что Цезарь способен одержать победу над любым человеком, что он готов мстить, отвечать ударом на удар, что для него нет ничего невозможного и он может удвоить любую ставку. Более того, это отрезвило всех претендентов и лженаследников. Во всяком случае, сенат теперь знал, что Друз мертв.
Агриппина была более крепким орешком. Не побежденная до последнего момента, она отомстила, отказавшись от пищи и уморив себя голодом в знак того, что Тиберий не одержал над ней победу.55
Однако все это не приносило реального удовлетворения. Месть, как и все наркотики, не приносит постоянного покоя или насыщения, это сизифов труд, который нельзя завершить. Она разжигает аппетит вместо того, чтобы насыщать. Тиберий устал. Он был достаточно умен, чтобы признать правду, и не мог вместить свое поведение в нормы морали. Некоторое время после падения Сеяна воспоминания были для него невыносимы, даже месть была утомительна и не приносила удовлетворения. Он отдал приказ казнить всех, находившихся под стражей в связи с делом Сеяна. В списке оказалось двадцать человек.
Он потерял все: у него не осталось ничего, кроме победы. И победа не стоила того, что он потерял на пути к ее достижению.
После самой опасной точки этого кризиса дела медленно стали входить в норму. За ударом против его врагов последовало другое связанное с этим событие. Среди законов Гая Юлия был закон о прекращении деятельности тех финансовых сил, что ослабляли политические институты старой республики. Обращаемый капитал, которым они владели, был ограничен постановлением, в соответствии с которым определенная часть их собственности должна была быть инвестирована в италийские земли. Этими ограничениями он предотвращал существование громадных фондов денежных средств и возможность легкого предоставления кредита, который финансировал многочисленные политические перевороты с целью получения выгоды. Сам диктатор Цезарь предполагал оказаться последним человеком, сумевшим свергнуть правительство таким способом.
Ввиду деятельности сенатской партии во время правления Тиберия не следует слишком удивляться тому, что этот закон соблюдался весьма приблизительно. Позиция, занятая теперь Тиберием, предполагала строгое соблюдение этого закона. Он не мог рисковать возможными последствиями его. Однако ситуация быстро менялась. После падения Сеяна и смерти Агриппины ужасный старик с Капри уже не был смешной фигурой, которая покорно сносит оскорбления сената и которую этруск обводил вокруг пальца.
Доносчики принялись за работу. Первые обвинения пренебрегавших этим законом произвели переполох. Дела были заслушаны в сенате. Если бы информацию систематизировали, многие из нарушителей должны были сесть на скамью подсудимых, и, кроме того, это могло привести к финансовому кризису. Сенат перенес дела в имперский суд, предоставив Тиберию самому решать эти вопросы.
Он с удовольствием за это взялся, и у него уже был готов план, одобренный не всеми даже среди его друзей. Его постоянный советник Марк Кокцей Нерва возражал весьма активно. Тем не менее план был приведен в исполнение. Тиберий объявил сенаторам, что закон должен быть исполнен, однако он дает на его применение восемнадцать месяцев, в течение которых все счета должны быть приведены в порядок.
Симпатии Нервы56 были на стороне республиканской олигархии, его ничуть не заботил имперский суд, хотя он вполне лояльно служил там долгие годы. Он, вероятно, устал от напряжения моральных катаклизмов последних лет — эта усталость выразилась в том, что он подал в отставку и удалился от дел. Он решил уйти из жизни. Тиберий был весьма озабочен. Он сидел у постели Нервы, убеждая его, что он сам разделяет те же чувства, и рассуждая о том, как его кончина отразится на репутации Цезаря в глазах общественности, если избранный им советник выразит несогласие с его финансовой политикой, уйдя из жизни. Однако Нерва не поддался на уговоры. Он отказался от пищи и умер.
Разразился финансовый кризис. Процесс реорганизации, вызванный ужесточением закона Юлия, включал возвращение займов, должники вынуждены были продавать свои поместья, чтобы исполнить свои обязательства, цены на землю упали настолько, что многие разорились. Тиберий увеличил кредитный фонд сената до ста миллионов сестерциев, из него он мог давать ссуду всем дебиторам, что были в состоянии представить залог. План, насколько можно видеть, сработал — финансовая ситуация была приведена в соответствие с законом без дальнейшей катастрофы.
Борьба с Тиберием отныне практически прекратилась. Тайная война, что велась против него в течение двадцати лет, пришла к концу с заключением под стражу главных сенатских оппонентов, а ее завершение было отмечено административными мерами, предотвращавшими скопление свободного капитала, который мог финансировать эту войну.
Но когда мы отмечаем уровень, до которого дошла в дальнейшем слабость римского мира, и задумываемся, в какой степени экономическое процветание зависело от наличия свободного капитала, мы спрашиваем, не в это ли время было положено начало спада. Очевидно, что определенная неповоротливость стала проявляться в экономической деятельности империи, благосостояние и производство более не развивались с прежней активностью, и, когда подошел кризис, у римской цивилизации недоставало ресурсов, чтобы его встретить.
Беда Тиберия коренилась в самом его успехе. Казалось трудным восстановить достоинство сенаторов, ставших унизительно подобострастными. Они никак не могли в достаточной мере выразить восхищение сверхчеловеческими заслугами и доблестями Цезаря, а также перестать каяться в собственном ничтожестве. Тень улыбки блуждала на лице старца — улыбки, возможно свидетельствующей о своеобразном чувстве юмора и предвещающей возвращение к норме. Добыча, брошенная к его ногам, была существенной. Тогоний Галл внес предложение, чтобы сами сенаторы выступали его охранниками и защитниками, когда он оказывает им честь своим посещением: юмор ситуации расколол твердую оболочку суровости старика. Он обсудил предложение с особой тщательностью и наконец решил, что план этот слишком комичен, чтобы осуществить его на практике. Более того, он мог привести к некоторым нежелательным инцидентам. Юний Галлион предложил, чтобы ветераны преторианцев по занимаемой должности были автоматически причисляемы к всадническому сословию. Тиберий ответил исключением его из состава сената, заметив, что здесь, очевидно, завелся новый Сеян, пытающийся сговориться за его спиной с охраной. Посреди всех этих событий голос лишь одного человека прозвучал естественно. Марк Теренций, обвиненный в дружбе с Сеяном, защищался, как и подобает мужчине. Он произнес слова, полные здравого смысла и в этих обстоятельствах прозвучавшие изумительным парадоксом. «Да, — говорил он, — я был другом Сеяна, но его друзьями были и вы, и Цезарь… Кто я такой, чтобы разоблачать качества помощника Цезаря? Я преклонялся, как и вы все. В то время было честью появиться в прихожей Сеяна или показаться перед его слугами. Пусть будут наказаны заговорщики и конспираторы, однако что касается дружбы с Сеяном, то же самое обвинение можно предъявить и вам, и самому Цезарю».
Тиберию, видимо, речь понравилась, поскольку он заявил, что «все быльем поросло». Обвинители Теренция были наказаны, а сам Теренций вышел из зала суда свободным человеком.57
Однако Тиберий становился все более одиноким. На этом зыбком фоне повсеместных измен, кажется, лишь одно оставалось постоянным — преданность преторианской гвардии. Если на образованных, состоятельных и одаренных нельзя было положиться, то основные человеческие инстинкты все еще оставались надежными. Необразованные простые люди из беднейших слоев все еще отрабатывали свое содержание, уважая руку, которая их кормит, и подчиняясь правилам. И они сохранили чувство обязанности и служебного долга в отношении сурового человека, который никогда им не льстил и не заискивал перед ними. Их еще не отметили как следует, но в нужное время их вознаградят.
Тишина снизошла на Капри.
Однако далеко, на другом конце римского мира разворачивались другие события. То, что случилось в Палестине, кажется лишь слабой искрой в сравнении с ярким блеском происходящего в Риме — как если бы среди извержения вулкана кто-то зажег светильник. Однако в течение последующих девятнадцати столетий вулкан затух и превратился в струйку дыма, поднимающегося из жерла, а светильник возгорался все ярче, пока не затмил свет утра.
Незаметный иудейский пророк Иешуа (единоверцев которого Тиберий изгнал из Рима) начал свою деятельность в тот год, когда была взята под стражу Агриппина, за год до падения Сеяна; в том году, когда встретили смерть Агриппина и Друз,58 он вошел в Иерусалим с проповедью о Царстве Божием, с еще более знаменитым учением: «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас», а также «не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться… Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам». И толпа следовала за светочем.
Прокуратор, которого традиция называет Понтием Пилатом, принял депутацию жрецов и старейшин, которые привели к нему этого человека. Они хотели его казнить в соответствии с римским законом. Понтий, не предполагая, что в его доме разворачивается величайшая драма человечества и что он предназначен исполнять в ней незавидную роль, высмеял это предложение. Как должен был поступить римский прокуратор с переругавшимися сектантами-иудеями? Они настаивали, что этот человек бунтовщик и проповедует мятеж — говорит о Царстве Божием, над которым не властен Цезарь. Понтий в те дни, когда в своих темницах умирали Агриппина и Друз, а доносчики только и ждали случая сообщить об оскорблении величества, должен был крепко задуматься. Такое обвинение, несомненно, меняло дело…
Он расспросил незнакомца. Действительно ли он утверждает, что он царь? «Не этого мира», — отвечал Иешуа. «Какой же тогда царь?» — допытывался Понтий. «Этот мир — ваш, а не мой, — отвечал Иешуа, а потом он добавил: — Я пришел в мир возвестить истину. Знающие истину знают и обо мне». Именно тогда Понтий обрел бессмертие, спросив: «Что есть истина?» Он не получил ответа, ибо истину нельзя выразить словами.
Понтий был озадачен. Очевидно, что этот иудей не призывал ни к какому мятежу, однако первосвященники настаивали на том, что Иешуа объявляет себя равным Богу и они не хотят слышать о его освобождении. Понтий, встревоженный, вновь стал допрашивать Иешуа. Каково его происхождение? Иешуа не отвечал, пусть Понтий сам судит об этом. Понтий заметил, что, как прокуратор, он волен казнить или миловать. Ответ Иешуа был следующим: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Понтия ответ полностью удовлетворил, и он знал, как ему следует поступить, однако первосвященники не дали ему этого сделать.
Они настаивали на том, что всякий, кто объявил себя царем, посягает на власть Цезаря… Они своего добились.
История эта хорошо известна: деяния Иешуа, предательство его и смерть, его вознесение и его слава основателя религиозного сообщества, которое, все разрастаясь, несмотря на сопротивление и соперничество, стало равным славе империи, а затем и превзошло ее границы, распространились в других странах, даже и никогда не знавших законов республики или легионов Цезаря. Не столь широко известны параллели между этими двумя историями, одновременно происходившими на Западе и на Востоке. В течение трех-четырех лет обе достигли своего пика и определили последующие судьбы мира.
Сеян и Иуда Искариот жили в одном мире. Юго-восточный ветер мог донести до Сеяна в Рим тот же воздух, который вдыхал Иуда. Обращаясь к той и другой истории, можно заметить, как они обе бросают свет друг на друга. История Тиберия покоилась на моральных основаниях, очень скоро устаревавших, он все еще действовал и мыслил как человек, привыкший к узким рамкам местного сообщества, и не мог справиться с волнами, бушевавшими вокруг трона Цезаря…
Однако история Иешуа из Галилеи управлялась принципами, принадлежавшими новому миру, он готов был обратиться ко всему человечеству и возбудить в людях силы, способные ответить на этот призыв. Ибо господин Иуды знал иные тайны, обладал природой и опытом, недоступными господину Сеяна. Кроме того, их конечная цель и непосредственные обязанности также отличались друг от друга. Что касается Иуды, мы храним загадочное молчание. Иуда так и не был прощен. Его преступление тоже было ужасно и неоспоримо. Однако ему было дозволено стать более успешным. Иуде не пришлось состязаться с такими контрзаговорами, которые обошли и превзошли Сеяна, он никогда не был настигнут ураганом мстительности со стороны других, его преступление не оставило столь глубоко проникающего в душу яда, который иссушал сердце и разъедал душу Тиберия. Галилеянин не выказал ни единого признака душевной печали, он познал этот яд, признал его, переработал и уничтожил, наподобие врача, который излечил себя от укуса змеи, приняв противоядие; и он встретил смерть красноречивым молчанием, тревожным обращением к другим, но, в сущности, полностью уверенным в своей принадлежности к миру красоты и живой жизни. Он сообщался с этим миром иным способом. Его внутренние ресурсы не истощились при виде отсутствия гуманности других людей. Его не коснулось их зло. Ему ведом был способ, как нейтрализовать его воздействие на мир и на него самого. Но эти вещи были вне поля зрения Тиберия.
Закат.
Оставалось немногое, лишь смотреть на спокойное море вокруг Капри и на досуге размышлять о будущем. У него не было особенных ожиданий на этот счет. Он видел, что семья постепенно тает, а то, что осталось, не могло внушать больших надежд, и у него их и не было. Однажды он воскликнул: «Пусть небо падет на землю, когда я уйду!» Однако привычка и характер не позволяли ему долго об этом думать. Почти бессознательно перебирал он то, что осталось, расставляя оставшихся членов семьи в нужном порядке.
Своего племянника Клавдия он, кажется, сразу не принимал в расчет. Клавдий был полоумным. Тиберий так же недооценил Клавдия, как некогда Август — самого Тиберия. Судьбой Клавдию было предназначено занять место Цезарей, и он ни в коем случае не был самым слабым или самым плохим из этого дома. Однако предубеждение против него возникло не на пустом месте. Август был отчасти прав, так же частично прав был и Тиберий.
Был также его внук Гемелл, сын Друза. Возможно, что Тиберий предпочел бы его. Он не был ни сильным, ни умным, и более того, его происхождение вызывало подозрения деда. Он родился в те ненавистные и ужасные времена, когда Сеян увивался около Ливиллы. Были вполне небезосновательные сомнения в том, что он окажется на месте, где не сможет справляться со своими обязанностями. С другой стороны, еще более неразумным было бы, окажись он в зависимости от своих соперников. Тиберий пришел к решению, чтобы мальчик сам всего добивался. Или он утонет, или выплывет. Скорее всего, первое. С этим было ясно.
Самым вероятным кандидатом оставался Гай. Он был единственным оставшимся в живых сыном Германика. Если бы враги Тиберия оказались правы, он моментально отослал бы Гая разделить судьбу его матери и братьев. Он этого не сделал, еще раз выказав свое беспристрастие, которое всегда отличало его характер и поступки. Он не любил Гая. Если мальчик и был самым крепким из выживших, он выжил в атмосфере сомнений и подозрительности, где не могло выжить ничто искреннее. С изворотливостью некоего примитивного организма он принял защитную окраску и зарылся в землю. Страшный взгляд старика, зорко подмечавший все окружающее, так и не обнаружил ничего вызывающего опасения в отношении Гая. Эта маленькая змея тщательно пряталась и маскировалась.
Поразительный результат борьбы за выживание, если выжившим оказался — этот! Однако так оно и вышло; и это наилучшим образом доказывает, что цену победы определяет способ состязания. Итак, Гай должен был оказаться плодом всего содеянного. Поразительная странность!
Тиберий составил завещание. Ему было семьдесят шесть лет. Гай и Гемелл должны были совместно стать преемниками. Рим, обуянный чисто романтическими представлениями о том, что Германик принадлежал золотому веку, а теперь его сын вновь вернет золотой век, был счастлив. Таковы помрачительные фантазии людей. Чем в действительности был так хорош Германик? Своей страстью к декоративности, наполнявшей сердца людей искренними предпочтениями внешнего — в сущности, показного — реальному; они всегда предпочитали истинному золоту золото сусальное. Если у философов не было причин оспаривать этот выбор, то моралисты нашли для этого основания.
Макрон наблюдал игру волн в вечернем свете. Завещание Тиберия практически означало, что преемником становится Гай — Гемелла не стоило брать в расчет. Макрон готов был прибрать Гая к рукам. Его жена заботилась о том, чтобы Гай не скучал. Все это полностью одобрял старик.
«Ты прощаешься с закатом, чтобы прислуживать восходящему солнцу», — сказал он. Это была насмешка; но Макрона это не заботило.
С чем бы ни столкнулся Тиберий в своей частной жизни, это мало изменило его как правителя. Могло быть и так, как это бывало и с другими людьми, что своя личная жизнь, надежды, опасения, амбиции и пристрастия, страдания, триумфы гораздо в меньшей степени волновали его, чем официальная жизнь, дело управления, где он более чувствовал себя самим собой. Первая, во всяком случае, сопровождалась сомнениями и нестабильностью, она менялась, варьировалась, ползла и замирала, представляя собой поразительный контраст с уравновешенной и уверенной его личностью как государственного деятеля. Он решительно отказался от титула отца отечества. Столь же решительно оставил он при себе гвардию, всегда готовый столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Через год после составления его завещания случился большой пожар на Авентине в Риме, в котором сильно пострадали бедные кварталы. Этот старик, в интересах империи не колеблясь потопивший в крови своих политических врагов, пришел на помощь пострадавшим. Из своей кропотливо собранной с помощью экономии казны он выделил еще сто миллионов сестерциев.
Довольно любопытно, что, когда пришло время и стало ясно, что дни Тиберия сочтены, были и люди, которые без восторга ожидали его ухода. Мысли, витавшие в наиболее дальновидных умах, высказал Луций Аррунций. Он был одним из обвиняемых на суде, в котором слушалось дело Альбуциллы, жены Сатрия Секунда. Сенат счел суд неудовлетворительным. Представленные на его рассмотрение документы не были рассмотрены и одобрены Тиберием, и сенаторы сомневались в их подлинности. Полагали, что Макрон представил их в обход утверждения Тиберием… Аррунцию это надоело, и он решил освободиться от заключенных в них обвинений. Перед тем как уйти со сцены, он обратился к друзьям. Он выразил свои чувства безнадежности в отношении будущего. Вряд ли можно ожидать лучшего. Он полагал, что Тиберия развратило обладание верховной властью, и вразрез со своим характером он стал тираном. Это, разумеется, его личное мнение. Тиберий, возможно, смотрит на вещи иначе. Однако Аррунций был недалек от истины, заметив, что моральный стресс, испытанный Тиберием, скажется и на Гае. Он предпочитает не испытывать на себе несчастий тех дней, когда кресло Цезаря займет человек худший и более слабый. На это, разумеется, Тиберий мог ответить, что им следовало задуматься об этом раньше.
Аррунций был не так уж не прав, и его слова в определенном смысле стали вердиктом правлению Тиберия со стороны наиболее дальновидных людей в сенате. Они предпочитали следовать прежним курсом и довольствоваться тем, что есть.
Состояние здоровья Тиберия ухудшалось. Он всегда был крепким человеком, не нуждался в лекарях, и даже постепенное физическое угасание, которое стало в нем заметно, не могло отменить умственной энергии, которая всегда была источником его силы. Однако теперь он нуждался в пополнении этой энергии.
В начале 37 г. он отправился в путешествие, влекомый той силой, которая посылает умирающего зверя двигаться, исследуя тот божественный дом, из которого он, предположительно, вышел. Он медленно продвигался по Аппиевой дороге в направлении к Риму. По всей видимости, он и был таким его домом. Однако прорицания говорили иное. Повинуясь неблагоприятным знамениям, он свернул, не достигнув башен и храмов Вечного города — он навсегда отвернулся от него и всего, что с ним связано. Здесь он правил; он, человек Тиберий Клавдий Нерон, обитал здесь как верховный правитель римского мира, правитель почти всего известного человечества, и теперь он обратил лицо в другую сторону. Никогда больше он его не увидит. Если люди бессмертны и душа Тиберия все еще жива, вероятно, его лицо все еще смотрит в сторону Рима.
Он направился в Кампанию. В Астуре он заболел, но быстро поправился и продолжил путешествие в Цирцеи. Он настоял на том, чтобы осмотреть войско, хотя и отрицал тот факт, что это отняло у него много сил. Он направлялся в Мизен. Силы постепенно оставляли его. Они покидали его постепенно, шаг за шагом. До самого конца сохранял он суровое достоинство. Он не поддавался слабости, он сохранял несогласное с ней выражение лица, и, если голова его налилась кровью (хотя и не так, как руки), она, во всяком случае, не клонилась вниз. На вилле Лукулла в Мизене он остановился на отдых. Отдых оказался более долгим, чем он предполагал.
У него не было постоянного врача. Время от времени он пользовался советами Харикла, самого знаменитого врача его дней. Видимо, не случайно Харикл также оказался в Мизене, но Тиберий отказался от осмотра. Харикл хитростью добыл сведения о состоянии его здоровья, которые мог бы получить с помощью осмотра. Покидая Цезаря, врач почтительно взял его за руку и смог уловить пульс. Старик был слишком прозорлив, чтобы его можно было провести. Распознав уловку, он приказал подавать другую перемену блюд и засиделся за столом дольше обычного. Харикл между тем уже знал все, что ему было нужно. Он сообщил Макрону, что старик угасает и ему осталось не более двух дней.
Тотчас разные группы стали собираться на совещания. Армии были предупреждены о надвигающемся событии. Тиберий постепенно угасал на вилле Лукулла. Он, вероятно, думал об этом галантном и авантюрном муже старого республиканского времени, чьи миллионы и роскошь все еще были на устах у всех, посещавших виллу. Лукулл был творцом роскоши, и каким творцом! Среди этих комнат и коридоров Тиберий, возможно, устроил свою последнюю простую трапезу, раздумывая над простодушием, способным радоваться таким ребяческим вещам. Счастливое дитя, этот Лукулл!
Семьдесят семь лет прошло с тех пор, как в консульство Планка в год сражения при Филиппах Ливия родила в небольшом доме на Палатинском холме ребенка Тиберия Клавдия Нерона, семьдесят шесть — с тех пор, как она на руках выносила его сквозь вражеский строй в темные дни гражданской войны, когда дочь Помпея Великого дала ему детский плащик, до сих пор бережно хранимый на Капри. Но конец всегда один у слабого и у сильного, у любимого и ненавистного, у доброго и злого, у мудрого и глупого. Итак, там, где когда-то среди роскошных своих садов прохаживался и вел беседы Лукулл, окончилась жизнь Тиберия.
Пересуды не оставили его даже тогда. Как пожар распространился слух, что Макрон, видя, что старик возвращается к жизни, успокоил его с помощью простыни, но холодная усмешка не исчезла с лица Тиберия Цезаря.
Глава 13
НАСЛЕДИЕ ТИБЕРИЯ
Римский мир, радуясь освобождению от старика с Капри, едва ли заметил то наследие, оставленное им последующим векам. Мир едва ли понимал, что именно он завещал или приготовил на будущее. Частично это было его намерением, но отчасти это было тем, что люди называют случайностью, фатальностью или судьбой, — частью разрозненными, не связанными между собой эпизодами, частью взаимосвязанной цепью логических событий, страшно перепутанных и продолжительных, соединенных устрашающей связью, поражающих воображение, поскольку они имели свой смысл, однако такой, что рождается не в голове смертных. Мы видим этот нечеловеческий рационализм, и мы объяты ужасом, поскольку боимся воспринять логику и причины нечеловеческого происхождения. Но события были таковы, и с безопасного расстояния мы можем их наблюдать и анализировать.
Результатом этой страшной войны между стариком и его врагами стал принципат Гая Цезаря, сомнительного, рахитичного, ненормального, с младенческим лицом сына Германика и Агриппины.59 Мир пришел в восторг, приветствуя его так, будто он был ангелом с небес. Но у Гая было другое имя — его называли Калигулой. И Калигула не замедлил проявить себя в злодействах, в невероятной глупости и пал от меча Кассия Херея. Затем вытащили на свет Клавдия, брата Германика, и тот выступил на сцену со своей многотомной историей и реформированием орфографии и со своей женой Мессалиной, чье имя стало нарицательным, и с его вольноотпущенниками Палласом и Нарциссом, которые правили вместо него и стали самыми богатыми людьми в мире. А затем, не в состоянии найти другого, римляне способствовали приходу к власти Луция Домиция Агенобарба, сына Агриппины Младшей, которого запомнили под именем Нерон. Эти правители стали Немезидой Рима, от них Рим страдал за то, как он поступил с Тиберием. И по высказыванию одного из современников, люди прикусывали языки, но не раскаивались в содеянном. Они не ведали, что сотворили, и потому не могли в этом раскаяться.
В этом была своя логика. Два факта стали следствием такого положения дел. Неспособность Августа основать наследуемую монархию открыла перед миром все трудности и опасности правления военщины во главе с ее ставленником. В том, в чем не преуспел Август, потерпели неудачу и его преемники. И олигархия в конце концов вынуждена была пойти на компромисс с силой, обреченной оставаться постоянной угрозой. Рим колебался между двумя политическими принципами, ни один из которых он не мог принять полностью. Он не мог ни возвратиться к выборной власти, ни утвердить наследуемую власть, которая могла бы контролировать военных. Борясь между искушением принять то или иное решение, он в результате не смог принять никакого.
Власть принципата скорее укрепилась, а не ослабилась. Самый тот факт, что его глава оставался выборным, в целом покоился на том, что не должно было быть тех долгих периодов правления неспособных наследников, которые при наследуемой монархии ослабляли бы принципат. Желая уничтожить империю, сенатская олигархия затянула ее вокруг своей шеи самым прочным способом.
Оппозиция империи, продолжавшаяся в течение жизни целых поколений сенаторов, стала отходить от своих старых взглядов после того, как потерпела поражение от Тиберия. В своем новом качестве она нашла наиболее адекватное выражение в учении стоиков. Ее связь скорее с философской, нежели с чисто политической теорией отмечена постепенным изменением ее целей. Стоицизм стал последним прибежищем старого римского духа. Древние основательность и равенство нашли наилучшее выражение в стоицизме потому, что в нем была удачно представлена основа, на которой его адепты могли их выразить, не умаляя других римских доблестей. Быть твердым, суровым оппозиционером тирании стало роскошью, которую можно было себе позволить без неудобной необходимости достижения практических результатов. Стоики не ссорились с миром, к счастью, в этом не было необходимости, и никак не демонстрировали умения управлять, присущего старому римскому духу. Они не демонстрировали ничего, кроме собственной доблести.
Однако с течением времени и среди той группы людей, где даже простые показные доблести становились редки, эти качества выдвинули их носителей во главу представителей своего класса. Даже усомниться в положении Катона стало доблестью в глазах людей, уже не способных занять такое положение.
Деградация класса всегда выявляется в его утрате способности достичь практических результатов. Способности вести за собой людей исчезли у римской олигархии, которая не могла сформулировать, чего она хочет, не в состоянии была поставить перед собой определенную цель, не могла объяснить простому человеку с улицы, какое конкретное благо она может ему предложить. Ей нечего было ему дать… Самый последний христианин мог обещать Царствие Небесное и вечную жизнь, хозяева этого мира не могли обещать ничего. Они не знали, в чем нуждаются люди, поскольку не знали, чего хотят они сами.
Есть военное правило, которое стало почти правилом нравственным, — «нападение — лучшая защита». Римские экономисты его так и не усвоили. Они проиграли, потому что делали ставку на удобство, безделье и комфорт и не учитывали вероятность катастроф, подстерегающих человеческую жизнь. Постоянное движение вперед, постоянная активная жизненная позиция, предполагающая возможность перемен, — единственное условие, при котором люди могут рассчитывать на сохранение того, что имеют. А такие вещи зависят от идеала, который постоянно перед ними устанавливает их религия. Поклонение фетишу имеет тенденцию ожидать чуда. Однако сам стоицизм был отрицающим учением, скорее теорией сопротивления, чем действия. Его целью было научить людей переносить зло, а не заставить творить добро, и страдание было той ценой, что люди платят за власть. Никакое учение, основанное на его философии, не могло придать им способности к действию. Стоицизм не мог этого сделать. Поэтому он не преуспел и в восстановлении республиканских принципов в политике.
Но в самом ли деле стоики вообще ничего не могли предложить людям? По крайней мере в одном они преуспели — они поделились этим с людьми не без некоторой нарочитости. То обстоятельство, что республиканская оппозиция приняла вид скорее этической, а не политической альтернативы, подвергло империю нравственной критике гораздо сильнее, чем смогла бы любая политическая критика.
Военные, представленные имперской армией Рима, в чьих руках была единственная дорога к успеху, все более приобретали качества, вызывающие озабоченность. Мы можем наблюдать глубочайшую, фатальную угрозу в результате того, что руководство армией оставалось выборным, — атмосфера внутреннего соперничества способствовала постоянным интригам и заговорам. Пока оставались еще последние аристократические фамилии, они могли предотвратить развитие событий в худшую сторону, монополизировав высшие командные посты. Но уже в период правления Августа и Тиберия появились признаки того, что этот барьер долго не удержится. Люди из низших сословий уже ломились в дверь, несли с собой дух свирепого, убийственного, нескончаемого соперничества, когда каждый боролся со своим соседом, и любое оружие могло пойти в ход. Наградой было превосходство, дающее им власть над целым миром. Люди вроде Сеяна и Макрона были людьми нового типа.
Властитель римского мира, таким образом, вынужден был бороться не только с внешним врагом и внешней оппозицией, которая оспаривала его титул, но и держать оборону против собственных друзей. Тиберий не знал ни минуты покоя, возможности расслабиться либо разделить ответственность с доверенным или любимым человеком. Его осторожность была более бдительной, чем у благонравной девицы, — постоянное, безусловное и неустанное недоверие. Он не мог забыться или забыть о других. И эта настороженность, нечеловеческая и ненормальная (ибо в жизни каждого человека должны быть моменты, когда он не сомневается, когда он может забыться и не думать о том, что ежеминутно грозит удар в спину), могла закончиться лишь душевным расстройством людей, вынужденных вести подобный образ жизни. Удивительно еще, что они оказались не столь плохими.
Гораздо позже времени правления Тиберия это зло проявило себя в полную силу, но уже Тиберий чувствовал первое его приближение.
В меньшей степени это зло проникало в нижние армейские слои, отсутствуя среди рядовых, людей, которые служили двадцать пять лет своей жизни и которые, как никто, должны были доверять соседу, поворачиваясь к нему спиной в минуты опасности. Но не было человека среди военных высшего ранга, за которым пристально не наблюдал бы Цезарь.
Ввиду этого, во всяком случае ввиду трусливого разъединения в рядах собственной партии, стоики выказывали невозмутимость. В мире взаимной подозрительности и соперничества нечто великое было в человеке, придерживающемся учения, что внешние обстоятельства не имеют для него значения. Он отказывался беречься или бороться. Он предпринимал лишь умеренные и разумные меры предосторожности. Он встречал смерть равнодушно. Существование стоического учения было молчаливым ответом на напряженную атмосферу двора Цезаря. Они не столь уж не преуспели в своем учении. Когда наконец Нерон был свергнут и Гальба, Отон и Вителлий боролись за власть у его тела, вышедший победителем Веспасиан сделал определенные шаги в сторону сенаторов. Медленно, но верно стал намечаться компромисс. После того как Тит изменил отношение к сенату и Домициан отступился от него, Нервой были заложены основы согласия, давшего империи четырех великих правителей. Все они не были чужды стоических взглядов, а кульминацией стал Марк Анний Вер, император Марк Аврелий, чей стоицизм слишком очевиден и не требует отдельного упоминания.
Однако эта моральная победа стоиков смогла быть достигнута, лишь когда они отказались от всяких связей с олигархической политикой старого типа. Стоицизм не связан ни с какой политической теорией. Его вполне искренне мог исповедовать и абсолютный властитель, и самый убежденный республиканец. Но когда все было сказано и сделано, он стал мостиком, по которому ранние римские добродетели были внесены в новую эру.
Присвоив его философию, олигархия становилась все менее и менее значительной политической силой. Она ослабла, стала незримой, ее республиканские убеждения растаяли в неуловимой атмосфере, всегда присущей Риму.
Компромисс между сенатом и империей, установленный Нервой, предоставил римскому миру восемьдесят четыре года мира и процветания. Он был нарушен Коммодом, и с этих пор борьба возобновилась с новой силой. Истинная слабость сенатской партии обнаруживала себя постепенно. Участвуя в гражданской и экономической жизни, ее члены были не в состоянии привести мир к экономическому процветанию. Они не могли способствовать благосостоянию. Власть у них отобрали жесткие и грубые военные. Эта борьба имела следствием приход к власти иллирийских императоров и политическую организацию государства в виде абсолютной монархии, где сенат практически оказался не у дел… Однако военная власть не могла овладеть ситуацией, когда экономическое основание трещало под ее ногами. Ее попытки исправить положение лишь ускорили конец. Настали времена, когда римская армия сражалась с варварскими племенами на севере, находясь на одном уровне с ними. В Западной Европе огромная военная сила в конце концов исчезла в результате экономического краха.
Лишь в последний период этой борьбы государство призвало на помощь новую религию, ставшую выражением его единства и универсальности. Наглядным результатом такого срочного приятия и обращения к этим принципам стало удивительное реформирование и восстановление восточных провинций, где империя просуществовала еще тысячу лет. На запад эти принципы пришли слишком поздно. Люди, не будучи слишком мудрыми и полностью свободными, способны понимать и действовать, лишь когда власть обстоятельств сообщает им эти возможности. История является больше рассказом о слепоте и ошибках человечества, чем (как полагал Гиббон) о его преступлениях и катастрофах.
Христианство вышло победителем в борьбе среди нескольких соперников. Старая римская религия — система, которую мы весьма условно называем язычеством, — прежнее сочетание местных культов и примитивных обрядов, грубо и несовершенно связанное с помощью основных героев разных мифологий и слегка прикрытое греческой философской и литературной традицией, исчезла вместе с олигархией, оставив лишь след своих более простых форм в народных обычаях земледельцев. Она была в последний свой период не более чем литературной традицией, за которую судорожно хватались, как за письма покинутой любовницы, как за дело славное, но давно прошедшее. Она, в сущности, принадлежала времени существования независимых полисов. С их исчезновением она утратила свою значимость. Египетские и некоторые азиатские культы оказались более живучими. Однако поклонение Изиде также оставалось лишь местной традицией, ее внешнее распространение было ограниченным, ее внутренняя философская подоплека обращалась к типу личности, павшей далеко позади и выбывшей из борьбы, когда жизнь стала отчаянным сражением против неравенства. Митраизм, в некоторых отношениях самый сильный соперник христианства, стал в основном религией военных. Он полностью исчез с роспуском римской армии. Многие из его последователей высшего ранга, вероятно, пали на полях сражений во время бесконечных гражданских войн и пограничных столкновений последних дней империи.
Сила христианства, безусловно, покоилась на его вселенском характере. Оно вобрало в себя гораздо больше элементов, чем другие соперничавшие с ним религии. Это была давильня, которая вобрала в себя урожай самых различных интеллектуальных сил, их духовный эксперимент и социальные традиции. В результате оно не освобождало людей от страданий и не спасало их от катастроф, но объединило их для действия. Люди все смогут, если они будут страдать и действовать.
Теория о том, что преследования делают людей великими, весьма сомнительна. Преследования зачастую, а возможно и постоянно, бывают успешными. Мир усеян прахом бесплодных мучеников. Преследования уничтожают все, кроме истины. Ранняя церковь принесла с собой элемент истины, жизни и жизненных сил и представляла собой сложную, нередко грубую, порой неприличную, а иногда великолепную армию, которая пробивалась к успеху.
Борьбу против внешних соперников она вела лишь собственными силами. В конце концов она приняла форму объединения людей, готовых страдать и бороться.
Степень и природа влияния, которые христианская церковь оказала на римское государство, целиком зависели от структуры двух составляющих.
Существовал главный источник, из которого христианская церковь могла черпать силу, — все еще неорганизованный, нетронутый остаток населения, не затронутый властными римскими общественными институтами. Причина, по которой эта церковь возникла среди униженных и слабых, а не среди великих людей этого мира, достаточно очевидна. Социальная организация высших и средних слоев не могла как-либо трансформироваться в соответствии с объектами и идеалами, к которым она никогда не стремилась. Не было ни малейшего шанса, что какой-то человек или какое-то меньшинство сможет осуществить такой переход изнутри. Люди, стоявшие у основания римской общественной организации, понимали это. Они так организовали ее структуру, что ее можно было только разрушить, но не изменить. Поэтому, когда настало время перемен, эта структура не могла измениться и, следовательно, была разрушена.
Этот результат был на руку не всем. Он повернул вспять прогресс гуманизма, замедлил его продвижение и стоил несказанных жертв, повлекших за собой уничтожение жизни, состояния и счастья множества людей. Он не преследовал ни единого частного интереса и не достиг даже низших целей, не говоря о высших.
Не было никакой новой структуры, готовой занять место старой. Старая организация позаботилась о том, чтобы не иметь соперников. Подобно восточной монархии, она устранила всех своих естественных преемников. Церковь не была организацией, приспособленной для ведения обычной светской жизни. Это был лишь религиозный институт. Она не могла взять на себя труд землевладельцев, банкиров и купцов римского мира. Она могла лишь лелеять и вдохновлять труды тех, кто воссоздавал цивилизацию.
Начало и последующий рост влияния церкви соотносился с правилами, всегда сопутствующими созданию всех великих общественных институтов. Она началась, как это обычно бывает, с одного человека, и этот человек, как и следовало ожидать, характеризовал себя происхождением, ставившим его вровень с царями и знатными мира сего. Первыми его помощниками были — и здесь вновь работают те же правила — свободные люди, привычные к собственной независимости. Организация ширилась, и если она расширялась за счет людей, находящихся внизу социальной лестницы, это можно объяснить тем, что другие слои были связаны между собой настолько тесно, что освободиться от этих связей было просто невозможно. Но даже и тогда в нее вступали и представители иных общественных слоев, которые или сумели открыть ее для себя, или предугадать ее, смело пожертвовав своим положением. И, проводя в жизнь правила, управляющие такими институтами, церковь действовала не путем соединения мнений своих сервильных рекрутов и борьбы с общепринятыми мнениями и учениями, но подчинив их дисциплине, диктуемой людьми совершенно иного склада. Раб научился не только действовать, но и думать и ориентироваться на образ того могущественного человека, который произошел от царей Иудейских.
Природа этой организации была более значительной, чем могла представить любая общественная организация римской цивилизации. Она ближе подошла к основам реальности. Все классовое общество Рима всегда следовало принятым установлениям, оно было пассивным, не могло себя контролировать и было обречено из-за собственной непоследовательности и отсутствия взаимосвязи. Ни одно сословие не могло освободиться от ужасной обузы, создаваемой необходимостью разделять всеобщие представления.
Стоит напомнить об одной особенности возникновения христианства. В правление Тиберия имел место процесс, суть которого заключалась в установлении краткого свода принципов, удобных и подходящих для пропаганды, обобщавших результаты общественного опыта Древнего Востока — цивилизации старшей, чем наша собственная, — и в их прививке к цивилизации Средиземноморья. Более четырех тысяч лет борьбы, успехов, падений, надежд, страхов, страстного вдохновения и твердой веры воплотились в одном блестящем столетии, столь же значимом для религии, как век Перикла был значим для искусства, а в наше время как XIX век для научных открытий; этот опыт человечества воспринимался римским миром, пока его жизненная сила питала сосуды этого мира и постепенно изменяла его природу. Рим имел свой семисотлетний опыт, в основном политический и юридический. Греция, вероятно, имела вчетверо больший опыт, и его полное выражение сказалось в искусстве и торговле, завершившись в художественных идеях и интеллектуальных учениях. Но Восток имел более длительный опыт, и форма, в которую он вылился, была религиозной. Религиозная мысль — наиболее концентрированная форма мышления, известная человечеству. Она, как никакая другая, дает свод ценностей, определяющих соотношение всех других мыслительных форм. Стоит подивиться, помимо прочего, огромному промежутку времени, за который великий опыт человечества стал сводом ценностей, пришедших в западный мир под именем христианской религии. Когда он создавался как средство выражения, он взял ритуальную сторону от известных обычаев человечества, теологию по большей части от греческой философии, правовой канон отчасти от римского права — и трансформировал все это, придав им согласованность, которой не было прежде, и переориентировав их в соответствии с единой определенной шкалой ценностей. Кроме этого, древняя религия римлян была вещью столь неинтересной, что не могла привлечь внимания и прочной привязанности ее последователей.
Прежде чем окончательные результаты наступления христианства могли оказать влияние на римские владения, эти владения, если иметь в виду Западную Европу, превратились в обломки, и церковь, сознательно или бессознательно, начала новое паломничество для воссоздания иного и более понятного мира. Здесь не место для подробного его разбирательства. Давайте вернемся к наследию Тиберия — остались одна или две темы, о которых стоит напомнить.
Борьба Тиберия с его врагами, касаясь разрушения дома Цезаря и паралича сенатской олигархии, повлияла на дальнейшее развитие римского мира и заслуживает того, чтобы подробнее ее рассмотреть.
Коренная проблема этой борьбы заключалась в невозможности найти действенный способ остановить ее. Ни моральные обязательства, ни материальные интересы не могли адекватно справиться с ситуацией. Эта проблема стала причиной того, что римская политическая жизнь, как и греческая, пришла к своему концу. Довести общественную борьбу до определенного предела — значит разрушить или уничтожить цивилизацию! Но где этот предел? Как его обнаружить? Как заставить людей остановиться перед критической отметкой? Современный человек также не проявил умения в решении этого вопроса. Нашу мудрость все еще только предстоит доказать.
Цивилизация покоится не только на компромиссе; она сама — как брак между людьми — является компромиссом, который действует постоянно и час от часу возобновляется. От действенности этого компромисса зависит продолжительность жизни общества. Легко его не соблюдать, легко следовать идеям в их крайнем логическом решении, но в этом случае и победители и потерпевшие теряют все, ничего не приобретая взамен. Должен быть «консенсус на риск потерь». В отсутствие такого консенсуса не существует альтернативы, кроме как создание жесткой общественной структуры, где соперничество абсолютно исключается. Однако еще вопрос, не хуже ли такое лечение самой болезни. Итак, мы сталкиваемся с очевидно тупиковой и неразрешимой проблемой, которую следует рассматривать с совершенно иного угла зрения: а именно сосредоточившись на изменениях в умах самих людей — не таких переменах, которыми мы себя воспитываем, но таких, которые сами воспитывают нас.
Одной из существенных особенностей христианства была такая способность изменить нас самих. Число таких людей всегда было небольшим, но они были солью земли и сохранили эту способность. То, что природу человека изменить нельзя, вряд ли будут оспаривать многие. Но если определенное число людей не может освободиться от пристрастий обычной чувственной жизни, мы должны быть готовы учитывать возможность того, что каждая цивилизация имеет свой конечный срок.
В отсутствие этого решением будет ужесточение и окостенелость организации общества. Военные римские императоры применили это ужесточение к римскому обществу, и оно постепенно разрушило жизнестойкость римских производства и торговли, а это, в свою очередь, подорвало основы, на которых зиждился военный порядок. В определенной степени Римская империя разделила эту окостенелость со всеми ее предшественниками. Необходимость контроля над всеми сродни той же тенденции, что в системе кастового общества, — та же изоляция одного класса от другого, строгое разделение профессиональной деятельности, система регулирования и закрытость гильдий в промышленном производстве. Это вопрос не только теории. Мы обсуждаем не абстрактный случай. Центральная власть действовала в древней цивилизации в соответствии с крайней необходимостью, соперничество, усталость и выживание сильнейшего оставляли победителями тех, кто признавал необходимость управления, и уничтожали тех, кто им пренебрегал. Римское государство было победителем, который из большого числа стартовавших в одиночку неверной походкой брел к победному финишу.
Опасность для общества такого жесткого устройства заключается в том, что государство, организованное подобным образом, может быть легко, а порою и неожиданно разрушено. Чтобы прорвать серьезную дыру в этой материи, надо ее хорошенько рвануть. Именно такая судьба и была уготована цивилизации позднего Рима. Он так и не оправился от катастроф III века. Он и не мог этого сделать, потому что в жесткой системе общественной организации нет места для дополнительных резервов умных любителей. Когда ирландцы и англичане совершили первые нападения на Римскую Британию, просто разрушив там все, что могли, а затем ожидали, пока политическая структура истечет кровью, они использовали метод, который позже турки применили в отношении Византийской империи.
Политика Тиберия в отношении рейнской границы, отчасти обусловленная политической борьбой, была мудрой для того времени, когда она проводилась, однако оставила много нерешенных вопросов. Завоевание Британии должно было стать задачей римских полководцев после отзыва Германика. Однако внутренняя политика сложилась так, что до осуществления этого замысла прошла жизнь целого поколения.
После отъезда Германика с Рейна фризы были спровоцированы на восстание и сумели стать независимыми. Именно после этого события можно проследить самое начало движения, которому суждено было развиться и зайти столь далеко, что оно имело огромные последствия. Хавки стали предпринимать небольшие набеги. В 47 г. они дошли до побережья Галлии во главе со своим вождем фризского происхождения Ганнаском, дезертировавшим из римской армии. Они нашли, или открыли, прежний морской путь на юг, который Друз и Германик столь успешно в свое время использовали. Гней Домиций Корбулон подавил их пиратские вылазки и вновь занял Фризию.
Корбулон намеревался прекратить эти набеги; но, чтобы это осуществить, ему надо было переправиться через Эмс, а такое возвращение к германскому вопросу было прерогативой имперского правительства, которое для этого должно было пересмотреть всю эту политику. Политика, проводимая Друзом и Германиком и остановленная Тиберием, теперь пересматривалась, и было решено возвратиться к политике Гая Юлия Цезаря. Корбулона отозвали из Фризии, и северный берег Рейна, хотя и оставался под римским присмотром, был полностью покинут. Внимание было перенесено с внутренней территории Германии к Северному морю.
Завоевание Британии отметило следующий этап перемен, которые сначала развивались медленно, но затем все быстрее. Набег хавков в 47 г. стал началом эры кораблестроения на севере и постепенного переноса главных стратегических задач с суши на воду. Двести пятьдесят лет спустя хавки превратились в мореходов саксов, против которых на юго-востоке Британии была сооружена сеть фортификаций, которые никогда не возводились против испанцев и французов в последующие времена. Африка так и не нашла способа защиты от римских легионеров. Азия частично вышла из положения за счет горных лучников. Северная Европа нашла полный и действенный ответ против завоеваний римлян — морские корабли. Британия стала и долгое время оставалась основным форпостом против северных флотов — главным стратегическим пунктом, за который они сражались и обладание которым означало стратегическое превосходство.
Завоевание Британии, таким образом, было не случайным проходным эпизодом. Это была серьезная политическая мера, тщательно продуманная и исполненная. Предвидел ли ситуацию Гай Юлий, или же действовал по наитию — мы никогда не узнаем, но в любом случае он оказался прав. Каковы бы ни были взгляды на причины завоевания римлянами Британии, ясно одно — это предоставило Риму контроль над рейнской границей, остававшейся, пока римляне не утратили Британию. Несколько раз границы нарушались в Галлии, Испании и даже в Африке, но, пока римляне удерживали Британию, они всегда восстанавливались вновь.
Саксы не смогли завоевать Британию. Эту задачу сумели выполнить англы в те дни, когда остгот Теодорих совершил набег на Италию на телегах, запряженных волами, вандалы правили в Африке, а франк Хлодвиг неудачно пытался основать королевство на территориях вдоль Рейна. Поначалу неполный успех англов вылился в распад всей системы защиты западных провинций Рима. Империя сумела отбить вандалов и вновь отвоевать Италию от преемников Теодориха, однако Галлия так и не была возвращена. Хлодвиг был человеком более низкого уровня, чем его предки, которым не удалось этого добиться. Его нельзя сравнить с такими людьми, как Арминий или Маробод. Тем не менее, когда Британия оказалась в руках англичан, он сумел основать франкское королевство, которому суждено было сыграть столь важную роль в последующей истории.
Итак: правление Тиберия и события, тогда происходившие, обусловили многие последующие исторические события. Это время стало свидетелем возникновения новой системы социальных ценностей, основанных христианством; и, хотя оно не стало свидетелем завоевания Британии, оно сумело подготовить его в ходе попытки вовлечь Германию в орбиту римской мировой империи. В правление Тиберия попытки основать стабильное наследование или назначаемую монархию в Риме провалились, поэтому монархия оставалась в основе своей выборной. Из этих трех составляющих проистекали некоторые из тех определяющих сил, что создали цивилизацию, в которой мы теперь живем. Первая составила основу новой и более широкой цивилизации, вторая способствовала установлению стратегического военного положения, давшего этой новой цивилизации возможность существования и распространения по земному шару, а третья составляющая не оставила сомнений в том, что древняя цивилизация Рима должна была прийти к своему концу и исчезнуть. Эти результаты никак нельзя назвать случайными. Они появились вследствие ужасающей логики предшествующих обстоятельств и взаимоотношений людей.
Однако неудачи Друза и Германика так же основательно повлияли на будущее, как и их удачи, если бы они случились. Они извлекли северные территории из племенных отношений. Главенство перешло в руки варварских монархий, которые учились у римлян искусству политики и основывали начала национального государства на принципе главенства военной силы, начало чему положил Юлий Цезарь. Стабильность и выживание этих государств по большей части обязаны очень простому обстоятельству — они могли положиться на царские династии, поколение за поколением воспроизводившие людей определенного стандарта крепости и ума, способных взять на себя труд управления и продолжить его. Вся политическая история европейских государств в ближайшие две тысячи лет переплеталась с проблемой наследования поста главы государства. Дом остгота Теодориха не мог соответствовать этому условию, и остготское королевство в Италии погибло; вестготы Испании также не могли с этим справиться, и готское королевство пало; франки прорвались к власти в результате родовой доблести Меровингов и Арнулфингов; англичане, когда утратил значение сильный дом англов в Мерсии, едва сохранились из-за более слабой линии правящего дома Уэссекса.
Нет большего заблуждения, чем полагать, что проблема престолонаследия — вопрос искусственный и неважный. От этого зависит постоянство созидательного управления государством, и в этом состоит сущность самого государства. Впервые это показал нам Рим, когда пытался воссоздать себя с помощью активной творческой деятельности интеллигенции, мы видим на примере Гая Гракха, отречения Суллы, убийства Гая Юлия Цезаря, как эти попытки постоянно терпели поражение и постепенно сходили на нет. Мы видели, как безуспешно бился над этой проблемой Август, стремясь продолжить систему принципата, и в полной мере мы могли наблюдать это на примере проблем Тиберия и борьбы, которую он постоянно вел.
Жизнь и благополучие сотен миллионов людей, возникновение и исчезновение целых государств зависят от разрешения этой проблемы. Ибо, кроме всего прочего, проблема включает в себя власть, которая в состоянии управлять или, напротив, утрачивает контроль над могуществом различных партий и их интересами. Люди в большинстве своем не являются хозяевами самих себя. Они не просто отдельные индивиды. Они вращаются в сообществах, которые не управляют собой, но вовлечены в поток различных мнений и интересов. Лишь когда этот контроль государства утрачивается и позволяет различным силам проявлять себя свободно, — лишь тогда люди осознают, что являются пешками в ходе общественных и политических катастроф, в которые их вовлекли силы, им неподвластные, и которые они не могут изменить или остановить и перед которыми они сами, их чувства, их надежды, их желания и все завоевания их цивилизации суть лишь малые пылинки в этом процессе.
1 Он продолжался три дня: сначала иллирийское шествие, затем триумф сражения при Актии и, наконец, самая великолепная — египетская процессия.
2 Энеида, v, 545–603. Он рисует живую картину конных состязаний юношей, увенчанных венками, с золотыми цепями на груди. Юноши разделяются на три отряда: первый возглавляет юный Приам, другой — Атис (предок Августа по материнской линии) и третий — Юл (от которого пошли Юлии, предки его бабушки с материнской стороны). Три отряда делятся пополам и скачут в пересекающихся кругах, затем снова сходятся вместе — вид верховного танца, грациозно исполняемого юношами, во главе со своими ведущими, от которых требовались немалые мастерство и искусство.
3 Ливия, однако, не происходила из семьи Ливиев Друзов. Ее отец, усыновленный фамилией Ливиев, происходил из рода Клавдиев. Тем не менее несчастья преследовали имя Друзов; и, так или иначе, очень мало из тех мужчин, которые носили это имя, избежали насильственной смерти или несчастной судьбы. Читатель встретит на страницах этой книги четырех человек по имени Друз и сможет убедиться в этом сам.
4 Агриппа был одним из друзей юности Августа. Его происхождение неясно, и он стеснялся своего простого имени Випсаний, которое на современный слух звучит довольно необычно. Он был одним из самых влиятельных людей своего времени. Это не был человек творческого склада, однако в нем были та стремительность действий и железная выдержка, которых не хватало Августу. Два проведенных им морских сражения стали абсолютно победными. Он выиграл их в значительной степени благодаря не полководческому таланту, а техническому превосходству. Кроме кораблей, его очень занимала архитектура. Под его руководством, помимо других больших начинаний, был построен Пантеон. Он закончил начатый великим Цезарем большой обзор обитаемого мира, на основании чего была высечена на мраморе огромная карта, установленная в галерее Полла в восточной стороне Марсова поля. Это был значительный прогресс в географических познаниях той эпохи. Агриппа входил в число тех прославленных военных инженеров, что составили славу Рима, и его сильный характер и практицизм были типично римскими чертами. По характеру суровый, он, по-видимому, был образован и обладал определенным вкусом.
5 Випсания представляла еще интерес тем, что была внучкой Тита Помпония Аттика, друга и корреспондента Цицерона.
6 Любой современный учебник покажет читателю, что мы гораздо больше теперь о них знаем; однако описание в тексте дано для того, чтобы показать картину мира, которая была известна образованному римлянину. Длительный перерыв в военных столкновениях с Азией, несомненно, сделал угрозу азиатского вторжения очень отдаленной.
7 Право господина (лат.).
8 Цивилизация фризов имеет древние корни. Она была, вероятно, в течение столетий торговым центром Северо-Западной Европы и местом распространения торговых путей. Население внутренней Германии первоначально образовалось из пришедших морем переселенцев, этот канал, откуда приходили и товары и продовольствие, был, как показала стратегия Друза, большой поддержкой для них, и отрезанность Фризии должна была стать для них серьезным ударом. То, что теперь мы называем «незаконный ввоз оружия», — изобретение не новое. Слухи в Риме о нищете и отсутствии действенного вооружения у жителей внутренних областей Германии в большой степени обязаны таким событиям, как оккупация Фризии или отсутствие дипломатических отношений с более цивилизованными соседями на побережье.
9 Хорошо известно предположение о том, что скандальные главы Светония были почерпнуты из воспоминаний дочери Юлии и Агриппы Агриппины. Однако понятно, что первоисточником было письмо самой Юлии. Это предположение гораздо лучше объясняет последующий ход событий и отношение детей Юлии к Тиберию.
10 Тацит пишет (Анналы, I, 53), что Юлия считала Тиберия недостойным. Это очень важное обстоятельство. Мы не знаем, в каком смысле это следует понимать. Были предположения, что это вызвано тем, что в ней течет кровь Юлиев. Однако кровь Юлиев текла в жилах лишь ее прабабки и, даже если бы и так, это не давало ей оснований свысока смотреть на аристократических предков Клавдиев! Трудно не интерпретировать это замечание Тацита так, что он имел в виду нравственное превосходство. Однако, помня о последующей судьбе Юлии, можно недоумевать, на чем было основано такое отношение. Очевидно, оно было основано на приписывании скандальной испорченности Тиберию. Письмо Юлии — первое обвинение такого рода, и обстоятельства его написания значительны.
11 Август, кроме того, сочинил памятную надпись и написал воспоминания о Друзе (Светоний. Божественный Клавдий, i, 5).
12 Этот вопрос связывают с получением Тиберием трибунских полномочий сроком на пять лет. Он вряд ли смог бы получить инвеституру, если бы не намеревался оставаться на посту. Изменение его планов было совершенно неожиданным и весьма агрессивным. Если он неожиданно узнал о письме Юлии отцу, тогда, во всяком случае, можно усмотреть какую-то причину этого решения, иначе оно остается необъяснимым.
13 Нам неизвестна причина, по которой он решился на это. Кажется естественным предположить, что человек типа Тиберия, даже совершая благотворительные визиты, не упустил бы возможности приобрести необходимые медицинские знания. Можно проследить некоторую связь между этим рассказом и военным госпиталем, который Тиберий организовал в Иллирии несколько лет спустя.
14 Светоний. Тиберий, 10, 2. (Пер. М.Л. Гаспарова.)
15 Нет свидетельств о связи Маробода с иллирийским восстанием, и, вероятно, такой связи не было вовсе… Если так, ему просто очень повезло. Удивительно, насколько вовремя для него вспыхнуло восстание в Иллирии именно в то время, когда он был заинтересован в неспокойствии своих соседей. Два года германской кампании предоставили ему срок для пропаганды. Если бы он был современным государственным деятелем, историки, возможно, более строго оценили эту вероятность.
16 Во всяком случае, так предполагалось. Маловероятно, что импровизированным отрядам новобранцев из ветеранов и вольноотпущенникам была поручена сложная задача принять участие в военных операциях против горных укреплений Лалмапии.
17 Этого Лепида не надо путать с Манием Эмилием Лепидом.
18 Эта фраза, кажется, застряла в памяти Тиберия, поскольку годы спустя в послании правителю Египта он писал ему: «Я хочу, чтобы моих овец стригли, а не резали».
19 Он был прежде правителем Сирии, и о нем говорили, что, когда он туда прибыл, он был беден, а Сирия богата, а когда он оттуда уезжал, Сирия была бедна, а он богат.
20 Можно полагать, что Цедиций за это был достойно увенчан! Аспрена стал правителем провинции Африка, и, без сомнения, он это заслужил.
21 Светоний. Божественный Август, XXIII. Кроме того, известно, что Август часто пренебрегал услугами цирюльника.
22 Как раз и опасались одновременных действий германцев и иллирийцев (Светоний. Тиберии, XVII).
23 Важно было, чтобы он получил последние указания от самого Августа до того, как тот умер. Были разные дела, которые Август до последнего момента оставлял при себе.
24 Последующие события придали этой фразе Августа значение, которое сам он никогда не имел в виду.
25 Историю эту описывают Тацит и Светоний, однако в некоторой степени ее можно «восстановить», чтобы выяснить истину. Этот офицер имел приказ Августа, выданный им, чтобы в случае необходимости снять вину с этого офицера: в письме было сказано, что при попытке вызволить заключенного под стражу Агриппу тот должен быть умерщвлен. Офицер действовал в соответствии с этим приказом. Однако когда законопослушный Тиберий занялся этим вопросом, он увидел, что дело не отвечает требованиям закона. Приказ Августа мог создать весьма неловкий прецедент, если только он сам не утвердит его, но, поскольку Агриппа был заключен под надзор по постановлению сената, было сомнительно, что это утверждение сможет придать событию легитимность. Саллюстий отправился к Ливии и обратил внимание на то, что такая трактовка при рассмотрении этого дела обернется для них обоих полным поражением, поскольку их безнадежно свяжут с этим делом. Ливия, вероятно знавшая, кто был автором письма, пошла к Тиберию и потребовала, чтобы он одобрил этот поступок. Тиберий не желал брать на себя ответственность за то, чего не совершал, и не мог законным образом этого сделать; ему очень важно было не восстанавливать сенат против себя, поэтому, поскольку на аргументы Саллюстия не могло быть ответа, дело было просто оставлено, и истина так и не выяснилась. Это вполне соответствует описаниям и Тацита, и Светония.
26 Тацит сообщает, что, по свидетельству некоего источника, они прибыли от Аспрены (правителя провинции Африка), — что, разумеется, было инсинуацией в адрес Тиберия, который, получается, прятался за спину Аспрены. Однако вряд ли можно сомневаться в том, что любой оскорбленный муж не воспользовался бы случаем открыто оказаться в центре событий.
27 Читатель, видимо, оценит, что сообщение Тацита об этих дебатах в сенате представляет собой очень сжатый рассказ событий, которые на деле заняли немалое время. И все же это его собственная версия, а не придуманная каким-либо современным апологетом Тиберия.
28 Этот намек на возможное отречение не рассматривался (и восприятие его Тиберием не было поощряющим) как серьезное и вероятное.
29 То есть сын Юлии (лат.)
30 Когда Тацит говорит (Анналы, I, 16), что не было особых причин для мятежа, кроме того, что смерть императора предоставила возможность для вольности, гражданской войны и всего, что могло их сопровождать, мы можем сделать вывод, что он очень хотел оправдать своих друзей.
31 Этот центурион был известен под кличкой «Следующий, быстро!» («Cedo alteram»). Все центурионы в качестве символа своей власти имели при себе деревянную палку. Этот Луцилий получил свое прозвище оттого, что имел привычку ломать свою палку о спины своих людей, при этом выкрикивая: «Следующий, быстро!»
32 Они хотели принять его как граждане и избиратели, а не как воины.
33 Самый тот факт, что Германик был законным наследником империи, давал ему достаточные основания не приветствовать неконституционные прецеденты такого рода. Однако весьма маловероятно, что Агриппина на его месте была бы шокирована таким предложением.
34 Сам Тиберий высказал свое отношение к правлению следующими словами: «Никто добровольно не желает, чтобы им управляли. Люди воспринимают это как нежелательную необходимость. Они находят удовольствие в том, чтобы уклоняться, и рады идти против правителей».
35 Памятник в знак победы.
36 В дальнейшем их назовут франками. Союз херусков, хотя и не идентичен позднейшей франкской лиге, имел схожие черты.
37 Есть предположение, что Катуалда был готом из Вистулы. Его имя, видимо, произносилось как «Кедвал» — его мы позднее встретим в королевской семье Уэссекса.
38 Рассказ Тацита о смерти Германика, включающий последние слова умирающего и патетический призыв к справедливости, не может убедить никого старше двенадцати лет. Тацит не присутствовал при этом событии. Все, что он рассказывает, он приписывает авторам, которые нам неизвестны и на сведения которых нельзя полагаться, мы можем судить обо всем лишь по косвенным свидетельствам. Судя по всему, его главы 70–72 списаны с какого-то политического памфлета весьма сомнительной природы, направленного против Тиберия. Подобный трактат, написанный в наши дни, привел бы автора на скамью подсудимых. В нем не содержится ни единого определенного утверждения или прямого факта, он сочинен целиком на пафосе и косвенных намеках, очевидно, для читателей, которым не нужны доказательства… Замечания в начале 73-й главы, сравнивающие Германика с Александром Великим (Македонским), — неприкрытое бесстыдство. Во второй половине текста Тацит возвращается к нормальному стилю, говоря о том, что труп не имел признаков отравления.
39 Кажется, Тиберий особенно почитал Диоскуров; так что рождение близнецов стало для него неким добрым знамением.
40 Тацит допускает, что Антония была запугана. Однако у Тиберия имелись причины быть благодарным Антонии за лояльность в обстоятельствах и более серьезных, чем эти.
41 Из этого и связанных с ним эпизодов создается впечатление, что Саллюстий был главой особой службы охраны.
42 Дион Кассий говорит, что он отправился в Галлию, где приобрел многих сторонников. Он пишет, что Климент отправился в Рим в качестве претендента на престол.
43 Это собственное утверждение Тацита.
44 Хотя Тацит говорит о нем очень взвешенно, чтобы минимизировать его значительность, Светоний допускает, что Либон был настоящим заговорщиком. Вполне возможно, что он путает его с консулом.
45 Его чувства показывает рассказ, приведенный Светонием. Депутация граждан из Трои довольно запоздало высказала свои соболезнования. Тиберий подчеркнул это, ответив, что он в свою очередь сожалеет об утрате их выдающегося соотечественника Гектора!
46 От этого зависит очень многое; письмо можно понимать как намек на то, что Агриппина и ее партия стоят на его пути. Следует помнить, что такой проницательный человек, как Тиберий, вряд ли поставил бы собственную жизнь в качестве преграды между Сеяном и империей.
47 Имея в виду положение заинтересованных лиц, кажется вероятным, что Латиарий и его компания не желали начинать процесс без определенных гарантий на будущее, эти гарантии предоставляло им консульство.
48 Азиний, будучи женат на сводной сестре Агриппины, состоял с ней в родственных отношениях и, соответственно, входил в ее партию. Азиний едва ли был очень умным человеком, способным проявить мудрость в любой ситуации.
49 Что произошло на самом деле, слишком неясно для того, чтобы сказать об этом более обстоятельно. Светоний пишет, что по приказу Тиберия внучку Августа били плетьми до тех пор, пока она не потеряла один глаз, но это слишком сенсационное заявление, чтобы о нем лишь упомянуть мимоходом. Если бы он утверждал, что она потеряла глаз в схватке с охранником, в это можно было легко поверить.
50 С этого момента начинаются слухи о безобразных оргиях на Капри. Сомнения, высказанные на этот счет некоторыми учеными, небезосновательны. Не следует думать, что Тиберий превосходил нравственными качествами свое время; однако те слухи, которые приводит Светоний, не должны нас сбить с толку. Это, скорее всего, были те обвинения, за которые Агриппину сослали в Пандатарию.
51 Тиберий не был ответствен за это преступление. Это сделал палач сената, едва ли не по приказу сената. Дион Кассий писал о «молодых девушках», тогда как Светоний описал единственный случай (Тиберий, 59).
52 Имущество самого Сеяна поступило на законном основании в сенатскую казну, однако Тиберий просил, чтобы эти средства были переданы в имперскую казну. Его просьба при поддержке некоторых сенаторов была выполнена. Тацит назвал это проявлением раболепия, однако огромное состояние Сеяна было приобретено за счет государства и вполне разумно было возвратить туда эти деньги (Тацит. Анналы, VI, 2).
53 Дион Кассий также передает эту историю. Когда ошибка была обнаружена, Тиберий приказал этого человека казнить, чтобы, как осторожно объясняет Светоний, мир не узнал о том, как Тиберий ошибся, но, вероятнее всего, потому, что ничего иного не оставалось.
54 Ясно, что Тиберий страдал от непереносимого душевного стресса. Его друг Марк Аврелий Котта был свидетелем этих событий. Котта весьма неуважительно высказывался о доме Цезаря: среди прочего он называл Тиберия своей любимой тряпичной куколкой (Tiberiolus meus).
Тиберий дошел до того, что потребовал проверить Котту. Он написал знаменитое письмо, начинающееся словами: «Если бы я знал, о чем писать тебе теперь или как это написать, возможно, боги уничтожили бы меня той ужасной пыткой, какою я сам ежедневно себя гублю». Это, безусловно, одно из самых любопытных посланий, когда-либо отосланных в суд, и это, очевидно, письмо нездорового человека. Но он был в состоянии писать, причем письма со здравым смыслом. Он просил сенат не считать преступлением слова, которые сорвались с языка людей без злого умысла, например за обедом. Суд над Коттой, таким образом, не состоялся.
Проф. Рамсей (Заметки к «Анналам» Тацита, VI, 15, также это относится и к Светонию) полагает, что Тиберий страдал нервным расстройством.
55 Впоследствии Тиберий пытался отзываться о ней пренебрежительно, однако его любительские попытки ее оклеветать (это доказывало, что он новичок в этом деле) не имели успеха и не заслуживали внимания.
56 Нерва был человеком неординарным и одним из выдающихся политических деятелей своего времени. Он не только был выдающимся правоведом, но и исполнял обязанности министра по строительству и акведукам, он сконструировал знаменитый туннель Крипта-Неаполитана, который соединил Путеолы и Неаполь. Видимо, многие направления политики Тиберия осуществлялись по инициативе Нервы. Политические симпатии этой семьи, однако, были скорее олигархическими, нежели цезарианскими. Видимо, эта семья не получала в полной мере заслуженного ей доверия.
57 Помрачение ума, которым, видимо, страдал Тиберий, если то, что о нем рассказывают, правда, касалось лишь вопросов, связанных с политикой. Претор Луций Цезиан устроил на празднике Флоралий представление лысых, что всеми было воспринято как намек на определенную личность. Он также нанял пять тысяч бритоголовых факельщиков, чтобы они освещали зрителям путь по дороге из театра домой в ночное время… Определенная личность никак на это не отреагировала.
58 Это если считать, когда 15-е число месяца нисана приходится на пятницу. Когда следует выбирать между 27, 30 и 33 годами, традиционно принимается год 33-й. М-р Шерингэм недавно высказался за год 30-й; однако для наших чисто иллюстративных целей приемлемо любое допущение.
59 Тиберий, кажется, был объят сомнениями, когда подошло время. Он не мог решиться отдать Гаю перстень с печатью и вновь надел его на свой палец, видимо, во время обморока, полагая, что он мертв, Гай сорвал кольцо, и все оставили помещение. Когда провозглашали преемником Гая, Тиберий пришел в себя, увидел, что кольца на его руке нет, приподнялся с ложа, однако тут же упал на пол, где и скончался. Этот отчаянный жест, говоривший о том, что он еще жив, мгновенно разогнал собравшихся, однако, когда Макрон вернулся в помещение, Тиберий был определенно мертв. Макрон мог просто снять с постели покрывала, чтобы накрыть мертвое тело до прихода помощников, этого было вполне достаточно, чтобы распространились слухи о том, что Макрон задушил Тиберия (Тацит. Анналы, 50. Светоний. Тиберий, 73).
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
gruzija materialy po popytke ejo zahvata v avguste 2008 g
trevozhnyj avgust
1 avgusta 1914
Beyker Konstantin Velikiy Pervyiy hristianskiy imperator 231372
Shifman TsEZAR AVGUST 146043
zimnie dejstvija pehotnogo polka v avgustovskih lesah 1915 god
krasnoe koleso uzel i avgust chetyrnadcatogo
v avgustovskih lesah
borba generala kornilova avgust 1917 g aprel 1918 g
francuzskoe obshestvo vremen filippa avgusta
v avguste 96 go
Howard, Robert E Historical Adventure The Lion of Tiberias
David Shotter Tiberius Caesar (1992)
tiberius
Robert E Howard Historical Adventure 1932 Lion of Tiberias, The