Эмир Кустурица
Смерть как непроверенный слух
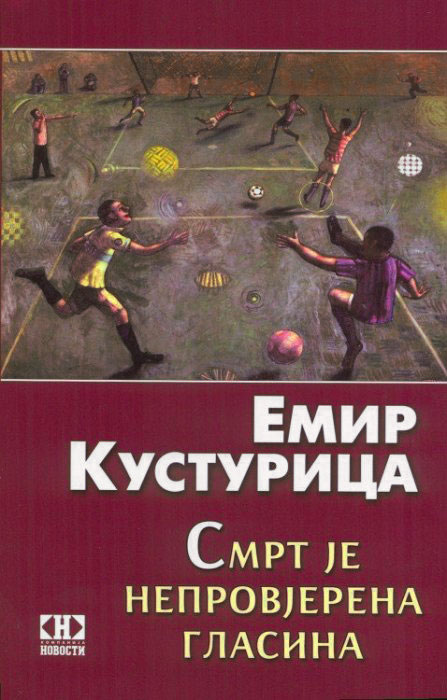
Аннотация
Автобиография Эмира Кустурицы.
Прекрасные живые уличные сценки Сараево, отличный разговорный язык, и — немного занудства, когда автор вспоминает, что он великий режиссер и неплохо б рассказать чего-то о «своем творческом пути». Подробности истории югославской войны, внезапно ставшие актуальными…
Эмир Кустурица
Смерть — непроверенный слух
Яну, Дуне, Стрибору и Майе.
Человек склонен к забвению, и техника его, со временем, стала просто таки примером человеческой изворотливости. Если бы забвение не притупляло так повелительно пугающие мысли, давая разуму возможность с ними разобраться, мозг превратился бы просто в помойку. Да и, без забвения, смог бы следующий день вообще наступить? Что, если б нам приходилось переживать страдание как непрерывный поток из сердцевины души, и забвение не окутывало бы тяжелые моменты нашей жизни, будто облако, затмевающее солнце? Не пережить бы нам такого никак. Так же и с вещами, доставляющими великую радость. Без анестезии забвения, мы б просто дурели от счастья. Только забвение может постепенно смягчить боль потерянной любви. Допустим, засветит вам соперник затрещину на школьной перемене и завоюет симпатию девочки, в которую вы оба влюблены, ведь только забвение сможет потом излечить безвозвратную любовную потерю? Рана излечится так же, как на фотографии со временем тускнеет глянцевый блеск фотобумаги. А как переживает человек исторические потрясения? И до и после них царит забвение. Готовность толпы забывать причины великих исторических поворотов и принимать реваншистские идеи за истину побудила меня для понимания причинно-следственных связей учитывать забвение. Когда я, перед войной в Боснии, видел, как клерикал-националистов называют главными борцами за многонациональную Боснию, лишь для того, чтобы осуществить военно-стратегические цели великих сил, наплевав на потери всех, кроме стороны, эти цели обслуживающей, то понял я истину, что забвение это запруда, куда стекаются беглые мысли из прошлого, и из будущего тоже. Так происходит, потому что мало что в содержательном смысле меняется в человеческой жизни.
После мучений балканских войн и ближе к концу бомбардировок Сербии, я тоже начал практиковать забвение, или, по крайней мере, стараться выдавливать угнетающие мысли. Как раз тогда я начал читать первые лекции и гостил у меня один продюсер, в девяностые годы работавший в Голливуде. Он напомнил мне о существовании такого рода забвения, которое ведет к отрицанию истины. Когда Джонатан, во время Кустендорфского кинофестиваля, включил телевизор и посмотрел русскую программу на английском языке, то пришел человек в большое смущение. Увидел он по телевизору документальный фильм, показанный к годовщине борьбы против нацизма. Сильно взволнованный, пришел он в мой дом и сказал:
— Я думал, что это мы, американцы, освободили Европу от нацизма, а из того, что показывает русское телевидение, следует, что это освобождение без них никак не произошло бы?
— Так ведь не то, чтоб много народу потеряли русские в войне против нацизма, всего каких-то двадцать пять миллионов человек, ерунда, — попытался я донести приятелю эту историческую истину в анекдотическом, преуменьшенном виде.
Боялся я, как бы уважаемый гость не обиделся и не подумал, что тем самым я указываю на пробел в его образовании. Ну, то есть, было очевидно, что пробел этот в его голове произвела пропаганда, и привычку, созданную постоянной обработкой, уже не сломить. Ведь, захоти он выбраться из этой пропасти, то начал бы сомневаться во всем, может, даже и в ценности кока-колы, гамбургера, да и самого Голливуда.
— Лучше забудь все, что услышал, ведь если признаешь этот несомненный факт, придется тебе пойти на переоценку всех своих знаний и представлений, а оттуда уже и до помешательства недалеко. Лучше уж живи с теми представлениями, к которым привык, — сказал я ему по-дружески, а он так меня и не понял, и только улыбнулся.
— Хорошо все же, что я пишу эту книгу, — подумал я после этого. — Пусть останется хоть какой документ о моей жизни. А то получится, как с участием русских в борьбе против нацизма, и кто-нибудь вспомнит обо мне как о пекаре, или, не дай боже, слесаре.
Так, мой голливудский приятель углубил идею о вневременной природе забвения. И это заставило меня задуматься, и как это люди раньше не видели в плесневелом сыре творение истории, раз плесень существует, и дольше самого сыра? Тут важно понять, отчего из великих кризисов происходят войны, а люди, едва выкарабкавшись из исторических изломов, обнаруживают удивительные вещи. Ну так почему антибиотики не были открыты вплоть до Второй Мировой войны? Хотя скрывались в плесени? Потому что это тайное знание искусно скрывалось забвением. Воспоминание, освещающее комнату забвения дневным светом, не открыло двери и не позволило потаенному смыслу пройти коридором памяти и предоставить себя в распоряжение разума.
Кризисы и войны заканчиваются, и забвение, со временем, становится утешением. Потому что, не будь забвения, разве смог бы человек свыкнуться с извращенными идеями современного мира. Как можно, например, согласиться с войной во имя гуманности? Когда принадлежишь к маленькому народу, который отказывается безропотно следовать идеям народов больших, и, в разгар передела мира, слишком часто спрашивает себя: «А где в этой истории место для меня?», то могущественные силы станут бомбить тебя бомбами, и назовут их ангелами милосердия. И забвение, позднее, поможет с этим примириться. Потому что, чем быстрее забудешь о том, как получил по носу, и чем раньше сведешь множество вопросов к одному, то есть, спросишь себя «Где в этой истории я?», тем быстрее сможешь двинуться дальше. Чем скорей забудешь, как был избит на школьном дворе, тем быстрее влюбишься опять. Забвение есть разновидность воспоминания, основа его основ, на него делают ставки и в истории, и в играх. И не только в случае носа, разбитого за плохое поведение.
Когда я был подростком, молодые люди на площадях Нью-Йорка, Лондона и Парижа ждали в очередях появления новых пластинок Битлз, Спрингстина и Дилана. Вместо авторских произведений, сегодня тинэйджеры ожидают I-phone number 4. И тут, снова, помогает забвение. Спрячешь Дилана в забвении, и станет легче жить с тем, что сейчас в центре внимания вещь, а не вызывающие восхищение юноши, которые поют о любви, свободе, и борются с неправдой. Забвение играет решающую роль в понимании основных законов научной культуры, готовой архетипическую культуру спрятать в подвале музейного запасника. Те, кто продвигают I-phone, конечно же, создали свою игрушку не из-за человеческой склонности к забвению, но им помогло то, что человек склонен забывать, и в залах ожидания, где царит забвение, всегда хватает места для молодых людей, раздавленных временем.
Несмотря на то, что я и сам принадлежу к тем, кто верит, что забвение является спасительным для выживания, мне хотелось бы отойти от современной устремленности к забывчивости. Нынешняя толпа следует куриному образу жизни, и помнит лишь происходящее между кормежками. Больше всего потому, что забвение стало основой теории «конца истории», которая овладела миром в девяностых годах прошлого века. Барабанщики либерального капитализма внушали нам, что веру в культуру и национальную идентификацию стоит оставить ради стихии технологической революции, которая станет направлять все течения нашей судьбы, и что рынок станет для нас регулятором важнейших жизненных процессов. Их напористость побудила во мне желание свести счеты с памятью, а заодно и разобраться с забвением.
Хочу написать книгу и постепенно вымести закутки мозга, в которых блуждают воспоминания, те, что, при помощи моих ангелов-писателей, научили меня мыслить и говорить, и высветить в этой мешанине, будто солнцем среди облаков, то, что иначе скрылось бы в безвестности. Не хотелось бы допустить чтобы, после того как я отправлюсь в вечный путь, постукивания души моей оказались навсегда недоступными, пока кто-нибудь из любознательных потомков не попытается установить со мной связь, желая разгадать тайну своего происхождения. Хочу избежать непонимания, и судьбы абонента мобильной связи, которому друзья и родные безуспешно пытаются дозвониться, не зная, что его уже нет среди живых, пока после бесконечных гудков не раздастся голос телефонной барышни, и не скажет:
«Вызываемый абонент в настоящее время недоступен…!»
Земля и слезы
В тысячу девятьсот шестьдесят первом году Юрий Гагарин полетел в космос, а я пошел в школу. Полет первого человека во Вселенную готовился долго, и Гагарину помогала целая команда специалистов. Что же до моей отправки в школу, то она легла на плечи одной моей мамы. Отец в то время был в Белграде, в командировке. Сенка поставила котел, согрела воды, и усадила меня в корыто. И, пока хозяйственным мылом терла она мои плечи, вдруг услышал я, что она плачет.
— Ты почему плачешь, Сенка? Может, это тебе завтра в школу, или, все таки, мне?
Мама ответила, вытирая слезы:
— Я не плачу, сынок, просто жаль мне, что с завтрашнего дня начнется у тебя новая жизнь!
Причин маминого плача я не понял, но вот что касается новой жизни, уже следующим утром все стало ясней…
Шагал я к школе, и рассматривал каменные ступени, выглядевшие так, будто они залиты водой. Было это похоже на интермеццо сараевского телевидения, в постановке Яна Берана, с музыкой Войина Комадины. Я чувствовал себя скорей водолазом, чем учеником, впервые идущим в школу. Знал я, что выгляжу смешным. Длинные рукава моей из черного шелка кроеной тужурки были очень уж забавными. Подвернул я себе эти рукава покороче, но они, из-за гладкости ткани, все норовили развернуться обратно. Дорога в школу заняла у меня целую вечность, хоть и находилась она в трехстах шагах от нашей полуторакомнатной1 квартиры. Думаю, Гагарин быстрей добрался до космоса, чем я до начальной школы «Хасан Кикич».
Первого школьного урока мы ждали в школьном дворе. Один большеголовый рыжий ученик постарше предупреждал новичков об опасности, грозящей от местной шпаны. В школе он был известен тем, что три раза оставался на второй год в третьем классе. Непреодолимой препоной для его развитии стало понимание смысла понятия «разница». Когда спрашивали его, какая разница между курицей и коровой, он отвечал:
— Знаю я, что такое курица. Знаю и корову, но не понимаю, что это — разница?
Намерение этого обалдуя защищать учеников показалось мне симпатичным. Одного я только не понял, почему за это я должен отдать ему свой завтрак? Рыжий протянул ладонь, ожидая, что я положу туда выданные мне на завтрак деньги.
— Ты, головастый, тебе говорю, дурака-то не включай!
— Я, что ли? — начал и вправду придуриваться я.
— Смотрите, какая у него башка! Шмелю и за год не облететь!
Все расхохотались, а я толкнул рыжего в известь, которую рабочие размешивали, чтобы подновить школьный фасад, и убежал в школу.
Целый день в школе я испуганно озирался, не переставая думать о том, что в любой момент меня может найти рыжий. И тут услышал женский голос, превративший мой страх в сладкий трепет. Вдруг все стало как в сказке.
— А у меня отец полковник контрразведки югославской армии.
От отца я знал, что такое разведка, знал и про войну, но никак не мог сообразить, что может значить «контрразведка». Был я глуп, как тот самый хулиган, чьей жертвой я мог стать в каждую секунду.
— Мой папа перед тем, как его перевели в Сараево, охранял собаку Тито!
— А сколько у Тито собак?
— Не знаю, папа никогда не говорит о работе. Вечером он будет меня встречать у школы. Видела я, что произошло, и, думаю, что угрожает тебе опасность. Так что, если хочешь, можешь вернуться домой с нами.
Это новое неизвестное ощущение оглушило меня, будто яркий свет, включенный мамой, чтобы разбудить меня в школу. В такие моменты мне еще очень хотелось спать, но я, наперекор, заставлял себя кривой взгляд превращать в улыбку. Я рано понял, как важно, чтобы человек просыпался как следует. Думаю, приятней все же проснуться, чем не просыпаться. И Снежана эта была похожа на пробуждение. Чувство, посетившее меня около нее, только усиливалось страхом, что вот-вот может появиться головастый.
Стоял я в очереди за булочками, и ученики за моей спиной возмущались. Негодование их вызвал мальчик, слышащий лишь стук своего сердца, и видящий только большие черные глаза и длинные светлые волосы. Были у ней светлые волосы, доставшиеся от мамы-словенки, которая стремглав носилась по кривым горицким улочкам. Парней постарше на улице случай снежаниной мамы вдохновлял на сочинение любовных теорий:
— Бабы, которые ходят быстро, в кровати лучше тех, кто еле плетутся.
— Это чистая глупость, бабы, которые по жизни неторопливые, в кровати — метеор!
— Э, братан, если б скорость была важна! Качество, техника, чувак, вот в чем прикол! — подключалась третья партия горицких безработных.
Дискуссии эти доходили до точки кипения. Часто у противоборствующих партий едва не доходило до драки из-за важных вопросов, связанных с сексом. Я же сначала подумал, что разницу между этими двумя теориями трудно описать. Поскольку никак не мог себе вообразить, как это, когда кто-то в кровати быстрый, а ходит почему-то медленно. Мне это напоминало неторопливую походку тигра, который сперва ударом лапы сваливает жертву с ног, и только потом ее пожирает. Разница только в том, что здесь речь шла не о еде. Отсюда выходит, будто я на стороне тех теоретиков любовной техники, что выступали за неторопливую походку перед попаданием в кровать. А это было не так. Никогда не мог понять, почему это я болею за футбольный клуб «Сараево», а не за «Желью», например. Слово секс звучало похоже на кекс, легко запоминалось, но значение его было мне неясно. Рассматривали они снежанину маму жадно, свистели ей вслед, но боялись ее отца. Едва завидев, как этот офицер возвращается с работы, все хулиганы прятались по домам. Когда этот двухметровый черногорец шел по улице Ябучицы Авды, выглядел он прямо будто из телевизора, где расхаживал бы по аэродромной дорожке перед строем солдат, ожидающих скорого приезда товарища Тито. Когда я смотрел, как он пролезает под бельем, сушащемся на веревке между нашим домом и акацией в конце двора, то мне казалось, стоит ему чихнуть, как все оставшиеся листья с акации осыпятся и осень наступит раньше времени. Такой он был сильный, этот снежанин папа.
Мой утренний путь до школ происходил теперь быстрей полета Гагарина в космос. Взбегал я в гору пулей и еле дожидался школьного звонка, означавшего миг, когда я увижу Снежану. Со скоростью происходила странная штука: если на пути в школу применялась гагаринская скорость, то возвращение напоминало замедленный фильм. Снежанин папа держал меня за руку, и брови его были словно проволочно-жестяные козырьки над бедными домами в Горице. Чтобы скрыть смущение, я стал измерять шагами все основные расстояния на Горице. Таким способом я прятался от взгляда снежаниного папы. Когда я поднимал голову, мне казалось, что он говорит со мной с крыши небоскреба JAТ на улице Васи Мискина, такой он был высокий!
— Тебя, малыш, никто и пальцем тронуть не посмеет! — говорил он, а я молча улыбался и мне хотелось, чтобы путь домой длился дольше гагаринского полета.
Снежана училась в классе 1-В, на втором этаже, так что видеться с ней я мог только на большой перемены. На маленьких переменках учительница не выпускала нас в коридор. То, что мне не удавалось видеть ее столько, сколько хочется, я наверстывал мысленно, ночью, когда мне не спалось, и одна только мысль о Снежане заставляла сердце биться быстрей.
Маму беспокоило отсутствие у меня интереса к школьной программе, и она не пропускала ни одного родительского собрания. Чтобы не позорить ее перед женщинами, учительница разговор с ней оставляла на самый конец:
— Не знаю, что и сказать Вам, товарищ Сенка — говорила Славица Ремац.
— Будь он глуп, было б понятней. А так, ничего не остается, кроме как пытаться пробудить в нем интерес.
— И я не знаю, сестра, что мне делать, у самой не получается, а отцу как скажешь? У него нрав крутой, все нервы себе в партизанах поистрепал. Лучше уж промолчать.
Отцу часто приходилось задерживаться в командировках, возвращаться позже, чем ожидалось, и заново вникать в события семейной жизни. Сенка тогда рассказывала ему самое важное из произошедшего, в том числе и то, что ученик я так себе. А он говорил:
— Ничего, выправится еще, перед ним вся жизнь, — и шел спать, наверстывать бессонные ночи.
Многое в школе мне было непонятно. Никак не мог я взять в толк, для чего нужны уроки труда, или обще-технического образования, сокращенно: ОТО. Пока однажды учительница не сказала нам:
— Дети, сделайте, что хотите. Задаю вам свободную тему.
Тогда я решил сделать трансокеанский лайнер «Титаник», который видел в одноименном фильме. Этот фильм относят к жанру драмы, а я-то думаю, что это была чистая трагедия.
Когда я садился на скрипучее сиденье кинозала Дома милиции, мама показывала мне на часы и шепотом говорила, что заберет меня за пять минут до конца фильма. В большом зале показывали всякие приключенческие фильмы, но бывали и исторические тоже. Только однажды показали «Великого диктатора» Чарли Чаплина, а вместо журнала поставили комедию-короткометражку о том, как Чарли угодил в революцию. Пока я смотрел фильм, Сенка ходила помогать своим отцу и матери, жившими в большом доме на улице Мустафы Голубича 2. Между ним и Домом милиции находился заросший крапивой двор и старый высохший фонтан. У маминой мамы был рак гортани, звали ее Ханифа, и деду Хакии не нравилось, что дочка все время пристает к нему с гигиеной. Встречал он Сенку словами:
— Тебе б, дочка, лучше в свободное время в кино сходить, чем у нас тут мучиться! Тебе что, своего дома не хватает!?
Пока она отскабливала пол на кухне, он разглядывал лохань с водой и говорил:
— Эх, эх, другие толкутся, а с тебя пот рекой…
Никто не понимал, что это значит, но все знали, что это у него такие присказки к разным рассказам.
Мамину маму мы называли мамулей, а не бабушкой или бабкой, как остальные. Умывая и расчесывая больной старушке волосы, дочка теребила отца, чтоб он рассказал нам об умыкании, происшедшем в Доньем Вакуфе. Дед, тогда еще юноша, с помощью братьев и пистолета марки «маузер» выкрал нашу мамулю из ее родительского дома. Он был бедняком, а будущий тесть богатым купцом, который и слышать не хотел о свадьбе. И даже больная мамуля сладко смеялась этой истории, в которой играла главную роль, хотя смех причинял ей боль, потому что доктора удалили ей часть гортани. Дед мой хаживал от смерти на волосок. Был он высоким и могучим, и я верил, что, когда вырасту, стану похожим на него. Больше всего мне нравилась фотография, где он в полицейской форме королевства Югославии. Когда я спросил его, что это за одежда, он сказал мне:
— В сорок первом году я из-за этой формы мог голову сложить. Предупредил меня в ночь перед акцией в Вакуфе один усташ2, мой школьный друг: «Беги, Хакия, получил я приказ завтра тебя ликвидировать!»
— А ты что сделал?
— Сбежал в Сараево и спас себе жизнь!
Одиннадцать раз оставляла меня мама в Доме смотреть «Геркулеса» со Стивом Ривсом в главной роли, и всякий раз, возвращаясь домой, я изображал сцену разрушения греческих храмов. Связывал два кресла за деревянные ножки, и рывком веревки обрушивал кастрюли, горшки и другие предметы, поставленные на их спинки. Все для того, чтобы изобразить сцену, в которой Геркулес, привязанный цепями к колоннам храма, символично вырывается на свободу. Дергает цепи, и храм рушится. Один раз я решил устроить это представление во дворе, но от волнения и напряжения пукнул. Было мне очень стыдно, что все так смеются, а отец утешал меня, лежа на диване, после дневного сна, в хорошем настроении:
— Да не переживай ты так. В Англии все так делают, как приспичит, просто добавляют: «Sorry».
Очень сильное впечатление произвел на меня фильм о том, как затонул самый большой корабль в мире. Испуганный сценами человеческого страдания на этом корабле, а также от страха перед концом света, решил я построить свой собственный Титаник. В фильме меня больше всего поразили сцены с тонущим кораблем. Вода врывалась в спальни, кухни, коридоры, рестораны, везде, где раньше происходила обычная человеческая жизнь. Думал я о том, что в нашей квартире подобное несчастье покончило бы с нами всеми за мгновение ока. Если бы наша полутора-комнатная квартира на улице Ябучицы Авды была Титаником, вода прорвалась бы через окно кухни, где спал я, через коридор залила бы комнату, где спали папа с мамой, и конец истории. Как и большинство детей, я боялся катастроф и судного дня. Всего того, что называлось «концом света», и пытался придумать, как бы защититься от этого страшного конца. Думал я, что если вода окажется в наших комнатах, лучше бы всем нам превратиться в рыб. Когда я рассказал об этом отцу, он улыбнулся.
— В рыб превратиться, хм. Разумно, — сказал он. — Тогда никто не говорил бы «молчит, как рыба», будто рыбы просто так молчат, а они ведь молчат, потому что им все ясно!
Долго собирал я материал для своего Титаника. Из табурета, сделанного моим дедом в Травнике, чтобы женщинам было на что присесть с чашечкой кофе, отломал я деревянную ножку и сделал из нее мачту. После соседка Велинка, зайдя к маме выпить кофе, села на него и грохнулась. Огорчилась она синяку на заднице, и сказала:
— Видишь, Сенка, как бывает — стоит из боснийской трехногой табуретки выдернуть ножку, как все катится к чертовой бабушке3.
На Потекии купил я фанеры, а из отцовской рубашки, привезенной им в пятьдесят седьмом году из Англии, скроил паруса. Захоти я корабль побольше, дома у нас стало бы пусто, как в здании местной управы Горицы. Больше всего я мучился с тем, каким сделать корпус. Разглядывая фото «Титаника» в школьной энциклопедии, я, сам не знаю почему, представил себе Титаник с парусом, что, конечно, истине не соответствовало. И решил я такой корабль создать, как бы, по мотивам настоящего Титаника.
Отец был в командировке и не мог мне помочь. Он был занят на работе важными вещами и часто ездил в Белград. Из школы я бежал сразу домой, чтобы продолжить строительство Титаника, даже в футбол бросил играть. И опять изменилось мое видение времени. Больше не пытался я измерять время, сравнивая его с скоростью, с которой Гагарин покорял космос. Сердце мое билось быстрей обычного, когда я находился около Снежаны Видович и время тоже летело страшно быстро. Вроде, только встретились, а уже пора расставаться. Например, перемена кончилась, или мы дошли уже до ее дома. И только время, которое я проводил, работая над Титаником, замирало совсем. Вот ведь удивительно, думал я. Будто оказываешься в каком-то ином мире, в стране, где из часов вытащили стрелки. Только начинал я делать свой Титаник, как сразу переселялся в мир, не имевший ничего общего с поскрипыванием лебедки за окном, не было и деревьев, гнущихся на ветру, не чувствовал я голода, мог долго обходиться без сна. Наверное, так же чувствовал себя и Гагарин во Вселенной.
— Вот так и живут художники, наплевать им который час, полночь или рассвет, забывают они про еду. Люди искусства живут своей жизнью, затворяются в своем мире и другого для них не существует! — пояснял мне со знанием дела отец про художников и искусство.
Мне же время, потраченное на Титаник нравилось почти так же, как время, проведенное со Снежаной. Каждый вечер точно в пол-седьмого я оставлял работу и выходил на улицу. В это время Снежана Видович возвращалась домой. Спрятавшись за ступенькой лестницы, я кричал:
— Бууу!
Она останавливалась и говорила:
— Ах.
Тогда я, ни говоря ни слова, целовал ее и пулей мчался домой. Ходил я каждый вечер целовать ее так, как взрослые по утрам ходят на работу.
Подготовка деталей корабля длилось долго, а потом у меня возникли большие сложности с клеем. Детали из фанеры и дерева я клеил клеем Охо, довольно дорогим, и поэтому картонную палубу решил склеить простой мукой, размешанной в горячей воде. В результате, схватилось лучше всякого ожидания. Не было никого, кто не поражался бы моему Титанику.
Гагаринская скорость достижения Вселенной снова пришла мне на ум, когда я шел в школу. Нес я свой Титаник и думал, что скоро увижу Снежану Видович. Когда мы выставили свои работы на столах, я, волнуясь, объяснил учительнице:
— Будь у меня еще день, Титаник получился бы лучше.
Славица Ремац нежно дернула меня за ухо и сказала:
— Вот, парень, ведь можешь же, если захочешь. Передай Сене, что получилось. Проснулся в тебе интерес.
Снежана на перемене зашла в наш класс. Посмотрела на работы и приободрила меня:
— Твоя работа просто чудесная. Остальные по сравнению с ней — чушь собачья!
В школе я получил пятерку.
Я бежал вниз по крутой улице, спускающейся от школы к дому. На самом деле, это была необычная улица. Называлась она Горушей, и посреди нее были ступеньки. Район, где я жил, был очень характерным для Сараева. Улицы там возникали на месте крутых спусков и водостоков. Все они были узкими и скатывались вниз к Титовой улице. С гордостью держал я в руках перед собой полутораметровый макет. Полученная пятерка и этот мой Титаник вызвали во мне то, что взрослые называют человеческой гордостью, настроение было праздничное, и впервые никто не должен был говорить мне, что надо держать голову высоко, не горбиться, в общем, все, чем так надоедали мне каждый день. В Сараево люди чаще всего ходят по улицам сутулясь, потому что им все время то слишком холодно, то жарко. Выглядят так, будто метеорологическая ситуация пригибает их к земле. Я и сам из-за холода все время старался съежиться, чтобы стать меньше и не так мерзнуть, а во время жары тащился по Горуше и другим улицам еле-еле, будто мышь. Думаю, что из-за этого стеснения позвоночника, а также из-за чего-то другого, мне не доступного, люди в Сараево часто обращаются друг к другу: — Ты, мышь.
Вприпрыжку бежал я нахоженной дорогой домой, совершенно уверенный в том, что Юрий Гагарин в вопросах быстрого пересечения пространства по сравнению со мной просто дилетант. Влюбленный в Снежану Видович, гордый своим Титаником, хотел я быстрей попасть домой и порадовать маму. Ведь папа был в командировке.
Иногда я останавливался перевести дыхание. Титаник в моих руках выглядел так, будто он больше меня. Пол-метра в ширину, почти столько же в высоту. Увидел я маму, вешающую простыни на веревку между окном и акацией. Она снимала с веревки сухое белье, а мокрое вывешивала, чтоб оно успевало высохнуть к ее возвращению с работы. Работала она бухгалтером на Строительном факультете, и когда кто-нибудь спрашивал ее:
— Как дела? — всегда отвечала: — Нормально, доконает меня эта работа.
Помахал я ей рукой, но она меня не заметила. Закрывали меня от нее простыни, раздуваемые ветром, будто паруса, влекущие невидимый парусник, на котором плыли мы все.
Спрыгнул я со ступенек, и напрямки, еще быстрее, побежал вниз по склону. Как-то упустил я из виду, что гордость и высоко поднятая голова плохо вяжутся с наклонной местностью. Зацепился я ногой за какой-то камень, и, падая, повернулся, чтобы упасть на правую руку, а в левой держал Титаник. Заорал я от боли в суставе правой руки, и сквозь паруса, получившиеся из отцовой рубахи, увидел небо. Тогда впервые в жизни я сказал:
— Черт бы драл это небо!!!
Те сто метров вниз по склону представляли собой длиннейший и тяжелейший путь, с которым мне надо было справиться.
Я плакал и стонал от боли и напряжения. Титаник стал тяжелее настоящего корабля, потому что море было сильней моей левой руки. Во рту я чувствовал вкус глины, размоченной моими слезами; будто поцеловал землю, на самом же деле я говорил:
— Черт бы драл эту землю.
Соседка Велинка пила кофе на балконе третьего этажа, увидела меня и крикнула маме:
— У тебя там ребенок плачет, весь скрюченный от боли, ползет и держит в руке какую-то деревяшку, высоко над головой!
Когда подошла мама, я заплакал еще сильней. Она отряхивала мою распухшую руку, а я спросил ее:
— С ним все в порядке?
— С кем?
— С Титаником?
— Все хорошо, сынок, не беспокойся, все будет в порядке.
Пока меня вели в больницу, мама несла Титаник так же, как и я. Торжественно, несмотря на то, что волновалась из-за моей руки. Даже с доктором, установившим перелом сустава, разговаривала, крепко держа Титаник в руках. Ассистент наложил на руку гипс, и мама отвела меня домой. Боль в руке никак не проходила, но мне было не жаль. Ведь теперь не надо было идти в школу.
Учительница передала мне, что я не должен пропустить ни одной домашней работы. Снежана писала эти задания со мной вместе, и мне уже не хотелось, чтобы рука побыстрей срослась, особенно когда Снежана доставала вязальную спицу, засовывала ее под гипс и чесала там, где чесалось.
Договорились мы, что я буду диктовать задание, а Снежана записывать. Смотрел я и думал, ну почему у меня не сломаны и вторая рука, и обе ноги, тогда Снежана всегда писала бы мои задания. Никогда раньше, и позже тоже, мой почерк не был таким красивым.
Отец снова вернулся из командировки. Он очень огорчился из-за моей сломанной руки. Поцеловал меня и обещал, что сводит в Илиджу, купаться в бассейне, когда придет время. Знал он, что это меня порадует, потому что именно из-за этого бассейна я разок получил от него по шее.
Перед дневным сном, на кухонной тахте, отец детально рассмотрел макет Титаника. В сомнении покачивал головой, заглядывал внутрь Титаника, и сказал мне:
— Отличная работа, только, кажется, корпус тяжеловат. Смотри, поосторожней с ним! Не знаю, выдержит ли клей. Так и во всем нашем социалистическом строительстве…
В день, когда я снял гипс и почувствовал, что моя рука стала невесомой, отец вернулся поздно ночью, в хорошем настроении и верный старой привычке приводить в таком состоянии домой пьяных друзей. Я закрыл глаза и притворился, что сплю. Отец пошел в комнату и разбудил маму:
— Вставай, Сенка, сегодня вечером Насер перешел с русской стороны на американскую!
Мама встала и повела себя так, будто возле нее стоит бочонок белого вина, а не муж. Была она к нему строга. Не принимала во внимание тревогу маленького человека за большую историю. Старалась оставить меня вне магистрального исторического пути:
— Не ори, дурень! Ребенка разбудишь, ему завтра рано в школу!
Его друг с козлиной бородкой сел на табурет, возле моего корабля и зажмуренных глаз, и каждое отцово слово сопровождал вопросом:
— Хорошо, а ты что предлагаешь?
— Ничего ты не понимаешь, — говорил отец.
Мама говорила отцу:
— Неужто везде должна быть эта твоя политика, что, мир без нее пропадет, что ли?
Отец говорил:
— Считаю, что серьезно нарушено равновесие в мире, дай мне выпить.
— Убирайтесь вон оба, разбудите ребенка.
— Что ты предлагаешь? — спрашивал моего отца человек с козлиной бородкой, и он сказал:
— Предлагаю, раз мы не можем поменять мир, надо поменять кафану4
— Пошли вон отсюда! — шептала мама, которую обидело, что отец сравнил наш дом с кафаной.
Отец поцеловал меня, не зная, что я не сплю, а его приятель постоянно задавал тот же вопрос:
— Что ты предлагаешь, Мурат?
Отец не отвечал, а человек встал со стула и, с трудом удерживая равновесие, заплясал как Чарли Чаплин в фильме «Золотая лихорадка». Из-за его серьезно нарушенного равновесия, его мотало, как на качелях, сначала в одну сторону, потом в другую, и так несколько раз, пока из спальной раздавались приглушенные голоса, там мама с отцом ругались из-за Насеровой измены. Отцовский друг, конечно, в конце концов потерял равновесие и зацепился за мачту Титаника. Я смотрел на это сквозь прищуренные веки и готовился как Муфтич, вратарь клуба «Сараево», прыгнуть к Титанику и предотвратить катастрофу. Корабль закачался, и уже накренился, падая, но он успел с пола схватить его за днище. И, возвращая мой корабль на радио, сказал:
— Не дай Боже случиться второму затоплению Титаника.
Я на своей тахте вздохнул с облегчением и накрылся одеялом с головой, чтобы человек с козлиной бородкой меня не видел. И именно когда, казалось, все опасности уже позади, человек с козлиной бородкой поставил точку в истории моего Титаника. Выходя, он хлопнул дверью на кухню так, что вибрация по тонкой социалистического строительства стенке передалась радиоприемнику, а с него на корабль. От этого мой Титаник упал, в падении сломал мачту, а клей из муки, оказалось, не так уж хорошо держал палубу. Перед моими глазами погибал мир. Долго я плакал той ночью и, в конце, сказал:
— Черт бы драл социалистическое строительство.
Как я в первый раз не увидел Тито
В тысячу девятьсот шестьдесят третьем году я впервые пересек границу СФРЮ. Мы с Сенкой отправились в долгий путь в Польшу, где жила моя тетка Биба Кустурица. Муж ее, Любомир Райнвайн Бубо, был корреспондентом Танюга в Варшаве, а сама она работала в Международном Рабочем Институте. Для моей тетки это была не только вторая уже заграничная работа, но и второй муж. После развода со Славко Комарицей, генеральным консулом Югославии в Берне, она опять вышла замуж. По этому поводу я спросил отца:
— А что это значит, что тетка Биба перелезла с коня на осла?
Отец любил, когда я брал с него пример и рассуждал логически, и этот новый теткин муж ему тоже не нравился:
— Что-то, малой, многовато ты спрашиваешь для своего возраста!
Не только приятели моего отца пострадали из-за любви к матушке-России. Поскольку в школе я учил русский, многие из учеников, с которыми мы ежедневно занимались вместе, были детьми заключенных на Голом Острове5.
— Хотел бы я работать на почте, чтобы каждый день бить штемпелем Тито по голове! — сказал мне по секрету Душко Радович, сидевший в классе передо мной.
Необычную профессию почтового чиновника, который штемпелем гасит марки с изображением Тито, он выбрал не потому, что был плохим учеником. Был он лучшим математиком школы, и все мы списывали у него домашние задания. Врезать Тито штемпелем он хотел за то, что его отец восемь лет отработал на Голом Острове… Рассказывая об этом штемпеле, он стучал кулаком по столу, сначала слегка, а потом все сильней. Похож он был на члена албанского культурно-художественного коллектива, в котором танцоры быстро впадают в транс, когда их начинает нести танец. Тщетно пытался я его утихомирить и предупреждал, что его выгонят из класса.
Я же товарища Тито воспринимал, как дорожный знак на нашей улице; потому что он присутствовал повсюду и везде был равномерно распределен. Отцовский друг инженер-электрик Сулейман Пипич утверждал, что Тито надо воспринимать как судьбу. После шашлыка в саду этого Сулеймана развернулась дискуссия о Тито. Мой отец говорил:
— Да это же обычный австро-венгерский аферист.
Инженер Пипич утверждал:
— Тито это наша судьба.
— Это чисто мусульманское понимание, у вас все судьба. Что этот Тито святой, что ли, какой-нибудь?
Как представитель технической интеллигенции, этот Сулейман в Судане пользовался плодами титовой политики неприсоединения. Заработал там денег и построил дом прямо над Башчаршией. И еще у него осталось, так что он ссудил нам денег на покупку «фольксвагена 1300».
— Я тебе, Пипич, вот что скажу, этот официантишка нам всем еще попортит жизнь, — говорил мой отец, а мама пугалась и постоянно дергала его за рукав:
— Мурат, у стен бывают уши!
— Пускай бывают, — говорил он. — Я свободный человек! А он обычный диктатор!
— Преувеличиваешь, Муро, — шептал инженер Пипич.
— На самом деле в сорок восьмом он сказал Сталину ДА, а мы-то все думали, что это было НЕТ. Его «Нет» означало «Да» Ялте, потому что там все уже давно было обговорено, а он тут корчил нам из себя героя. Все это обычная мимикрия!
Я не знал, что такое мимикрия, но слово диктатор было мне известно из фильма Чарли Чаплина. Хотелось мне понравиться отцу, и я спросил:
— Это, папа, значит, что он как Чарли Чаплин?
С опаскою ожидал я ответа, но отец сказал:
— Еще смешней, сынок, и гораздо печальнее!
Отец не любил Тито за то, что большинство его товарищей по партизанским временам, из-за их горячей любви к русским и Советскому Союзу, оказались на Голом Острове. Мой отец говорил маме:
— Он (Тито) невинных людей послал на Голый Остров, чтобы отмыться самому. Это же он сам их и учил любить Сталина и Россию. В этот лагерь на Адриатике Тито слал своих противников, чтоб отучить их от любви к Сталину. Он считал, что это лучший метод их перевоспитания, это он от Сталина научился, который тоже своих соперников ссылал в концентрационные лагеря.
Мой отец не пострадал из-за резолюции ИБ6, но был из Белграда возвращен в Сараево. По всему судя, страдал он по какой-то другой причине — одни страдают из-за ИБ, другие из-за ЕБ… Но главное, что в те времена возвращение из Белграда было для государственных чиновников наказанием. Мне он сказал, что причиной возврата была дружба с тогдашним зятем, который тоже подставился, когда Тито перестал любить Сталина. Лучше всего о моем отце сказала мама:
— Добрей моего Мурата не сыщешь, вот он и предается порокам, чтоб передохнуть от своей доброты.
Отец работал на госслужбе и доволен ей не был. Был он начальником Министерства информации Социалистической республики Боснии и Герцеговины, а потом и зам. министра. Хорошо знал английский, но больше всего нравились ему русские песни.
В этот вечер, после обсуждения Тито, я заснул у мамы на коленях, а отец пел «За Байкалом». Вместе с запахом жира с мангала, в сон мой проникла Снежана Видович. Она и раньше появлялась под звук русских песен, но на этот раз, в саду инженера Пипича, была она в совсем другом образе. Одетая в подвенечное платье, несла с собой какой-то обрубок орехового дерева. Узнал я в нем факел титовой эстафеты, которую пионеры, комсомольцы, крестьяне и рабочие, вручали Тито на день рождения.
— Это Титова эстафета, — сказала она мне. — А мы с тобой должны вручить ее Тито на его день рождения!
— А чего ты в свадебном?
Она ответила:
— Потому что мы с тобой станем мужем и женой!
Я сказал:
— Жениться согласен, но эстафету вручить не смогу, никак не получится, я же никакой не отличник, это первое, а второе: я Тито лично не знаю, видел его только на фото.
— Так, значит, не хочешь на мне жениться? — спросила Снежана, а я стал оправдываться:
— Как же не хочу, да я ради нас двоих готов на все!
— Тогда решай. Если хочешь моей руки, возьми эстафету и иди со мной, а если нет, то я пойду одна, а ты ищи себе другую жену!
Взял я эстафету в одну руку, другой схватил Снежану, и мы побежали вниз по Логавиной улице. Все вокруг взволнованно кричали: Тито! Тито! Все как наяву и я, ошалевший как угодивший в революцию Чарли Чаплин, смотрел по сторонам, держал в руках ту самую деревяшку и, наконец, проникся народным весельем, радостью, перешедшей из яви в мой сон. По аллее пошли мы к стадиону Кошево. Но там Тито не оказалось.
Снежанин папа, полковник Видович, тот, который с бровями как жестяные козырьки, вышел из толпы и сказал:
— По соображениям безопасности вынужден был изменить маршрут передвижения Тито, чтоб не получилось, как с Францем-Фердинандом!7
Полковник шепнул мне на ухо:
— Сидит дед в гостинице «Загреб» на Мариином дворе и ждет вас там, детки, поспешите!
Нашли мы его в прокуренном зале гостиницы, играющим в покер с толстой кубинской сигарой в зубах. Около Тито сидел какой-то карлик, чья голова была обмотана скатертью. Был тут и человек в белом, с шапочкой как у пекаря Кесича на голове, и один высокий арап. Остановились мы у стола Тито, взволнованные и запыхавшиеся, и он сказал:
— Здравствуй, маленький Кустурица, ну как же ты вырос, ничего себе!
А этот со скатертью на голове и арап говорили:
— Машалла, машалла, — а третий не говорил ничего.
Вместо порученного текста о любви, я, внезапно, эстафетой из орехового дерева ударил Тито по голове и заорал на него:
— Разве мы не договаривались, что ты будешь ждать нас на Кошево? Отвечай, диктатор хренов!
Ударил я его раз, другой, три раза. Кричал я во сне:
— Это тебе за Шибу Крвавца, это за Зулфу Бостанджича, за всех папиных товарищей, диктатор хренов!
Снежана Видович внезапно подобрала подвенечное платье и стала бить его ногами, а он только прикрывался.
— Почему не подождал нас, диктатор! Отвечай!? Отвечай!? — кричал я и в конце концов проснулся.
— Что с тобой, сынок? — спросила меня мама, а я ей ответил:
— Ничего, приснился мне Чарли Чаплин!
По пути домой отец за рулем машины часто смотрел в зеркало на мое лицо. Потом подмигнул и сказал:
— Ты мой сынок!
Это был для меня значительный момент.
Хотя значения этого слова я не понимал, но все же мне было обидно, что я еще не достиг половозрелости, как мои родственники: Эдо, Дуня, Сабина и Аида. Все они жили в большом доме дедушки на улице Мустафы Голубича дом 2. Этот дом был куплен на сбережения и приданое, которое дед все же получил после тайной свадьбы. Только вот не понимал я, на какие средства умудрялся он содержать такую громадину, которую построил какой-нибудь барон, судя по фонтану, сейчас заросшему бурьяном, и просторной террасе с мраморным полом.
Мама объяснила мне:
— С аренды, сынок.
Не знал я, что это значит, но видел, что живут там две семьи, которых зовут по-другому. Это были съемщики. Одни жили на втором этаже, у входа в большой коридор и звались Котниками, а другие назывались Бегичами и жили внизу.
Фасад этого дома потихоньку разрушался, но, как всегда бывает с красотой, обветшалость только подчеркивала ее, и здание запомнилось мне как самое в моем детстве чудесное.
Отец мой не был против, чтобы мы проводили в том доме выходные, но говорил:
— Везде в мире люди женятся и уходят от родителей, начинают собственную жизнь, а твоя семья, Сенка, живет в средних веках. Никак не оторвутся они от материнской юбки.
Был это один из редких случаев, когда мама соглашалась с отцом.
— Нету жизни в коммуналке, — говорила она и была горда нашей полуторакомнатной квартирой.
А мне эта коммуналка нравилась, потому что не было у меня ни брата, ни сестры. Когда я оставался ночевать у Эдо, Дуни, Сабины и Ады, мне казалось, что теперь они мои сестры и брат.
Сенкина мамуля на каждое мое посещение готовила картофельную питу из ржаной муки. Никогда, ни одна пита не могла сравниться с питой нашей мамули. Сенка говорила, что это из-за духовки и печки из листового железа, которую можно было топить и дровами и углем. Пока я ел, мамуля гладила меня по голове, а я спрашивал, что она держит в сундуке под кроватью, который мы еще называли «таинственным мамулиным сундуком». Трогал я ключ, будто на ожерелье висевший у нее на под воротником, и слушал, как она отвечает:
— Сплошные бриллианты с сапфирами, — и тихонько посмеивалась, насколько при ее болезни это было возможно. — Когда переселюсь на тот свет, оставлю все деткам.
Никто из нас не хотел, чтобы мамуля умерла, но Эдо, Дуня, Аида, Сабина и я лежали на животах и гадали, что же скрывается в «таинственном сундуке нашей мамули». И еще мы много мечтали о том, как распорядимся унаследованным богатством. Эдо сказал, что он превратил бы бриллианты в деньги и поехал в Лувр, смотреть картины великих мировых художников. Сказал мне, что в Париж стоит уехать только ради улыбки Моны Лизы! Я же хотел купить «Улицу снов». Так мы называли Штроссмайерову улицу, которая каждый Новый Год выглядела как детский рай. А Дуня хотела деньги отложить, чтобы, когда вырастет, у нее были сбережения на собственную семью. Аида мечтала стать Элизабет Тейлор, потому что у нее были фиолетовые глаза, а ее сестра Сабина говорила:
— Не надо мне никаких денег, просто хочу, чтобы папа перестал пить.
Дядя Адо, аидин и сабинин папа, был офицером авиации, и всякий раз начинал фразу необычным образом. Сначала он говорил:
— Несмотря на всю мою интеллигентность, — а потом договаривал оставшееся. Когда я спросил его:
— А кем ты работаешь, дядя Адо? — он ответил:
— Несмотря на всю мою интеллигентность, я пилот, сынок.
— А разве пилоту не нужна интеллигентность?
— О, это конечно, но я, будь поудачливей, мог бы управлять космическим кораблем.
— Как Гагарин? — спросил его я, а он мне отвечал:
— Мы страна маленькая, нету у нас средств на космические затеи, тут нужны большие инвестиции.
Дед терпеть не мог Аду Бегановича, и сказал мне по секрету:
— Какой еще пилот, завхозом он работает, в райловацких казармах.
Из-за того, что форма у него была синяя, дядя Адо на мой вопрос не пилот ли он ответил утвердительно, чтобы не разочаровывать меня, потому что, как и вся детвора, я грезил полетами. Умел он и порадовать моего двоюродного брата Эдо и, хоть в чем-то, заменить его отца Акифа. Как только на сараевских прилавках появлялись первые бананы и апельсины, он по дороге с райловацких казарм покупал эти южные фрукты и сначала ставил их на стол в комнате, где жили Эдо, Дуня и их мама Биба. И только после шел радовать собственных детей. На работу Адо шел безукоризненно отутюженным, а возвращался со следами побелки и глины на синей форме. Когда он решил завязать с выпивкой, моя тетка Иза была просто счастлива.
Сказал он ей:
— Я перестану пить, а ты сядешь на диету!
Тетка была счастлива, что Адо хочет отказаться от алкоголя, но ее обеспокоило, что придется теперь ограничивать себя в еде.
— Ты же знаешь, Адо, я ем просто символически!
Дядя был неумолим:
— Никакого «символически». Смотри, как ты растолстела. Все деньги будем теперь класть в банк, на двухгодичный вклад, пока у меня не кончится кризис!
Тетка сделала как он сказал, но уже на следующей неделе Аида с Сабиной прибежали в дедушкину комнату:
— Там папа хочет побить маму, чтобы заставить ее снять деньги со вклада!
Когда дедушка возвращался с работы, мы с нетерпением ждали его перед домом. Приносил он сухие сливы, инжир, те маленькие подарки, которые мог позволить себе чиновник адвокатуры. Я не был близок с дедом как Эдушка и это меня огорчало, но их привязанность была естественна, потому что они жили под одной крышей. Ближе всего своему деду я был, когда он учил меня свистеть. Все думали, что его любимая песня «Кует коня Муйо, кует на полнолунье», а на самом деле он обожал «Когда святые маршируют». Увидев, что, увлекшись свистом, я не замолкаю допоздна, говорил:
— Не свисти ночью в доме, призовешь шайтана.
Чтобы подбодрить больную мамулю, он говорил:
— Слышишь, старая, сегодня я побрился, не буду уж ночью по тебе елозить.
Мы с Эдо видели, как он лежит на балконе и неподвижно таращится на фото голых женщин из журнала «Старт». В этом не было бы ничего необычного, если бы фотки не висели на веревке вместе с сушащимся бельем. Я спросил его:
— Спишь, дедушка? — и он быстро спрятал порнографический журнал под подушку, собрал фото с веревки и сказал:
— Смерть, детки, она как рубашка, всегда возле человека.
Не понял я связи между голыми женщинами и тем, что смерть как рубашка, и спросил:
— А как насчет майки, она ведь еще ближе человеческому телу?
— Хорошо рассуждаешь, малыш. И, главное, правильные выводы делаешь.
Каждым вечером, ровно в десять, дед становился серьезен. Это было время, когда домой возвращался ночевать мамин брат Акиф. За полчаса до его прихода дедушка заходил в детскую и со старого проигрывателя, оставшегося в доме от прежнего владельца, господина Фишера, снимал пластинку «Битлз»:
— Ну-ка, всем писать и спать!
Я похвастался, что уже сходил пописать, а он сказал:
— Не считается, иди писай еще раз.
Вечерний покой его Акифа, эдиного и дуниного отца, соблюдался в доме строго, и все с благоговением смотрели, как дедушка проверяет, все ли готово к к безмятежному приходу его сына. Акиф был представителем Филипса в Боснии и Герцеговине и был лично знаком с голландской королевой. После войны он выпал из какого-то джипа и заработал эпилепсию. Это была официальная версия. Мой отец в историю о падении из автомобиля не верил, утверждая, что нецивилизованно скрывать важные вещи от ближайших членов семьи:
— И у Достоевского была эпилепсия, чего уж тут… Но такие вещи надо знать заранее, какая к черту автокатастрофа, эпилепсия болезнь наследственная! — говорил отец раздраженно, давая маме понять, что только с божьей помощью Эдо или Дуня не унаследовали такую тяжелую болезнь. Из-за опасности эпилептического припадка, дедова кровать стояла около двери из кухни, становившейся ночью дедовой и мамулиной спальней, в комнату их сына. Я часто видел, как дядя Акиф шагает по коридору к себе в комнату. Один раз, спрятавшись за дверьми комнаты, в которой жили Эдо, его сестра Дуня и их мать, я приложил глаз к замочной скважине. Не заметил я, как щеколда на дверях сдвинулась, защелка замка выскользнула из гнезда, двери открылись и я вывалился в коридор. Дядя увидел меня лежащим на полу и, приподняв шляпу, отметив эту необычную встречу. Выглядело это так, будто он приветствует какого-то важного господина. Погладил он меня по голове и спросил:
— Как дела, Эмир?
Я пожал плечами, а он надел шляпу обратно на голову и ушел в свою комнату. Когда я спросил Эдушку почему его отец с матерью никогда не разговаривают, он сказал мне:
— Ему кажется, что она его обманывает, но и она уверена, что ее обманывают тоже, а вот кого они всем этим задолбали, так это нас с Дуней. Перед тобой он значит шляпу снимает, а меня вообще не видит, когда идет?!
Так отгадал я тайну дедовой поговорки «Другие толкутся, а с меня пот рекой!»
Проигрыватель господина Фишера стоял в комнатке, в которой Сабина и Аида проводили больше всего времени. Они здесь слушали Битлз и не пропускали ни одного концерта Джордже Марьяновича. Водили они и меня в Дом Милиции на его выступление. В конце исполнения песни Адриано Челентано «24 тысячи поцелуев» он входил, как объяснили мне Аида с Сабиной, в такое состояние, в экстаз. Толпа кричала стриптиз, стриптиз, а Джордже сначала скидывал пиджак, крутил его над головой, а потом кидал в публику. Это и был стриптиз.
Дома после концерта Аида с Сабиной устроили танцы. Ставили твист, крутились по кругу и жевали одну жвачку на двоих. Танцуя, они нагибались друг к другу, выпятив назад задницы, передавали жвачку изо рта в рот, и растягивали ее. Аида в конце сказала:
— Эти Битлз просто супер, а песня «Мишель» — это Тито!
— Боже, Аида, ну как ты можешь говорить такие глупости! — ругала ее Дуня.
— Какие глупости, просто сказала, что мне нравится песня как ТИТО.
— Ну как ты можешь оскорблять Тито?
— Да никого я не оскорбляю, просто сказала, что песня офигенская, прямо как ТИТО.
— Тито это табу, и говорить тут не о чем, — сказал некто Котник, из съемщиков, который также достиг половой зрелости. Он был комсоргом Второй гимназии, и влюблен в Дуню. Что выдавали его очки, мутневшие, когда он смотрел на нее. Эдушке он не нравился. Когда я потом спросил маму, отчего так, у нее уже был готов ответ:
— Братьям очень трудно свыкнуться с тем, что на их сестру пялятся парни.
— Так ведь, наверное, сестра за брата все равно же выйти замуж не сможет, так что ничего не получится, — сказал я маме, и она посмотрела на меня в замешательстве.
Эдо читал книги и потому смог ответить Котнику:
— При социализме не бывает табу! Подобные вещи есть порождение религии, а не передовых обществ. Табу надо разрушать!
И Котник замолчал, хоть и не был согласен. После короткой дискуссии Эдо ушел в свою комнату рисовать портреты. Это придало Котнику смелости, потому что теперь его мнение по поводу Тито и социализма вновь обрело вес.
Мне ужасно хотелось подключиться к обсуждению Тито и рок-н-ролла. Только я не знал, чем произвести впечатление, пока мне не пришло в голову рассказать свой сон о титовой эстафете. Этот Котник сразу же так выпучил на меня глаза, что я поспешил уточнить, что сон этот видел один мой одноклассник.
Когда я добрался до конца и рассказал, как вымышленный приятель колотил Тито эстафетой, он стал качать головой и, тяжело дыша, сказал:
— Это дело серьезное, я вот слышал, что есть в нашей гимназии один черногорец, чей отец хотел бы работать на почте. Чтобы каждый день бить Тито по голове, гася штемпелем марки на письмах! Таких надо без суда и без следствия, к стенке и пулю в лоб! — и я застыл от страха.
Только тогда понял я, какие опасные сны мне снятся. Все согласились с Котником, только Златко Бегич, съемщик с первого этажа, молчал. Отец его был большим мусульманином, поэтому его сын не рассуждал ни о Тито, ни о Битлз. После я Снежану Видович тоже назвал Тито, чтобы избежать неприятных последствий своего сна и не выделяться из окружения. И в этом не было ничего необычного. На моей улице, когда парень описывал красоту девушки, он говорил:
— Она, отвечаю, красотуля прямо как Тито.
А когда кто-нибудь забивал на футбольном матче мастерский гол, говорили:
— Гол был просто ТИТО!
Как и я, Эдо с удовольствием сбегал из своего дома, и каждую вторую неделю приходил в нашу полуторакомнатную квартиру ночевать. Он родился в тысяча девятьсот сорок восьмом году и поспорил с моим отцом, что мама родит ему ребенка мужского пола. Отец считал меня девочкой до того самого дня, пока я не заплакал, появившись на свет двадцать четвертого ноября тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Спор выиграл мой двоюродный брат, к радости моего отца. И не жаль ему было проспоренных ста динаров. Отец зарабатывал восемь тысяч в месяц, а «фичо8» стоил шестьдесят тысяч. Когда ему было три года, моя мама повела Эдушку купаться, и на Дариве, где Миляцка глубока, он едва не утонул. Остался он в живых, потому что судьбою был связан с моей мамой. Она полезла купаться, не сообразив, что трехлетний мальчик может пойти в воду за ней. Сенка поплыла, а Эдо поскользнулся на камне, ушел в воду и сразу начал тонуть. Когда он тонул как слепец во мраке в мутной Миляцке, то умудрился ухватить, бог знает как, мою маму за ногу — тем и спасся.
Эдо Нуманкадич хотел стать художником, но все домашние склоняли его к электротехнике. С моим отцом он разговаривал обо всем на свете, больше всего о политике, но в своих спорах не избегали они и искусства. Муратово слово было решающим в определении дальнейшего образования моего двоюродного брата:
— Да вы с ума тут посходили, зачем мучаете человека. Чтобы художник учил электротехнику!
После Эдушка поступил на литературу и рисовал абстрактные картины. Был он благодарен моему отцу, не только потому, что тот, как все герцеговинцы, любил порассуждать, но и еще и по той причине, что со своим отцом Эдо не разговаривал никогда.
Много спорили они по поводу изобразительного искусства. Отец считал, что все эти современные картины похожи на кухонный линолеум, а Эдо защищался, говоря:
— Это же спонтанность, особый вид выражения свободы. Так же как и рок-н-ролл это судьба, современное молодежное движение. Так молодые сопротивляются старшим, — говорил мой брат.
— Это, дядя, наша оригинальная экспериментальность, — объяснял Эдо, но отец был неколебим:
— На хрен экспериментальную оригинальность. Между королем Лиром и этой твоей «Лысой певуньей» я всегда выберу «Короля Лира», — мой отец прочитал Шекспира в оригинале, и мы все были очень этим горды. Больше всего моя мама, когда соседки говорили ей:
— Хорошо тебе, твой Мурат говорит по-английски почти без акцента, а мой запинается и в сербско-хорватском.
Когда мой отец услышал это, то не смог удержаться, чтобы и в эту историю не приплести Тито.
— Как же ему не заикаться, если у него и президент говорит по-нашему с сильным акцентом.
Самым известным из приходивших к нам страдальцев 1948 года был Хайрудин Крвавац, режиссер приключенческих фильмов о нашей Народно-освободительной борьбе. Он пострадал оттого, что сказал про некоего Йово что-то одобрительное, а тот Йово уже был на Голом Острове. А поскольку дядя Шиба был настоящим господином, то не мог отступиться от сказанного. Или, может, поначалу просто не верил, что оценка человеческих качеств товарища может привести его на каторгу.
— Не было худшей каторги в новейшей человеческой истории, — говорил мой отец.
Однажды на заострожском пляже мы с Сенкой еле удержали отца от драки с неким Брацо с гор. Этот Брацо ненавидел русских и сказал:
— Всех бы вас, которые русских любят, загнал бы в лагерь, а потом отправил в Россию! На хуй всех отсюда!
Шиба Крвавац и отец разговаривали на кухне, а я снова притворился спящим. Тахта на кухне уже стала местом, откуда я, с закрытыми глазами, изучал уроки истории. Мама ушла спать и не пыталась скрыть радости от того, что отец дома, чувствовалось это по ее голосу:
— Закрой двери, проверь щеколду, и не шумите тут.
Отец открыл бутылку рислинга и я знал, что это будет долгая ночь.
— Все здесь когда-нибудь развалится, — говорил он. — Везде в мире доктора и адвокаты живут на своих виллах, а у нас наоборот. Адвокаты и доктора мыкаются в многоэтажках, а деревенщина выстроила себе виллы. Теперь это ни крестьяне, ни рабочие. Не продлится это долго…
— За бельведеры! — сказал дядя Шиба моему отцу и они выпили, и говорил в основном отец. Дядя Шиба молчал или пытался свернуть разговор с политики на кино, но безуспешно. Отец не перестал говорить, даже выйдя отлить. Кричал он из туалета, и его голос гулко разносился оттуда:
— Какая еще демократия, о чем ты говоришь! Нету здесь демократии, нет, и не может быть!
— Есть, Мутица, есть, как так нету!
— Когда казна пустая, не может быть демократии, бельведер ты мой!
Видел я, как дядя Шиба встает со стула, показывает на люстру, закрывает ладонью рот, и машет рукой, пытаясь издали остановить отцово хуление товарища Тито. Вернувшись, отец застегнул ширинку и смотрел как дядя Шиба пантомимой объясняет ему опасность, грозящую от хитро спрятанных жучков подслушки.
— Все это аферисты, а Тито между ними самый большой преступник и аферист.
Отец никогда не запрещал мне носить длинные волосы, но мама говорила, что надо стричься из гигиенических соображений. Битлз и Стоунз я слушал только по радио Люксембурга и, зажмурившись и тряся головой, представлял себе, что волосы у меня до плеч. Уже позже отец купил в кредит проигрыватель и лыжи риецкой фабрики. Лыжи прослужили долго, а проигрыватель быстро сломался. Испортилась игла, оттого что не алмазная. Больше всего я слушал Стоунз. Нравился мне их грубый звук больше, чем Мишель, песня, которая Тито.
Однажды мне надоело поджидать Снежану Видович у ее дома и кричать:
— Бууу, — чтобы она:
— Ааааа.
Слышал я, как пацаны постарше говорили, что в сливовнике у мусульманского кладбища мужчины с женщинами «трахаются».
И я твердо решил вырасти. Мама ушла ухаживать за родителями:
— Я быстро вернусь, не уходи никуда.
Только Сенка скрылась из виду за лестницей, в кустах акации, я побежал в снежанин двор и позвал ее заниматься арифметикой. Она пришла в нашу квартиру с тетрадью в руке.
— А где твои родители?
Хотела она вернуться домой, когда увидела, что я там один. Поставил я на проигрыватель Стоунз, и Снежана не смогла устоять перед голосом Мика Джаггера, которого я называл Вождем Губошлепом. Я отплясывал твист и, кашляя, курил свою первую сигарету. От крепкого табака я задыхался, разодрал он мне горло. Была это мамина «герцеговина» без фильтра. Снежана стояла рядом и смотрела на меня глазами циркового гипнотизера. Я оцепенел, а она начала танцевать так быстро, что глаза мои завертелись будто барабан в стиральной машине. Кинул я в рот жвачку и тоже стал танцевать, нагибаясь к Снежане так, как это делали сестры Аида с Сабиной. Она улыбнулась, подхватила игру и наклонилась ко мне. Когда дело дошло до обмена жвачками, я спросил ее:
— А тебе нравится трахаться!?
Она резко остановилась и выключила проигрыватель. Увидел я, что происходит что-то непредвиденное и сказал:
— Старшие пацаны говорят, это просто и приятно. Потремся друг о друга хорошенько и будет класс.
Снежана залепила мне пощечину, взяла тетрадь и выбежала вон, бабахнув дверьми.
Шло время, а я все еще не видел Тито. Только на картинках и во сне. И вот по нашему классу прокатилась новость: завтра в Сараево приедет Тито.
Был сумрачный ноябрьский день. Нас, учеников начальной школы «Хасан Кикич», отправили ждать Тито. Наше место было на Мариином Дворе, около христианской церкви, построенной в неоромантическом стиле. В нашей стране не было классов и люди не делились на богатых и бедных. А важны были другие довольно странные различия, из-за которых и сердился так мой отец. Если твоей школе по случаю приезда товарища Тито выделили для ожидания центральную улицу, которая во всех городах нашей страны называлась Титовой, значит, ты ходишь в хорошую школу. А если засунут на окраину, как это случилось с нами, значит школа твоя — плохая.
Замерзшими руками толкались мы с девочками, хватали их за косички, барахтались прямо как детвора. Я пытался углядеть Снежану, которая была мой Тито. Больше я не смущался. Был я готов разобраться с осложнениями, возникшими в нашей связи. Наша классная метила в директорши, поэтому на отведенное место наш класс прибыл первым, и мы первыми встали в строй. Я дергал за волосы одну такую, Амру, у ней еще косички были сплетены как на булочках пекаря Кесича. Говорил я ей, что она выглядит, как пекарская дочка, а она отвечала:
— Моя папа газетчик, но не такой, который газетами торгует, а который в них пишет.
И тут около нас прошел класс 1 в. Снежана Видович увидела, как я дергаю Амру за косу. Она посмотрела на меня с усмешкой, и мне даже показалось, что она сказала что-то издалека. А потом пропала в толпе, и мне хотелось бы верить, что это было «люблю тебя», но не был я на сто процентов в этом уверен. Дул ветер, так что мне могло и послышаться. Позже пошел дождь, потом дождь превратился в мокрый снег, а снег в знаменитую сараевскую слякотную дрянь.
Напряжение ожидания Тито все росло. И тут вдруг мимо проревел кортеж черных мерседесов, обдав нас грязной водой из выбоины в асфальте. Пока все махали руками и аплодировали, я растерянно озирался.
— Так где же Тито? — спросил я классную руководительницу, а она дала мне подзатыльник и сквозь плач сказала:
— Да вот же он, дурень, не видишь что ли.
Разозлилась моя классная оттого, что я задал свой глупый вопрос именно тогда, когда ее волнение из-за физической близости маршала Йосипа Броз Тито было так велико. Встал я на цыпочках и, пока машина удалялась в сторону Башчаршии, безуспешно пытался увидеть Тито. Так я не увидел его в первый раз. Полковника Видовича, чьи брови похожи на жестяные козырьки, перевели в Словению, а моя первая любовь Снежана Видович оказалась, выражаясь понятиями Горицы, неосуществленной.
Посещение тетки Бибы и поездка поездом в Варшаву были не только моим первым пересечением границы СФРЮ. Поездка эта превратилась для меня еще и в грандиозное зрелище, когда картинка из окна нашего купе прерывалась бесчисленными въездами и выездами из туннелей. Свет и тьма, сон и пробуждение, жизнь и смерть. Когда я сказал об этом маме, она мне ответила:
— Слишком много ты думаешь для своего возраста!
В конце концов, когда я уже устал наблюдать как там тьма со светом борются за власть над купейным окном, мама положила меня на место чемодана, чтоб я мог вытянуть ноги и заснуть. Так я приехал в Варшаву, в сетчатом багажнике над сиденьями, а мама спала, облокотившись на поставленный на колени чемодан.
Тетка Биба была не просто отцовой сестрой, она вообще оказала на него сильнейшее в жизни влияние. Не только потому, что он ушел в партизаны за ней следом, но и после войны она была для него путеводной звездой. С ее первым мужем Славко Комарицей отец отрывался по белградским кафанам, и потом так и не смог смириться с тем, что тетка ушла от него к Любомиру Райнвайну. В браке со Славко тетка родила дочь Славенку, но после возвращения из Берна, где Комарица был нашим консулом, они решили развестись и остаться друзьями. Славко был видным мужчиной и, говорят, редкая женщина могла устоять перед этим элегантным пьянчугой. По возвращении из Швейцарии, Комарице была поставлена в вину некая финансовая афера.
— Это потому, что он не хотел отречься от матушки России, а технически они его в тот момент на Голый Остров упечь не могли, — говорил отец и утверждал, что афера была дутая. Вскоре Комарица был выгнан из партии. Не будь он хорватом, то, наверное, попал бы в тюрьму.
Тетка Биба больше всего любила принимать гостей, причем не только ближайшую родню, но и незнакомых. Нравилось ей, как и большинству живущих в наших местах, тратить появляющиеся излишки на других людей, чтобы показать, как у нее все отлично.
— Гости это для моей сестры психологическая пища, — говорил отец, отправляя нас с мамой в далекий путь в Польшу, где Любомир Райнвайн, ее новый муж, работал корреспондентом Танюга.
Семья Райнвайн родом была из Австрии. Дядя Любомир хвалился, что его дед был церемониймейстером при дворе черногорского короля Николы в Цетинье.
— Да брехня все это, поваром он там был, а не церемониймейстером! Боже мой, Боже, как же любит мой Любомир ломать комедию, — говорила тетка Биба, объясняя таким образом его ложное изображение родословного древа Райнвайнов.
Когда мы с мамой вселились в их варшавскую квартиру, тетка защебетала от удовольствия, а Райнвайн стал тщательно следить за тем, чтобы в любой момент, смотрим мы на него или нет, оставлять впечатление лощеного господина. Запах его одеколона остался в моей памяти навсегда. Смеялся он громко и заразно. Даже доведись ему рыгнуть за столом, то это значило бы, как у древних римлян, лишь отдание должного вкусной еде жены, и самым сильным запахом остался бы запах одеколона. Со своими стрижеными усами, безупречной прической и этой своей манерностью, Любомир Райнвайн выглядел, будто и сам он церемониймейстер при каком-нибудь королевском дворе.
Единственной вещью, изумившей меня больше дядюшкиных привычек, была машина, называвшаяся телепринтером. Чудотворная машина эта умела перебрасывать письма аж из Варшавы в Белград. Из соображений безопасности, дядя не позволял мне присутствовать в момент отсылания его текстов и работы телепринтера. Из-за этого я, словно пес, ждал перед райнвайновым кабинетом в Варшаве, пока он пошлет что нужно в Белград, и я смогу вдоволь надивиться на телепринтер, после чего дядя отведет меня в большой магазин игрушек. Долго добирался до Белграда текст, и я я заснул на полу, глядя на свет под дверью его кабинета. В конце концов обнаружилось, что дяде необходимо идти на внезапный теннис с французским послом в Варшаве, так что походом в «Детский мир» озаботилась тетка Биба.
Когда я увидел тысячи кукол, паровозиков, самолетов, расставленных на четырех этажах самого большого магазина игрушек Варшавы, то чуть не упал в обморок. Тетка Биба спросила меня:
— Ну, малыш, чего тебе купить? — и я, совершенно потеряв дар речи, посмотрел по сторонам. И, несмотря на лучшие мои намерения быть, согласно маминым наставлениям, скромным, ответил:
— Все! Тетка, хочу, чтоб ты мне купила все!
Смерть — это непроверенный слух
В тысячу девятьсот семьдесят третьем году я вступил в мир кино, перекидав полтонны угля в подвале Югославской синематеки. На обогрев храма киноискусства необходимы были две с половиной тонны угля, а работу эту проделали Паша, Ньего, Труман и я. Паша был самым сильным, но работал меньше всех, что не помешало ему прикарманить самую большую долю оплаты. Когда я спросил отца, отчего так, он сказал мне:
— Закон природы! Большая рыба поедает маленькую. Это, сынок, называется дарвинизм.
Получив деньги, Паша, Труман и Ньего ушли играть в покер, а я остался в кино. Смотрел я в синематеке фильм «Атланта» Жана Виго с боковой сидушки первого ряда, и потому вернулся домой с шеей набекрень. Мама спросила меня:
— Что с тобой? — а я думал про Мишеля Симона, который показал в корабельном трюме главной героине фото с голой женщиной. Она спросила его кто это, а он ответил:
— Это я, когда был маленьким!
В том году отец купил в кредит телевизор «филипс», что явилось выдающимся шагом вперед в общественной жизни обитателей дома 16-д по улице Ябучицы Авды. И первое, что увидели мы в новостях, было убийство Джона Фицджералда Кеннеди. Мама сказала:
— Жаль его, такой симпатичный был человек.
Отец же отнесся к этому с сомнением.
— Все они одинаковые, не было еще американского президента, который не затеял бы войны!
— А этот не затеял! — защищала Кеннеди мама.
— Это потому что не успел! Говорю тебе, женщина, нету между ними разницы! — настаивал мой отец!
Собравшиеся соседи молча пялились в телевизор. Непонятно было, что взволновало их больше, покушение или первый просмотр телевизора.
— Боже, Мурат, есть ли для тебя хоть что-то важнее этой твоей политики? — сердилась мама.
— Для меня есть, но для них — нету! — коротко ответил ей отец.
Отец телевизора не любил.
— Полезно, конечно, быть в курсе событий, но вот что точно неполезно, так это что каждый вечер в доме полно незваных гостей.
Имел он в виду дикторов и прочих типов из телевизора, которых он называл «бошками». Отец был человеком общительным, и потому было непривычно, чего это он так возмущается гостями в доме. И я догадался, что телепередачи были просто предлогом чтобы, нарочито занервничав, выйти из дому и оказаться в кафане.
Горицей называется возвышенный над Сараево пригород. Среди его обитателей больше всего цыган, которых в городе зовут «индейцами» или «неграми». Если смотреть на Горицу с вершины Требевича, то кажется, что она лежит внизу. С Титовой улицы ее вообще не видно. От Нормальной станции кажется, будто она летит по небу. На станцию мы с Ньего и Пашей ходили курить. Когда подходил поезд, мы отъезжающих заплаканных пассажиров, машущих на прощание провожающим родным и друзьям, били по головам свернутыми газетами. Получался такой смешной звук, а у них резко менялось настроение. Родные с друзьями достать нас никак не могли, потому что убегали мы быстрее пули. Когда поезд набирал ход, мы уж с ближайшего холма показывали им средний палец и гоготали. Еще смешнее было рассказывать потом об этом пацанам у продмага.
Мне на Горице в общем-то нравилось. Разве что в первый год было жаль, что нельзя больше играть около Принципова моста. Я любил вставать там в следы, сделанные на месте, откуда Принцип9 стрелял в престолонаследника. Эти следы находились как раз недалеко от нашей комнатки на улице Воеводы Степы, где я родился. Отсутствие принциповых следов я возмещал восхождениями на вершину Горицы, называющуюся Черной горой. Оттуда весь город был виден как на ладони. От кладбища, которое старики называли Дедовым, до ограды Военной больницы было три тысячи тридцать моих шагов. В другую сторону мимо генеральских вилл до улицы Чуро Чаковича, где сновали автобусы и роскошные автомобили, насчитал я пять тысяч пятьсот шестьдесят шагов.
Я всегда останавливался на последней ступеньке Ключевой улицы, понимая, что на этой черте пригород кончается и начинается город. Застывал я будто та каменная статуя перед Народным банком, что стоит лицом к посетителям. Смотрел я на город со страхом и не решался эту черту перейти. И вовсе не потому, что вспоминал мамины слова:
— Ни в коем случае, ни ногой, собьет тебя там машина!
Смерти я не боялся. Тем более, что я тогда и не понимал до конца, как это, смерть. Но что-то удерживало меня на этой стороне. Если б кто из города пришел к нам в гости и назвал нас «цыганами», то я не посчитал бы это обидным. Потому что все в центре боялись цыган. Большинству не было даже ясно, почему это горичане болеют за футбольную команду «Сараево». Раз уж в городе называют их «индейцами», было бы им логичней болеть за «Желью».
Дома на Горице были разбросаны так, будто выпали из громадного самолета. Если смотреть с Черной горы, то взгляд скользил вниз по крышам до самого города. Жила тут пригородная голытьба, и только в одном месте, где был наш дом, обитали офицеры ЮНА и чиновники.
Когда я спешил в сумерках домой, из-за заборов слышна была громкая музыка и довольно необычные фразы.
— Мама, достань мне сигареты из холодильника.
или:
— Кинь зажигалку с бойлера.
Таким образом соседям за забором давалось понять о повышении собственного благосостояния, несмотря на скудные зарплаты, которые тут назывались «голодайками». Хватались горичане за любую подработку, или трудились на загородных земельных участках, называя их «ранчо». С того и кормились, а с зарплаты, поднакопив, покупали холодильники и бойлеры.
Каждый вечер, с точностью швейцарских часов, мимо старого горицкого продмага шатаясь ковылял «манекен погибшей любви», как называл его Паша, Алия Папучар10. Известен он был в Горице тем, что однажды постирал штаны своей жене Самке, а также своим пристрастием к виноградной 50-градусной ракии.
— Алия Папучар Самке постирал штаны! — кричал Паша и в последнюю секунду увертывался от пинка от этой пьяной громадины.
Алия Папучар проживал за забором, на котором висела ржавая синяя табличка с номером 54 по Краинской улице. Тот факт, что он постирал своей жене штаны, являлся для горицкого мужчины чрезвычайно постыдным. Никто на Горице в нем не сомневался, и особенно мы, горицкая детвора. На кепке Алии был номер четырнадцать, и работал он на Нормальной станции, разнося чемоданы и прочий багаж. А в это время Самка водила к себе ухажеров. Алия пил и ничего об этом не знал, или притворялся, что не знает. Соседи говорили о нем:
— Так ему и надо, нечего пить пятидесятиградусную ракию.
Мы, горицкая детвора, бежали за ним и кричали:
— Алия Папучар Самке постирал штаны!
Лил ли дождь, сыпал ли снег, грело ли солнце, или сшибал с ног ветер, ответ был одним и тем же:
— Пиздуйте отсюда, сучата!
Поднимался он в сторону дома 54 по Краинской улице, и мы слышали как бормочет себе под нос громадина:
— Алию дождем поливает, снегом засыпает, солнцем греет, ветром бьет, а его ничто не берет!
Возвращался он со станции и тащил за собою воображаемый чемодан, вокзальный багаж, приплясывая поднимался в гору и был уверен в том, что не возьмут его ни пятидесятиградусная виноградная ракия, ни переменчивая погода.
Опершись о забор перед Краинской 54, дожидались мы у моря погоды… Алия уходил на станцию, и мы сразу бежали подглядывать за Самкой сквозь дырку в заборе. За забором раздавалось пение: «По ночам сердечко плачет и душа моя болит»
Толкались мы около, пока пашин брат Харо смотрел на Самку, приговаривая:
— Ну, милая, давай, дай тебе бог здоровья! — держал он руку в кармане и уже слышно было, как тяжело он дышит, говоря:
— Ну, чего ты верещишь как резаная, — и продолжал:
— Давай, милая, — крутил он рукой в кармане, а я все видел.
Приник и я глазом к дырке в заборе и засунул руку в карман. Смотрел я на Самку, как она занимается своими делами и тоже шарил рукой в кармане, чтобы не посчитали меня за чмошника. Сидела она в большой ванне полной воды посреди двора и равномерно оглаживала себе груди ладонями. Она смеялась и явно была горда своими грудями, которые она прижимала к телу вниз, потом отпускала и они сами возвращались в прежнее положение. Вспомнились мне уроки истории про Коперника, которому понадобилось столько усилий, чтобы доказать, что сила притяжения существует, и каких бед натерпелся он от церкви, утверждавшей, что ничего подобного нет. Мысли мои от Коперника вернулись обратно во двор. Самка взяла цветочный горшок в котором росли маленькие помидорчики. Сорвала один, потом другой, и положила их меж своих грудей. Давила она их там один за другим и из помидорок брызгало их содержимое. Выглядела она одновременно репетирующей номер циркачкой и обычной домохозяйкой. Все это сводило мужчин с ума. Ну, и наш скоро не выдержал. По Горице разнесся вопль, похожий на тарзанов вой в джунглях:
— Ааааааааа! — орал он.
И прыгнул в воду, налитую в поломанную ванну.
Тут и Самка начала охать от возбуждения, а я спросил Хару:
— А это что, оргазм?
— Астма, мудила, не видишь разве, что это астма, ха, ха?!
Двор Алии был нам интересней любого кино. Верили мы в то, что он и впрямь стирает самкины штаны и никто из нас не сомневался, что однажды Алия застукает свою жену с кем-нибудь из ухажеров и за это ее убьет. Получилось бы круто, вроде убийства в прямом эфире. Вот почему мы так упорно ждали этого момента…
Чаще всего Алия молчал. Никогда не смеялся. Одни думали, что он глуп, другие — что мудр. Мы были уверены, что кроме виноградной водки он любит еще и кошку Аиду, и Самку, которая не его любит. Алия гладил кошку и, пока она мурчала, смотрел ей не отрываясь в глаза. Так оно и продолжалось бы, если б смог он совладать с избыточностью осязания. Как-то лежала кошка на спине, а он гладил ее двумя руками сразу, и вдруг ни с того ни с сего схватил ее за горло и начал душить. Мы с Пашей сразу же спрятались под забором и смотрели друг на друга в страхе. Слышно нам было, как бьется и сипит кошка. Паша выглядел подавленным. Из-за забора было слышно, как плачет Алия, потом над нашими головами пролетела удушенная кошка. Когда задушенная Аида летела мертвая над горицкими дворами, Алия появился у забора над нашими головами, плюнул в сторону удушенной Аиды и сказал:
— Пиздуй отсюда, сучка.
И я почувствовал на себе его слюну. Прямо как когда меня укусила овчарка, выбежавшая из Военной больницы.
Невероятное это убийство не помешало нам уже на следующий день бежать по Краинской и кричать Алие:
— Алия Папучар Самке постирал штаны!
Угроза попадания в лапы Алие вызывала у нас страх, но какой-то невидимый магнетизм с той же силой притягивал нас к этой опасности. Будто мы и сами готовы были попасть к нему в лапы и закончить как кошка Аида.
В тысяча девятьсот шестьдесят третьем году зима пришла в Сараево со снегом в полтора метра глубиной. Были каникулы и Паша хвастался всем четверкой по математике. Как ни трудно было в это поверить, но действительно, в дневнике его было написано: Хаджиосманович Фахрудин, математика — четыре. Рассказал он, как удалось ему подловить математика. Тот как-то отправился к Самке, а Паша именно в тот день торчал у дырки в заборе. Когда он увидел, как учитель Кураица заходит во двор, то поначалу не поверил своим глазам, потому что у того были жена и трое детей. Через ограду Паша увидел обычный самкин спектакль. Когда дело было сделано, подождал он Кураицу на выходе:
— Ясно тебе теперь, что у меня по математике четверка?
Кураица утвердительно кивнул головой. Паша шел за ним следом и говорил:
— Если обманешь, у меня еще два совершеннолетних свидетеля есть, пиздец тебе тогда, понял?
— Понимаю, — сказал Кураица.
Эта пашина идея совсем не понравилась Самке.
— Ты, педрила хренов, а ну отцепился от моих мужиков, не то выебу тебе матерь! — визжала она и пыталась ударить его попавшимся ей под руку ржавым обрезком трубы.
Через полгода этот Кураица перестал преподавать математику в школе «Хасан Кикич». Перевели его в школу «Миленко Цвиткович», на соседнем холме.
Невидимую черту между пригородом и городом перешел я ради фильма «Птицы» Альфреда Хичкока. Фильм вовсе не был таким уж страшным. Время от времени в зале слышны были вопросы:
— Ну че, обосрался со страху, брателла?
А с другой стороны звучал ответ:
— Сам ты обосрался бабке своей под окно!
Нарушения общественного порядка в зале кинотеатра «Рабочий» пресечены были директором Бимбо Штрцалькой. Включен был свет и кино остановлено, чтобы работники «Рабочего» могли отработанным манером похватать нарушителей и предать их в руки полиции. Для начала Бимбо брызнул Шилье в лицо спреем от насекомых, а потом его и еще троих «индейцев» вывели вон. Публика свистела, но когда появились милиционеры, все сразу заткнулись. Потом свет погас и публика зааплодировала. Как только фильм запустили опять, с задних рядов кто-то громко пустил ветры. С передних рядов Ибро Зулич высказался по этому поводу:
— Чтоб тебе такая музыка на похоронах сыграла.
То, с чем не справились Бимбо Штрцалька и милиция, сделал фильм. Тишина овладела залом, когда женщина в фильме остановилась перед школой на краю американского города. Она шла и взгляд ее застыл на школьной балюстраде. Увидела она сначала одну, потом нескольких птиц. Птицы поднимались все выше, а когда они стали пикировать на школу, настала полная тишина. Перепуганные ученики выбегали из школы, а птицы гнали их по улице. Пашин средний брат Харо вытащил из ветровки три голубя, бросил их в публику и завопил по-тарзаньи. И пока публика под грохот деревянных сидений с визгом разбегалась по домам, Паша орал:
— Ну че, пидоры, жамкнуло очко-то?
Зима была очень сурова, и мама сказала мне:
— Вот это, сынок, называется холодная зима!
Работники кино заказали для синематеки дополнительную тонну угля. Паша не хотел больше заниматься грязной работой, Ньего стоял на шухере у наперсточников на Марьином дворе. Благодаря той тонне угля, в рекордный срок перекиданной в подвал синематеки, Алия Папучар впервые познал любовь к мировому кино. Смотрел он фильм с Клодетт Колбер и Кларком Гейблом в главных ролях. Фильм назывался «Однажды ночью», и любовь между Клодетт и Кларком согрела ему сердце. Очевидцы рассказывали, что и на его лице появилась улыбка. Грела ему душу любовь, осуществленная вопреки всем препятствиям. Больше всего нравилось ему, когда Кларк Гейбл улыбается и целует Клодетт. Она не отстранялась от него, и он вспомнил, что свою жену Самку он поцеловал всего два раза. Один раз на свадьбе, и второй раз, когда умерла ее мать Сеида. Вышел он из кино и все у него в голове перемешалось. Знал он, что должен теперь отпустить усы. Тонкие и подбритые, от носа ко рту. Больше всего думал он о том, как улыбался Кларк Гейбл.
Смотрели мы на него, как с улыбкой поднимается по обледенелой улице. Паша сказал:
— Прямо павиан, которого угостили орешками в Пионерской долине11.
В Югославской синематеке он был еще два раза; дали ему за ту добавочную тонну угля билеты. В первый раз он посмотрел Кларка Гейбла с Клодетт, а потом, в другом фильме, увидел как Кларк Гейбл целовал другую актрису. Не смог он смириться с тем, что Кларк Гейбл изменил Клодетт и решил больше в кино не ходить.
Той зимой великие события не переставали тревожить великое сердце Алии и невеликий его мозг. Сначала Самка сбежала с коммивояжером из Загреба Михайлом Джорджевичем. Эта беда и суровая зима заставили Алию пить больше обычного. Единственным, что согревало ему сердце, кроме виноградной пятидесятиградусной ракии, были мысли о Кларке Гейбле, усики которого напоминали о счастливом окончании фильма «Однажды ночью». Он думал о несчастье, преследующем его по жизни от рождения, и спрашивал себя, ну почему бог не дал ему богатого и умного тестя, как в том славном американском фильме. Там богатый отец собственную дочку подговорил сбежать со свадьбы и выйти за правильного человека. В его же собственной жизни жена сбежала, ни сказав ничего. На разных концах Нормальной станции мы с Ньего и Пашей стояли на шухере для наперсточников Томислава из Ковачича и Деды с чаршии12. Пассажиры шарахались от Алии Папучара. Теперь не переставал он улыбаться, точно так же как раньше не переставал хмуриться. Крепко воняло от него перегаром виноградной пятидесятиградусной ракии.
Когда вечером он возвращался на Краинскую улицу, мы кричали:
— Кларк Гейбл постирал Клодетт штаны!
И он отвечал:
— Солнце меня греет, дождь на меня льет, ветер бьет и ничто меня не берет!
Шлялись мы следом за ним и вопили:
— Алия Папучар Самке постирал штаны! — а он обернулся и сказал:
— Пиздуйте отсюда, Кларк Гейбл вам говорит, сучата!
Той ночью шел снег. Потом полил дождь, и наконец засияло солнце. Обманчивое мартовское солнце вскоре пропало за большим облаком, возвратившем зиму.
Новые фильмы легкого содержания появились в кинотеатре «Рабочий», так же, как и новые горести в жизни Алии Папучара. В пятницу в 23 заявились пацаны с Ковача, Марьина Двора и Хрида. После фильма «Убей всех и вернись сам» подрались Паша и Кенан с Кошевской горки. Драка вышла ни туда ни сюда, но мы конечно утверждали, что Паша сделал Кенана.
Алия Папучар все лето провел в Центральной тюрьме, из-за телесных повреждений, нанесенных им гвардии прапорщику в отставке. Все это произошло в буфете «Требевич», где осужденный и пострадавший пили пятидесятиградусную виноградную ракию. Все было хорошо до тех пор, пока прапорщик не заподозрил, не насмехается ли над ним Алия, чего он, как человек военный, снести права не имел. Прапорщик сначала сказал, что не любит, когда ему всякие пидоры лыбятся в лицо. И еще обидел он Алию, сказав, что тот напоминает павиана, который усмехается, когда его кормят орешками.
Алия отбыл положенное наказание, после чего брат Мрвица отвез его к себе в Високо. Этот Мрвица известен был тем, что однажды выпал из вертолета и остался жив. Будто бы Мрвица отвез своего брата в Високо, чтобы поправить ему здоровье. Здоровье там Алия поправил, но скоро запил по новой. Позже он вернулся в Сараево, но выглядел уже так нехорошо, что мы только молча смотрели как он, зигзагами, взбирается вверх по Краинской улице. Сараевские кинотеатры тогда не показывали фильмов с Кларком Гейблом. С Ритой Хейворт тем более. С Кларком Гейблом и Клодетт уже никогда. От Самки вестей не было.
Возвращались мы из кинотеатра «Рабочий», где показывали фильм «Бесконечный день». Фильм продолжался три с половиной часа и все обсуждали, самый ли это длинный в истории кино фильм или нет. Шли мы Горушей мимо кинотеатра «Ущелье». Я немного отстал, потому что решил измерить эту улицу, которая поднималась до самой Черной горы. Триста тридцать шесть шагов отмерил я от начала улицы до адвентистской церкви. Свет скупо освещал бетонные ступени. На этих ступенях лежал какой-то человек, чье лицо было скрыто в потемках. Он лежал неподвижно, а я испугался и побежал звать Пашу. Тот вернулся, приложил ухо к его груди, и сказал:
— Замерз наш Кларк Гейбл.
Было холодно и он улыбался. Пока мы несли его к Краинской 54, был он легкий и холодный, но мне казалось, что от его тела струится какое-то тепло. Думал я про Алию, которого солнце греет, дождь поливает, ветер бьет, а его ничто не берет. Драный его бушлат пропах пятидесятиградусной виноградной ракией. В кармане пиджака я нашел фотографию Кларка Гейбла, который улыбался, глядя на Клодетт. Фотка была черно-белая и вся измятая. Заплакал я уже тогда, когда дошел до дома, и не мог объяснить маме почему. Мама заставляла меня считать овец, думая, что это поможет заснуть. Но сон не приходил. Смотрел я на акацию, которая колыхалась на ветру, а колесики, на которые натягивалась бельевая веревка, поскрипывали однообразно и усиливали страх смерти.
На рассвете, Босния-экспрессом из Белграда в Сараево приехал мой отец. Распаковал он вещи, положил на мою тахту какие-то штаны и поцеловал меня, а я делал вид, что сплю, хотя сердце мое стучало будто на бегу. Отец развязал галстук, скинул пиджак и отправился к холодильнику. Когда он вытащил кастрюлю с холодным обедом, я сказал ему сквозь слезы:
— Я видел мертвого человека!
Он поставил кастрюлю с голубцами разогреваться на плиту, сел передо мной, и шепотом начал меня успокаивать:
— Смерть это непроверенный слух, сыночек.
Смотрел я на отца с удивлением. Он улыбнулся и добавил:
— Никто же из нас не был мертвым и не мог проверить как там обстоят дела с этой самой смертью. Так что брось ты все это. Смотри-ка, тетка Биба вернулась из Варшавы, просила передать тебе привет и эти джинсы леви страус, — широко распахнув глаза смотрел я на отца, держал в руках свои первые джинсы и со скоростью летящего в ракете Гагарина уверовал в папины слова о смерти как непроверенном слухе.
— Как там тетка Биба? — спросил я отца, пока он кухонным полотенцем вытирал мне слезы.
— Да как тетка Биба?! Представь, вернулись они из Варшавы, а в теразийской квартире поселились Райнвайны! Был с ними договор, что будут они охранять квартиру пока хозяев нету, а потом, после их возвращения, сразу выселятся. Но похоже слишком уж им понравилось жить на Теразие, и Биба боится, что их теперь оттуда не выставить!
— Как так не выставить, а что дядя Бубо?
— Он?! Да ему до лампочки, играет каждый день в теннис с генералами на Дединье, а моя сестра все нервы себе вымотала. Сидит, бедняга, в гостинице «Балканы», плачет и ждет, пока райнвайнова банда уберется из квартиры.
— А они что говорят, чем все это объясняют-то?
— Что говорят? Шумнее всего его мамаша: «Так ведь по-любому посылают Любомира корреспондентом в Прагу, и опять мы будем охранять их квартиру! Легче им провести этот месяц в гостинице, чем нам каждый раз туда-сюда мыкаться». Дойдет до того, что я этому Любомиру нос разобью да усишки повыдергиваю! Женился он на моей сестре ради интересу!
— А зачем вообще мужчины женятся на женщинах? — спросил я отца, притворяясь, что понимаю проблемы взрослых.
— Так по любви же, ну и вопросики у тебя!
— Это значит, дядя Бубо не любит тетку?
— Этот, Любомир Райнвайн? Да он только задницу свою любит!
Непросто мне было поверить в то, что мой отец говорил о Любомире Райнвайне. Больше всего потому, что в моей памяти навсегда остался запах дядиного одеколона, но еще и из-за того что тот мастерски умел молчать, производя впечатление задумчивого человека, озабоченного чем-то важным. Не обижался я ни что он оставил тогда меня спать под дверью, ни что так и не отвел в «Детский мир», потому что понимал важность передачи информации из Варшавы в Белград. И, что еще важнее, дядя умел занятия не очень серьезные представлять так, будто они и есть самые важные на свете.
Тем утром я, благодаря успешному избавлению от страха смерти, понял, как важен в жизни мальчика отец. И почему самые авторитетные на Горице парни, произнося клятву «отцом моим мертвым клянусь!», выглядели так круто. Многие, в борьбе за уважение среди пацанов, говорили «отцом моим мертвым!» хотя отцы их были еще живы.
Что наверху то и внизу, что снизу то и сверху
В тысячу девятьсот шестьдесят седьмом году в авиакатастрофе погиб Юрий Гагарин. Через год команда «Сараево» стала чемпионом Югославии по футболу. Самым модным хитом была «Дилайла» Тома Джонса. Когда парень хотел сказать девушке «ну ты совсем отъехала, ненормальная что ли», он говорил:
— Ты вообще дилайла.
Ботинки «мадрасы» и «бруксы» страстно желали иметь все… Но если в других странах «бруксы» носились ради моды, чтобы в них танцевать и впечатлять девушек, то здесь в цене были другие их свойства. Если стальным бруксовым носом ударить противника под коленную чашечку, то решишь судьбу боя в первую же минуту. После такого удара ему останется только беспомощно прыгать на здоровой ноге по кругу и кричать:
— Хватит уже, не надо больше, мамочки…
Были среди парней и старомодные типы, оставшиеся верными «канадкам». Ньего был самым из нас мелким, но и он умел своим канадским горным ботинком так точно врезать под коленную чашечку врага, что тот от боли сразу вырубался.
— Какие на хрен бруксы, понты все это дешевые, если я кому заделаю канадкой по ноге, у того глаза фонтаном брызнут!
В том году я в составе юношеской команды Сараево играл в отборочном туре Кубка европейских чемпионов между «Сараево» и «Олимпиакосом». Два моих удара были отмечены рукоплесканиями зрителей, заполнивших стадион Кошево, как любил говорить комментатор Мирко Каменяшевич, до последнего места. В первый раз я умудрился пробить мяч меж ног чужого защитника, а второй раз пяткой отыграл «стеночку» с Брко Ферхатовичем, племянником знаменитого Асима Ферхатовича. После игры, тренер Младен Стипич сказал мне, чтобы я приходил весной, как подрасту. Весной я так и не пришел, потому что понял, что дело не в росте.
— Хорошо играешь, есть у тебя удар, напор, но ты же парень домашний, не балбес какой-нибудь уличный. Для тебя футбол это вроде забавы и с головой ты дружишь, займись-ка лучше школой, — дружески посоветовал мне помощник тренера Срболюб Маркушевич.
В том году студенты всего света возвысили голос против неправды. И в Сараево молодые люди тоже ступали в ногу с молодежью мира. На экономическом факультете они, беря пример с коллег из Колумбийского университета, протестовали распевая: «All we are saying, is give peace a chance» и раскачивались вверх-вниз, вперед и назад. Правда, дальше они слов не знали, и потому продолжали песню так: «О, Лола, Лола, ведь знаешь ты, что я не богатей» как в песенке Владимира Савчича и группы «Проарте».
Армандо Морено был очень вспыльчивым, но и симпатичным карликом. Были у него большие глаза, большой нос, большой рот, и маловато волос для такой большой яйцеобразной головы. Работал он в конторе JAT, был частым гостем в нашем доме, играл на гитаре неаполитанские песни и, что еще замечательней, на обеих руках его были татуировки. Не укладывалось это у меня в голове, как кто-то, кроме цыгана, может ходить с татуировками. Мама мне объяснила:
— Это, сынок, потому что он еврей, узник Дахау.
Когда однажды в воскресенье Морено был у нас в гостях и пел песни из репертуара Адриано Челентано, я вбежал в коридор, спасаясь от троих Сейдичей, которые хотели меня поколотить. И все из-за того, что я отцепил их трехколесный велосипед, толкнул его вниз по Горуше и смотрел как он разбивается о стену Военной больницы. Сделал я это потому, что мне надоело терпеть как представители семейства Сейдичей каждый раз требуют от меня оплату за проход мимо них к нижнему продмагу. Армандо схватил меня за руку, вывел на лестницу и разрешил ситуацию при помощи своего необычайно громкого голоса. И, пока он прогонял Сейдичей с лестницы, от силы его голоса, постукиваясь друг о друга, на буфете задребезжали бокалы. Тогда Морено отвел меня на кухню, погладил по голове и, хотя я уже был выше его ростом, посадил на колени и запел. И все захлопали в такт песни «Venti kvatro milli baci». И даже мои мать с отцом покачивались в обнимку налево-направо. Морено взял гитару и, когда он менял аккорды, становилось видно, что на одном его плече вытатуирован какой-то номер, а на другом два вставленных один в другой треугольника:
— Что ты там рассматриваешь? Это давидова звезда, — сказал он, заметив, с каким интересом я разглядываю его. А когда понял, что мне это ничего не говорит, добавил:
— Давид, это был такой еврейский царь.
Я спросил, что означают эти два вставленных друг в друга треугольника, и он ответил:
— Встань-ка, хочу тебе кое-что показать!
Я встал, а он ткнул пальцем в молнию на моих штанах и сказал:
— То, что снизу… — я опустил голову, потом заметил, что все на меня смотрят, и покраснел. Морено поднял мне голову и продолжил, показав на ее макушку, — то и наверху.
В растерянности я смотрел то на свою ширинку, то на него, и он опять повторил:
— Вот что это значит: внизу и наверху одно и то же…
Не дождался я пока он закончит и, весь красный от смущения, выскочил из дома.
На вершину Горицы вбежал я тем же путем, которым спустился когда-то в город Сараево воин и ученый Мустафа Маджар. Там на чаршии его и убила какая-то шваль, что явилось лучшим доказательством утверждения Мустафы, что в мире полно придурков.
Остановился я на Черной горе и слушал: по всему телу раздавалось биение сердца и еврейской мудрости:
«Что снизу то и наверху, что наверху то и внизу…»
Сел я и стал смотреть на Сараево, которое по-прежнему было снизу, а небо наверху. Быстро сгустилась ночь, внизу потихоньку разгорались городские огни. Возле поваленных могильных камней начали собираться влюбленные горичане, совершавшие что-то вроде любовно-туристической экскурсии на Дедово кладбище. После таких вот прогулок про женщин и начинают болтать, что они «гулящие».
Забрался я на самую вершину над кладбищем. Теперь и вовсе стало ясно, что там внизу, и что сверху. Украдкой, хотя вокруг никого не было, я наклонил голову и посмотрел наоборот. Теперь Сараево стало наверху, а небо внизу. Держал я так голову, пока у меня не заболела шея. Когда же я ее выпрямил, все вернулось на свои места. Сараево было внизу, а небо наверху. Посмотрел я на Дедово кладбище и увидел, что там «гулящая» с кем-то из старших пацанов уже уходят. Я сбежал вниз к кладбищу и решил постоять там на голове. Понравилось мне, что Мариндворская церковь и поезда на станции парят высоко на земле, а небо внизу и не имеет дна. Подумал я, что таким образом еврейская мудрость с давидовой звезды воплотилась в образ моего города, и стало это ясно только когда я встал на голову. То, что было наверху, стало внизу. А что было внизу, стало сверху. Была уже ночь и кровь приливала к моей голове.
Прислонясь к ограде Дедова кладбища, сидели мы с Пашей, Харисом и Ньего. Было тепло и мы решили, что пора перестать быть детьми. Перед нами стоял кувшин красного вина. Курили мы «герцеговину» без фильтра, и кувшин красного вина переходил из рук в руки. Солнце дошло до зенита, и Паша спросил пьяные мы или нет. Мы ответили что нет, не пьяные. Паша улыбнулся и сказал, а давайте тогда в «прихлебку», как мой брат делает, тогда напиваешься быстрей. Хлебали мы дешевое вино. Вскоре нас охватил неостановимый смех, потом закружилась голова. Карабкались мы по травянистому склону как три лунатика, прихлебывая по очереди. И пали жертвами дешевого вина и жаркого солнца. Утонули во сне. Глубоком и уже юношеском. Потому что не хотели больше быть детьми.
И проснулись через год, когда в Сараево приехали девочки из Банья Луки. Землетрясение разрушило их дома и школы, и они приехали к нам, чтобы в нашей школе догнать пропущенный материал. Пока они выгружались из автобуса и несли вещи в общежитие, мы смотрели на них и выбирали, кто кому будет показывать Дедово кладбище. У Паши уже была Мирсада, и она для него стала тем же, что для меня Снежана Видович, с той разницей что это была «осуществленная» любовь. Со всеми вытекающими обстоятельствами. Все эти приехавшие баньялучанки были потенциальными «гулящими». Мне понравилась Невенка, Харису Мелиха.
Социальный работник Векослав Шепаревич пришел к нам на урок сербско-хорватского и прочитал лекцию о необходимости гуманного отношения к гостям из Банья Луки:
— Остались они без крова над головой, дома их разрушены опустошительным землетрясением. Наше государство предложило скромную замену их жилищам, а вы должны протянуть им товарищескую руку.
И добавил, вроде бы в шутку, хотя мы знали, что он это серьезно:
— Но только чтобы жать именно руки, а если кто полезет поближе к ногам, там уже буду я!
Насчет ног это у него убедительно получилось. Уходя, социальный работник оставил нам важный наказ:
— И, пожалуйста, мальчики-девочки, друг друга не лапать, вы уже не дети. Неконтролируемое прихватывание становится причиной еще большего прихватывания, а то и преждевременной эякуляции, которая, не дай боже, может зародить новую жизнь.
Через месяц мы узнали, что Векослав арестован за растрату кассы отряда следопытов «Саво Ковачевич», начальником которого он был. Из чего нам стало понятно, что прихватывание не возбраняется, да и эякуляция эта, наверное, тоже, хотя в латыни мы не разбирались.
Что сверху то и снизу, что внизу то и наверху!
Сидел я на Дедовом кладбище и, в глубокой задумчивости, ждал Невенку. Думал я, о чем же разговаривают мужчина с женщиной, когда остаются наедине? Никак нет мог решить, с чего начать разговор. Спросить, что ли, ее про брата, все ли у нее живы, сколько ей лет? Или так все испорчу? И еще опасался я, что не успел разглядеть ее как следует, может она не такая уж и красивая.
Появилась она неожиданно. Приоткрыв рот, я смотрел на нее и сразу же увидел, что она вовсе не так красива, как мне казалось. Но и уродиной тоже не была. А груди у нее были еще больше, чем показалось мне, когда я украл у нее на перемене булочку. Спросила она сколько мне лет, и я ответил:
— Четырнадцать.
Она была удивлена:
— Какой ты для своих лет высокий, — сказала Невенка, а я замолчал.
Посмотрела она в сторону города, а потом смутила меня еще сильней:
— А у тебя красивые глаза!
Молча смотрел я на нее как защитник «Динамо» Белин, прямо перед носом которого центрфорвард «Сараево» Асим Ферхатович залепил гол на Максимире, когда «Сараево» в гостях уделало «Динамо» со счетом 3:1.
Не смог я задать ей ни одного вопроса. Может, ответить комплиментом? Если, например, сказать: «И у тебя красивые», то она точно подумает, что я издеваюсь.
Стояла она лицом к городу. А мне хотелось вместо Дедова кладбища очутиться где-нибудь в Гренландии.
Первые сказанные мной слова прозвучали неубедительно.
— Ой, что-то так пить хочется, прямо не знаю, чего это со мной!
Она чуть обернулась ко мне и сказала:
— Вот ведь чудно, у вас тут реки толком нету, а пьете лучшую воду в мире! Мы в Банья Луке живем у Врбаса, а пьем не воду, а гадость.
Невенка придвинулась ко мне совсем близко, взяла меня за руку и посмотрела прямо в глаза. В ее глазах было видно, насколько она опытней меня. Спасаясь, я отодвинулся и сказал, что близорук.
— Мне тебя лучше видно, когда не так близко.
Она продолжала держать меня за руку и улыбаться. Облокотился я на кладбищенскую стену, почувствовал ее холодный камень на своих разгоряченных плечах, и стало мне легче. Невенка снова приблизилась ко мне и поцеловала в край рта, а я отработанным движением перекувырнулся и, опершись о стену, встал на голову. Она неожиданно рассмеялась. Спросила меня:
— Ну, а теперь куда ты денешься, дурачина?
Стоял я на голове и смотрел на свою любимую перевернутую картинку. Сараево было на небе, а небо вместо Сараево. Ночь была звездной и картинка выглядела красивей, чем обычно. И наверху и внизу мерцал свет. Вдруг почувствовал я облегчение, впервые мышцы мои расслабились и это создало во всем теле необычайную легкость. И я завопил во весь голос, как кричат пляшущие у костра индейцы.
— Что внизу то и наверху, что наверху то и внизу.
Даже не пытался я понять еврейскую мудрость. Просто стоял на голове и слушал, как Невенка спрашивает меня:
— Что это ты там такое говоришь, дурачок, иди сюда?
Пространство города полностью растворилось в звездном пространстве неба. Будто два треугольника, слившиеся в давидову звезду. Я словно потерял сознание и больше меня ничто не тревожило. Чувствовал я как кровь разливается по телу. Сверху вниз и снизу вверх. В руках держал я спелые женские груди. Соски их были похожи на кружки повидла посередине круглых кексов. Крутил я головой налево-направо будто при игре в пинг-понг, и тут Невенка опустила руку вниз. Кровь во мне рванулась наверх. Посмотрел я вниз и вспомнил Армандо Морену и песню «Venti kvatro milli baci».
Через год после раскрытия тайны давидовой звезды, первый человек ступил на Луну. На Горице бытовало мнение, что это обычный голливудский обман.
Рассказывали, будто телекамеры были поставлены в Сахаре, и что ни по какой такой луне Армстронг не ходил. Так говорили люди, в холодной войне стоявшие за русских.
— Будто Гагарин, когда был там наверху, не мог походить по этой самой луне, в общем, не надо тут рассказывать!
Один наш сосед, родом с черногорских скал, с презрением прокомментировал это так: «И с хрена им сдалась эта луна, в камнях там ковыряться, что ли. Да у нас в Даниловграде таких камней полно, зачем они вообще нужны!»
Я же принадлежал меньшинству горичан, веривших, что человек на луне был. И вовсе не потому, что был умней других. И не потому, что был за легкие решения, хотя примирительные меня вполне устраивали. Просто, лично у меня после трагической смерти Юрия Гагарина резко пропал интерес к космосу. Больше стало интересовать то что внизу, чем то что сверху.
— Мурат!? — говорила моя мама, глядя по телевизору как два человека разгуливают по луне. — Человек вот уже и до луны добрался, а ты, собираешься ли ты когда-нибудь перебираться на новую квартиру?
Отец изо всех сил притворялся спящим. Это еще больше укрепило мамину настойчивость в обосновании тезиса невыносимости проживания на Горице.
— Никогда не умел ты добиваться того, что тебе полагается, вот что хочу я тебе сказать! Нет, ну посмотрите-ка на него — помощник министра информации, а живет в полуторакомнатной квартире!
На самом деле отец не спал, как казалось поначалу. Одним глазом он, лежа на тахте, смотрел по телевизору лунную прогулку, а другой старательно зажмуривал. Пытался он так избежать обычных сенкиных домогательств. Надеялся, что мама отстанет, увидев, что он заснул.
— Бога ради, Мурат, неужели до конца жизни должна я греть воду в котле, чтоб помыться и растапливать печь, чтоб согреться? Хоть кто-нибудь сжалится над моей судьбой? — спрашивала Сенка.
— Имею я право на центральное отопление или нет?
— Имеешь право, имеешь, дело за малым, как его осуществить! — надоело наконец жмуриться и молчать отцу.
— Мало тебе того, что ты меня мучаешь, так ты еще и издеваться?!
— Не гневи бога, Сенка, надо быть довольным тем, что есть. Представь, а что если будет как говорят евреи, когда клянут своих врагов: Чтоб вам разбогатеть, а потом враз все потерять! А коли у нас ничего нету, ну так и терять нечего!
— Тебе легко говорить, ты же за эти одиннадцать лет и двух раз печки не почистил!
Тяжело было вести такие разговоры с моим отцом, ему великие исторические идеи были важней «ерунды» вроде квартиры, отопления и прочих «банальностей». Когда ему совсем надоедало, он обычно мысленно и словесно уходил от темы далеко, на иные континенты:
— Ты вот, Сенка, говоришь нам тяжело, а что скажешь о тех, кто в Африке, как там живут Патрис Лумумба и все эти его бедолаги?
— У тебя сыну скоро в гимназию. Как думаешь, нужна гимназисту отдельная комната? Вот об этом мне расскажи, а не как там живет твой Лумумба?
И в конце концов, мы переселились на улицу Кати Говорушич дом 9а. Переезд из пригорода в город, из полутора-комнатной квартиры в двух-с-половиной-комнатную, произошел только когда Мурату стало уже совсем невмоготу выслушивать сенкины придирки. Пришлось ему надавить на Мирко Петринича, своего министра, который ему, в конце концов, помог перебраться в квартиру получше. В отцовском решении начать выбивать квартиру сыграло свою роль еще одно важное обстоятельство. Был он человеком гостеприимным и любил готовить. Нравилось ему, когда к нам заваливалась толпа друзей и он готовил им мясо в горшочке по-боснийски. Теперь у меня была своя комнатка, верней, та самая половинка, которая преследовала нашу семью повсюду. Никогда не жили мы в квартире, где не было бы какой-нибудь половины. Думаю, такие названия вошли в обиход благодаря хитроумию титовых экономистов. Что-что, а названия они подбирать умели. Куда солидней звучит двух-с-половиной-комнатная, чем просто двухкомнатная, хотя, по сути, разницы нет. Единственно, что невозможно определить в точности, что такое половина? И по каким признакам отличаются двух-с-половиной-комнатные квартиры от трехкомнатных? Не уверен, что такие признаки существуют, но мне было известно, что эта половина принадлежит мне. Моя комнатка была отделена от коридора стеклянной стеной, вроде большого окна. Сенка сшила фигурные шторы, которые больше подошли бы дворцовой зале, а не двух-с-половиной комнатной квартире, и повесила их на решетчатый оконный проем, чтобы создать мне в комнате интимные условия.
— Посмотри на шторы, правда, они как лампа?
— Ну да, прямо лампа, — сказал я, раздосадованный вовсе не комнаткой, или шторами, чей покрой, между прочим, совсем не соответствовал той квартирке. Шторы эти воистину просились в дворцовые покои. Меня бесило слово «лампа»! Ну какая лампа, думал я про себя, как шторы могут быть как лампа? Лампа висит в плафоне, а шторы на стене, а, ну, хотя ладно, подумал я, решив промолчать и не омрачать матери редкие минуты счастья.
Эта моя комната в нашей новой квартире не была для меня такой уж притягательной. Все чаще и чаще возвращался я на Горицу, к Паше, Труману, Ньего и Харису. Чаще всего мы тусовались около старого продмага. К счастью, улица Кати Говорушич находилась недалеко от края старого города. Проходишь мимо многоэтажек, переходишь Чуро Чаковича, поднимешься по Ключевой, и вот ты уже на Горице.
И вот, как-то вдруг, наша компания переселилась в «Шеталиште». Новая база для встреч нашего содружества была выбрана по многим причинам, в том числе и потому, что Паша переехал из Горицы в Свракино Село и ему стало легче добраться до улицы Чуро Чаковича, чем подниматься на Горицу. «Шеталиште» стало местом наших ежедневных тусовок. Кто-нибудь один заказывал кофе, другой вареное яйцо, и этого было достаточно, чтобы официанты не приставали, что мы ничего не заказываем, и мы могли сидеть в кафане хоть целый день. Сразу же подружились мы с Зораном Биланом, Слачо, Златаном Мулабдичем и Ноком. Поскольку мы были с Горицы, иногда нас называли «индейцами». И все же «Шеталиште» было хорошим выбором, потому что, спустившись с пригорода в город, здесь мы еще не пересекали черты, разделявшей центр и, как говорилось, «цыганщину». Эта кафана стояла у подножия Горицы, где город только начинался, а близость Второй гимназии означала возможность пялиться на учениц, делая при этом вид, что нас-то их взгляды вообще не занимают.
Новая квартира стала делом жизни моей мамы. Взяла она в банке кредит, и еще немного денег из кассы взаимопомощи Строительного факультета, и купила мебель. Плюшевый диван с двумя креслами, тумбочку под телевизор и обеденный стол, который она накрыла давно уже связаными ею кружевными покрывалами. Все это стало осуществлением давнишних сенкиных устремлений.
— Терпение и труд, — сказала она, когда двухлетние ее мечтания осуществились. Китайский ковер, самый дорогой предмет обстановки, она накрыла большим куском полиэтилена, чтоб он, как она объяснила, не истрепался.
— Теперь на нем хочешь сиди, хочешь ешь, хочешь спи. Зачем платить за химчистку, когда можно все аккуратно пленочкой прикрыть. Мой Мурат, когда ест, то так ухайдакается, а когда готовит, то вообще катастрофа. Он, милая моя, умудряется из кухни даже балкон уделать, вот до чего неряшливый, — рассказывала она новым соседкам за чашечкой кофе.
Я предложил Сенке запатентовать это ее изобретение под названием «Защита дорогих предметов от быстрой и легкой порчи». Уже целый год вышивала она большой вилеровский гобелен, предвкушая осуществление своих надежд пожить «как люди». И первое, что пришлось нам сделать переехав, это затащить большой и тяжелый гобелен, на котором была изображена едущая по лесной дороге повозка.
— Видишь, Эмир, дорогу, это линия жизни, которую символически представляет эта тропинка. Те вон в повозке, это мы, едем куда заведет нас жизненный путь. Чистая символика! — сказал отец и добавил:
— Молодец, Сенка, очень все красиво получилось.
Высказавшись по поводу этого гобелена столь патетически, вполне в духе маминой работы, отец тем самым вдруг проявил романтические свойства своего характера, будто извлек из подвала давно позабытую вещь.
В тысячу девятьсот шестьдесят девятом году был продан дом дедушки на улице Мустафы Голубича 2. Вскоре после чего он был снесен, ради расширения Дома милиции. Исчезла роскошная баронская вилла, замок, в котором впервые произошли многие важные события моего детства. Все, что было связано с домом семьи Нуманкадичей, стало частью воспоминаний всех нас, чьи души были объединены семейным духом этого дома. Сносом родового дома упрятаны были в забвении все прошлые переплетения моей жизни, но очень скоро завязались и новые.
Деньги от продажи дома были поделены на четыре части. Одинаковые доли поделили между собой сестры, брат, дед и мама. С тех денег были куплены две квартиры в Храсно. Переезд больше всего подкосил деда. И так не особо подвижный, в новой квартире он совсем перестал ходить. Подавленный этим несчастьем, несколько раз говорил он моему дяде Эдо:
— Эдо, отвези меня в Горний Вакуф, хочу умереть где родился!
Эдо, пытаясь его подбодрить, обращал все в шутку:
— Не можешь ты умереть, пока не получу диплома. Сначала пошли меня в Париж, чтобы я увидел Мону Лизу, потом еще лет десять, и вот тогда уже можно и разбежаться.
— Что касается Парижа, я деньги отложил, езжай хоть завтра, а вот насчет диплома, тут ты поторопись. Если будешь так продолжать, мне придется этому горе-инженеру (имея в виду Бога) послать запрос на еще одну жизнь, и если он согласится, только тогда у меня какие-то шансы на твой диплом появятся.
При этом дед был рад, что средства от продажи дома будут использованы толково. Как и его дочь. Сенка открыла счет в Промышленном банке и положила туда деньги, свою часть наследства:
— Кто знает, на что они могут пригодиться. Эмир вот растет и если, дай боже, возьмется наконец за ум и начнет хорошо учиться, пошлем его в самую лучшую школу!
Мышь совершает почетный круг
В тысяча девятьсот семьдесят втором году Шиба Крвавац, режиссер приключенческого кино, отворил передо мной двери в национальный кинематограф. Вступил я в мир югославского кино со словами:
— Повезло нам, только один охранник, загасим их только так!
Это была моя единственная реплика в фильме «Вальтер защищает Сараево», который прославил Крвавца до самого многолюдного Китая. За произнесенной репликой последовала первая киношная смерть. Нарвался я на бегу на группу немецких солдат, которые изрешетили меня очередями из этих… тррррррррррррр… пулеметов и, падая, успел еще сказать:
— Ааааааааааах…!
Крыса в наших рядах передала немцам информацию о диверсии, которая была необходима, чтоб поднять на воздух вражеское подразделение.
Когда в четверг, четвертого ноября тысячу девятьсот семьдесят первого года, точно в 6 часов 15 минут, Сенка появилась в Пятой гимназии, она и представить себе не могла, что ожидает ее на родительском собрании. После десяти лет моего обучения, мама снова услышала то же, что и в первом классе начальной школы. Классный руководитель решил постепенно ознакомить Сенку с истинным положением вещей и открыть новую главу в моем школьном образовании. Не знал он с чего лучше начать, с двоек или прогулов. И решил, что с прогулов, потому что родителям легче согласиться с тем, что их дети непослушны, чем глупы:
— Его в школе ничто не интересует. Целыми днями играет он в баскетбол на спортплощадке ФИС13. Смотрел я на него из окна учительской. Нет силы, способной вернуть Эмира в класс после большой перемены.
Классный был учителем физкультуры и не скрывал симпатии ко мне. Вывел он Сенку в коридор и по секрету сказал ей:
— Ищите, Сенка, уважительные причины, у него в одной только этой четверти 39 прогулов!
В баскетболе желал я превзойти юного сараевского героя Даворина Поповича Пимпека. Он с невиданной быстротой пробивал мяч между ногами игроков, предчувствовал действия противника, подавал с двухшаговой пробежкой, или назад через плечо. Получалось у него лучше всех, хотя ростом, по сравнению с остальными игроками, он был как мальчик среди джиннов. Играл он в баскетбол как те негры из Гарлема. В время тайм-аута брал сигарету и курил. Паша, как самый сильный из нас, а значит, и самый умный, так истолковывал пимпекову манеру игры:
— Просто, он себе легкие продувает. Это как если в машине выжать газ, то дым выходит из выхлопной трубы под давлением. Я тоже так делаю, затягиваюсь дымом глубоко по самые яйца, а потом резко выдыхаю. Знаешь, что тогда чувствуешь?
— Не знаю, — сказал я, он понял, что я издеваюсь, и погнался за мной по запасному полю стадиона ФИС. Были мы похожи на молодых медведей, которые точат себе когти, бьют, чтоб стать сильнее. И, хотя удары получались нехилыми, мы все равно хохотали.
А когда на Восьмое марта Пимпек пел в зале ФИС вместе с «Индексами», я стоял в первом ряду и подпевал своей любимой песне «Будь я кем-то…». Слова этой песни полностью соответствовал моим устремлениям, потому что мне тоже хотелось стать кем-то. Восхищался я с расстояния этим юным сараевским героем и искренне ему завидовал: играет в баскетбол, пьет, открыто курит во время игры, поет в группе похожей на «Битлз». И, самое главное, не должен ходить в школу! И я, чтобы соответствовать этому жизненному идеалу, поменял манеру говорить. Охрипшим голосом подражал я сараевскому кумиру. И вечером, когда никто не мог меня видеть, стоял я перед зеркалом с невидимым микрофоном в руке, и пел: «Тяну к тебе я руки…»
Но когда, перед старым продмагом на Горице, услышал меня один цыган, что-то совсем не приглянулись ему ни мой голос, ни манера пения:
— Тебя, парень, твое пение никогда не прокормит, — сказал он мне.
Конечно, подобные мнения меня обескураживали, но утешение я находил в другом. И так было понятно, что карьера певца мне не светит.
Понял я это, пытаясь прислушиваться к своему голосу. И все же, опасение этого цыгана с Горицы решительным образом подействовало на мое решение посвятить себя баскетболу.
Самой значительной победой «Младой Босны» тех лет была игра против «Црвены звезды». Весь ФИС скандировал даворову кличку:
— Пимпек, Пимпек, Пимпек….!14
Паша, Ньего, Белый и я сидели под платаном на последней ступеньке трибуны. И снова самый умный из нас ощутил потребность внести свой интеллектуальный вклад в сегодняшнее мероприятие:
— Знаешь, что значит Пимпек?
— Не знаю!
— Когда Осмо спал на вокзале в Загребе, подошла к нему шлюха и спросила: «Хочешь пойдем прогуляем твой пимпек?»
— Да ты гонишь!
— Отцом моим мертвым клянусь: в Загребе то, что внизу называют «пимпек»!
— Это к Даворину отношения не имеет. Просто у него на мочке уха вырос такой отросток, это и называется пимпек, это мне батя рассказал, — защищал я героя сараевского асфальта.
Справедливости ради надо отметить, что в Загребе и Сараево действительно действовали разные языковые стандарты. Хорваты всегда придерживались собственного говора. То, что в Загребе называли «пимпек» — в Сараево было «чуна». Это небольшая лингвистическая перекличка и отвратила меня от баскетбола в пользу гандбола. Пока Даворин изматывал игроков «Звезды», бил в кольцо, я думал уже про гандбол, и все это из-за слова «пимпек». Самым знаменитым гандболистом Сараева был Мемнун Ичакович, и кличка у него была: «Чуна». Значит, если б он жил в Загребе, то его звали бы Пимпеком. Не знаю, как он умудрился заработать такую кличку, но точно одно, обладал он сокрушительным ударом. Игры в гандбол я посещал в основном из-за карнавальной обстановки на стадионе. Ичакович своей игрой вдохновлял болельщиков на поддержку его и «Младой Босны» таким вот двойным манером:
Часть времени публика скандировала:
— Чуна мастер! — а потом просто:
— Чуна!
Миролюбивая часть игры проходила под лозунгом «Чуна мастер!». Между тем, когда нужно было сбить с толку нападающих вражеской команды, дело доходило до активации тайного оружия.
— Мочи пидарасню! По еблищу! — завывал с трибуны Паша.
А мне было интересно, как какой-нибудь сторонний наблюдатель, понимающий при том, что означает чуна, может отнестись к тому, что восемьсот человек в ФИСе скандируют одновременно:
— Чуна! Чуна!
Думаю, немного было в мире мест, где так громко болели, открыто упоминая мужские вещи. По сути, это был такой отработанный знак, неписаный договор между болельщиками и этим гандболистом. Услышав этот знак, Ичакович начинал дубасить вражеского нападающего по голове. И если с первого раза не попадал, то пробовал снова. И только когда попадал он в цель, публика успокаивалась и больше не настаивала на доказательстве им своей мужественности. Тогда все снова скандировали «Чуна мастер!»
Вскоре Даворин Попович Пимпек завершил свою баскетбольную карьеру. Не было ни торжественного прощания и никаких таких особых проводов. Он просто решил, что хочет жизни полегче, и бросил баскетбол. Сидел он в новооткрытом ресторане «Кварнер» и играл в карты, когда пришел его друг Хайро и сказал:
— Даворин, ну мать же твою, ты в своем уме, игра уже началась, а ты тут в карты играешь?!
— Все нормально со мной, лучше сядь и выпей!
— Не хочу я пить, пошли на игру, вот твое снаряжение.
— С этого дня певец в баскетбол не играет.
И впрямь, с этого дня стал Даворин вместо баскетбола каждый вечер играть в «Кварнере» в карты.
Этот новый сараевский ресторан возник на месте буфета «Требевич», откуда вышел навстречу своей смерти пьяный Алия Папучар, он же Кларк Гейбл. Даворин же, играя в «Кварнере», одновременно занимался четырьмя занятиями. Сидел, пил шприцеры15, играл в карты и ждал барышей от своего кафе. Дружил он с моим отцом и часто засиживался с ним допоздна. Поэтому нас тоже позвали на открытие этой его кафешки, где присутствовало самое отборное общество. Со вступительным словом выступил Любо Койо, градоначальник Сараева. Не было при социализме заведено такого, чтобы поощрять частные предприятия, но Даворин был исключением:
— Давор, главное, чтобы это твое дело развернулось, не смотря на всякое там. Пусть будет тебе во всем удача, главное, смотри, чтоб не собирались у тебя усташи16 и другие враги нашей системы и товарища Тито.
Товарищ Койо не упомянул четников17, поскольку они всегда, в таких ситуациях, служили как бы противовесом усташам…
Аплодисменты!
Этот Койо еще раньше прославился и стал в Сараево легендарной личностью. Долгое время вел он переговоры с одной австрийской фирмой по поводу большого строительного проекта. И, когда однажды у него зазвонил телефон и поблизости не оказалось переводчика, он, не знающий ни одного иностранного языка, просто начал кричать в трубку:
— Але! Любо Койо у аппарата, Сараево, Гаврила Принцип, бум, бум, бум!
Дед мой часто говаривал: «От марта жди азарта», но и его, в конце концов, поглотил этот март, и никакого азарта в том не было.
Случилось это 9 марта 1972 года. Внезапно нам сообщили, что он скончался от удара! Смерть настигла его ночью, безболезненная, хорошая смерть. Так дед своим уходом нарушил ожидаемую очередность умирания в семье Нуманкадич. Жена у него уже болела уже долго и все думали, что сначала умрет она. Но дед, так уж ему было суждено, ушел первым.
Жизнь Хакии Нуманкадича потеряла смысл еще раньше, когда ему, из-за продажи родового дома на улице Мустафы Голубича 2, пришлось отказаться от привычного маршрута: дом — Башчаршия и назад. Раньше он шел на чаршию вниз по Далматинской, а возвращался по Большому парку наверх, мимо «хиппи-скамеек», чтобы, как он выражался, ходьбой размять сердце. Когда мы, его внуки, уже выросли, он все равно продолжал, на вершине Большого парка, раздавать незнакомым детям чернослив и ромовые конфеты. Дарил он эти маленькие «подарочки», которые радовали его маленьких обожателей. Теперь же, живя в Храсно, он вспоминал прошедшие дни, когда вся семья была в сборе. Заботился он о семье, все его любили и с удовольствием появлялись в его гостеприимном доме, в котором все его дети и внуки чувствовали себя под защитой, будто белые медведи. И больше всех его сын, господин Акиф Нуманкадич, представитель «Филипса» в Боснии и Герцеговине и личный приятель голландской королевы. Теперь деду оставалось только, как говорил, «подремывать» в клетке, как он называл свою квартирку на улице Браче Рибара 45. Больше всего его смерть потрясла мою маму. Умер он в обиде на Сенку, за то что за день до смерти она выбросила его старые калоши в помойку. Сделала она это потому, что ее раздражало, что отец ходит в разваливающейся обуви, изодранной прогулками из Биелавы в Башчаршию. Он же, в свою очередь, больше всего любил этот резиновый чехольчик для обуви именно в таком состоянии. Калоши были хорошо разношены и легко налезали на ботинки.
Потрясенная внезапным уходом отца, стояла Сенка на кухне с новыми калошами в руках. Как будто, протянув руки в сторону того света, могла она помириться с покойным отцом. На самом же деле, дедушка умер раньше. Настоящее его сердце осталось в баронском доме на Биелаве, а у этого, остановившегося в груди, не хватило сил, чтобы продолжать биться и сохранить ему жизнь, необходимую, чтобы помогать больной жене.
Мой отец после дедушкиной смерти доказал, что балканский мужчина умеет проявлять сочувствие. Я даже сказал Сенке, что он приятно меня удивил.
— Ты просто не помнишь его отца. Он заботился о своей эфендинице18 так, что все вокруг только об этом и говорили. Захоти она птичьего молока, он бы и его ей достал!
Отец прекратил уходить из дома каждый вечер, хотя от белых шприцеров тоже стал не отказываться. Теперь вся его компания собиралась у нас дома, а я потерял право на посещение ФИСа, и даже в футбол играть мне больше не разрешалось. Отец сказал мне:
— Никуда ты не пойдешь, пока не поправишь двойки, и никакого тебе спорта по собственному выбору.
Поручил он маме отдать меня на атлетику, поскольку, цитирую «Одна только королева спорта способствует правильному развитию молодежи». Так отец одним махом решал две задачи. Сенкина рана от потери отца залечивалась быстрее, потому что теперь мы больше времени проводили вместе, а я, наблюдая на кухне избранных гостей, мог чему-то научиться.
Не нравилась мне эта атлетика, но никто меня и не спрашивал, что мне нравится, а что нет. Стало это самой унылой частью моей спортивной карьеры. Домик-развалюха на краю стадиона «Кошево» был одновременно квартирой сторожа, раздевалкой и правлением атлетического клуба «Босния», все это на тридцати метрах. Переодеваясь, опасливо посматривал я на потолок. Покосившийся и укрепленный для надежности тонким брусом, он, казалось, мог обвалиться на голову в любую минуту. Сторож являлся заодно и тренером атлетического клуба «Босния». На тренировках он с идиотской настойчивостью требовал высокого задирания колен и орал:
— Выше ноги, выше!
На гомосексуалиста он похож не был, но часто его жена, не отрываясь от кормления ребенка, выглядывала из окна проверить, от кого это ее муж так громко требует поднять ноги! И, увидев бегущего меня, понимала, что браку ее ничто не угрожает. Почему-то решил он, что от меня выйдет толк в беге на 200 метров с препятствиями, потому и требовал высокого задирания колен.
Тренировался я в кроссовках, которые были мне велики на два размера. На самом деле кроссовки эти были у нас одни на двоих с офицером ЮНА на пенсии, который, помимо меня и двух студенток института физкультуры, был единственным членом атлетического клуба. Время тренировок мне приходилось все время менять в зависимости от того, в какую смену нужно было идти в школу, и я считал везением, если всю тренировку кроссовки оставались только на моих ногах.
В тот день я я вышел на беговую дорожку пораньше, потому что у меня отменили последний урок. Хотелось мне наконец решить проблему кроссовок.
— А можно мне как-нибудь получить новые кроссовки?
— Ты, парень, вот что — даже не думай получить от меня какие-то поблажки. Думаешь, раз твой отец помощник министра, то и тебе тут у меня можно выпендриваться? Думаешь, можешь хуйней тут страдать?
— Да вы меня не так поняли, я про кроссовки спросил не из-за отца. Они необходимы, чтобы улучшить показатели!
— Слушай сюда, парень, или будешь соблюдать режим как полагается, или иди накупи себе шмоток и мотай на хрен из спортивного центра, и чтоб духу твоего тут не было!
Гордость, с которой он произнес «спортивный центр», расставила все по местам. Спорить больше было не о чем.
Во время разогрева я ощутил пальцами ног какое-то неудобство, но, чтобы вновь не выслушивать безумных тренерских речей, промолчал. Помчался я долгими прыжками через препятствия, но он остановил меня и сказал:
— Ноги выше поднимай, мать твою, если зацепишься за препятствие и обдерешься о штангу, с меня ведь спросят!
Пока его голос гулко разносился по пустому стадиону, вновь я почувствовал что-то странное, будто на ноге у меня отрастает маленький палец. Поднял я ногу и понял, что в кроссовке что-то шевелится. Что за чудеса? Была это мышь, совсем маленький грызун, забравшийся в кроссовки армейского пенсионера. Я не знал, что делать. В панике ударил я ногой о штангу, но мышь еще сильней зашебуршилась. Тогда я начал бежать, вскидывая ноги и со всей дури стуча о штанги подошвами. Надеялся я, что грызун погибнет под моей тяжестью, и я смогу выбросить его из обуви, которая была мне велика на два размера. Потом остановился, но мышь снова завозилась на моей ступне, будто ей не нравилось, что я стою. Словно было ей приятно, когда от нее кому-то нет покоя и, стоило мне остановиться, как она снова заартачилась. Наверное, думала: «Зачем этот кретин остановился, разве не видит он, что мне нравится скорость?»
Побежал я и, сдавленно подвывая, сделал последний, стремительный и почетный круг по стадиону, с мышью в кроссовке. Было это концом моей атлетической карьеры.
В соответствии с новой установкой «алкоголь дома, а не в кафане», ситуация в нашей семье развивалась в позитивном направлении. Такими словами журналист из сараевской газеты описал бы состояние дел у нас дома. Отец собирал лучших друзей, которые приходили, привлеченные запахом мяса, запеченного по-боснийски, в горшочке. Видел я докторов, инженеров, режиссеров. Причем, сейчас я мог наблюдать их не одним глазом, как раньше, когда мы жили в Горице. Теперь я сидел с ними вместе, но в разговор не вмешивался. Иногда я чувствовал, что на какую-то тему и мне есть что сказать, но осмеливался вклиниваться во взрослые разговоры только со словами одобрения… Это вовсе не означало, что я со всем там соглашался. Было найдено и оправдание моему отсутствию в школе. Шиба Крвавац раздобыл для меня от какой-то своей любовницы бумагу, в которой было написано, что я полтора месяца проходил терапию больного колена.
В конце семестра, этот кинокудесник организовал мне перевод из Пятой гимназии во Вторую. Сербский язык и философия стали моими профильными предметами. Там я открыл для себя Радое Домановича и жизнь моя стала куда осмысленней, а в философии я, изучая силлогизмы, осознал преимущество своих герцеговинских корней. Логические выводы мы, герцеговинцы, всегда делали слишком поспешно, и поэтому в Сараево, желая нас оскорбить, говорили: «В нем борются герцеговинец и человек». Учился я делать логические выводы, что уже было важным делом. Особенно понравился мне профессор философии Срето Миланович. Он был забывчив и рассеян, но все его любили. Однажды он ушел из школы домой с журналом подмышкой, а на следующий день вернулся с тем же журналом, но в домашних тапочках. Поскольку была весна, он этого так и не заметил, пока коллеги в учительской не обратили на этот факт его внимания.
Вечер у нас дома начинался с того, что, перед ужином все собирались смотреть новости по телевизору. Садились мы в кресла, и первой новостью, конечно, была: «Товарищ Тито сегодня посетил… то-то и то-то».
Доктор Липа поворачивался к Шибе и тихонько его спрашивал, подмигивая Мурату:
— Так он что, в парике ходит, что ли?
— Исмет, не провоцируй! — пытался его угомонить Шиба.
— Чего не провоцировать-то, это ж не его волосы!
— Как так не его? — вмешивалась Сенка. — Не знала я, что вы, мужчины, такие завистливые, боже ж ты мой!
— Причем тут зависть, Сенка, ну-ка, посмотри хорошенько, это ж не его волосы!
— Конечно его, просто крашеные.
— Да ты чего несешь-то? — отзывался Шиба, показывая на люстру, и было непонятно, то ли он шутит, то ли и впрямь указывает на опасность прослушивания. Был это уже не тот панический страх, как в горицких разговорах с отцом. Тогда он делал все, чтобы избежать выслушивания и даже понимания того, что произносил отец. Когда не получалось по-другому, он отцу, на середине фразы, начинал петь и не переставал, пока тот не умолкнет.
— Кто это чушь несет? — спрашивал дядя Омерица.
— Ты, Омерица!
— Да почему чушь-то, сам посуди, ну как может быть у человека его возраста ни одного седого волоска?
— Сейчас такие шампуни есть, помоешь ими голову, и седины не видать! — защищала Сенка Тито.
— То, о чем ты, Сенка, говоришь, называется хна.
— Божья матерь, мне ли не знать, что такое хна, это ж я хной голову крашу, а не ты!
— Ну так посмотри на его голову, совсем на настоящие волосы непохоже, — настаивал на своем доктор Липа.
Отец мой помалкивал и в обсуждении Тито участия не принимал, что было необычно. И наконец он ворвался в разговор, внезапно и убийственно:
— Люди, правильно говорит Омерица, то, что вы видите, это не настоящие титовы волосы, он их красит гуталином!
— Чем, прости? — переспросил Шиба. — Гуталином?! Сенка, твой муж-то совсем рехнулся! — раздраженно сказал он.
— Да ты что, неужто прямо гуталином? — принялся поддакивать Омерица, помогая отцу дразнить Шибу.
— Да, дорогие мои, гуталин подходит лучше, потому что человеческие волосы это протеин, и реагируют только на сильную химию. Гуталин для здоровья безвреден, надо только с ним осторожно, чтобы не переборщить!
Отец сохранял серьезнейшее выражение лица, как Боро Тодорович в роли хулигана.
— Бога ради, Мурат, ну почему ты такой?!?
— Какой это такой? — спросил отец мою маму, с упором на «такой».
— Ну как же это так можно красить волосы кремом для обуви. Ты просто бессовестный.
И тут вмешался Шиба, так, чтобы его было слышно не только присутствующим, но и по подслушке.
— Он, Сенка, не бессовестный, он ненормальный, гуталином когда-то мазались белые актеры, когда нужно было сыграть негра на сцене, а не президент республики! — сказал знаменитый режиссер приключенческих фильмов, вспомнивший, как людей гноили на Голом острове за куда более безобидные вещи, чем вся эта хреновина с окраской титовых волос.
— Давайте-ка лучше споем что-нибудь, люди, на хрена нам эта политика, чтоб ее разодрало к чертовой бабушке?
— Да причем тут политика, Сенка, видишь, мы изучаем тайны парикмахерского искусства! — настаивал мой отец, будто актер на сцене, в патронташе которого не кончились еще пули, которыми он и дальше хочет развлекать публику.
— Перестань, Мурат, Бога ради тебя прошу! — теперь мама уже начинала сердиться, показывая ему на испуганного Шибу Крвавца. Омерица запевал: «Зацвели уж розы у меня в саду…»
Я воспользовался случаем и после всех этих забав о гуталине и Тито попросил дядю Шибу зайти ко мне в комнату. Он едва дождался зайти за мной и сказал:
— Как же они постарели, Эмир, поистрепались, Боже ж ты мой.
Удивил я его вопросом, давно мучившим меня. Смотрел я разные фильмы, и многого не понимал. Нравились мне его фильмы о дружбе во время войны. Особенно фильм «Мост», где боец вынес своего товарища на плечах. А так как этот товарищ, которого несли, был опасно ранен в ногу, попросил он своего друга оставить его и спасать себя. Но товарищ не захотел обрекать раненого на плен, и сказал:
— Никогда, побро.
Это было сокращение от «побратим», но то, с каким выражением Бурдуш сказал это, было, вероятно, художественным приемом усиления эмоции. Задал я Шибе вопрос, хотя не потому вовсе, что мне был так уж интересен ответ. Хотелось мне ему показать, что, несмотря на все эти двойки, в совсем не такой уж глупый.
— Дядя Шиба, очень мне нравятся партизанские фильмы, но почему в нашей стране никто не снимает хороших любовных фильмов?
— Просто все ждут, когда ты закончишь киноакадемию!
— Да ладно вам шутить, я ж серьезно спрашиваю?
— А с чего ты решил, что я шучу?
— И чего это, я запросто так смогу стать режиссером, что ли?
— Ну, это совсем несложно, поучишься всему понемногу, тут не обязательно быть специалистом в какой-то области, то есть знать надо все, но поверхностно.
— То есть все, и ничего? — спросил я.
— Вот именно. Нужно обучиться только ремеслу! — И я подумал: вот это для меня, все равно ведь сую свой нос повсюду, и все мне интересно!
— А ремеслу где можно научиться, в школе?
— И на практике. Мы все учились, ассистируя другим.
А я, по своему обыкновению, упрямо настаивал:
— Нет, ну а как мне научиться снять любовный фильм?
— Да ты, парень, влюбился, что ли?
— Нет, но был влюблен полтора раза! — Кажется, проживание в полуторных квартирах отразилось и на моей любовной жизни.
— Как это влюблен полтора раза?
— А так, первый раз я был влюблен в Снежану Видович и несколько раз пугал ее и целовал, а Невенку я держал за груди!
— Что ты делал?
— Просто держал ее за груди, и ничего больше.
— Больше ничего?
— Ну, хорошо, теперь пришло твое время поцеловать, взяться за груди, потом помять их, как делают женщины, когда разминают тесто для питы, а потом довести дело до конца и сделать это!
— Что?
— Соединить вместе и первое, и второе, и эту твою половину, чтобы все стало целым!
Стало мне неловко и я покраснел, будто рак, потому что догадался, что нужно было сделать.
— На самом деле, любовный фильм в современной версии должен основываться на классическом сюжете с использованием современных костюмов и сценографии, а тема любви являет собой извечную человеческую проблему. Двое любят друг друга, а третий им препятствует в борьбе за эту любовь. Они сражаются, преодолевают великие препятствия, но в конце концов любовь побеждает. Как, скажем, Ромео и Джульетта, Омер и Мейрима. Тут те же законы, что и в книгах, история должна иметь свои начало, середину и конец. Всему этому можно научиться в школе.
Был я безмерно благодарен Шибе, за то, что он впервые сказал, что я могу стать режиссером. И неважно, что я толком не понимал, что это такое. Уже тогда охватывал меня страх перед будущим. Иногда я боялся, что не справляюсь с задачей стать Кем-то. Позже, когда вечер и вино подходили к концу, Шиба сказал отцу:
— У твоего парня такие здоровенные глазищи, дам-ка я ему маленькую роль в «Вальтере», только пока ничего ему не говори, пусть сначала закончит четверть.
Наутро отец не выдержал и сказал мне, когда будил в школу:
— Если закончишь с хорошими оценками, Шиба будет тебя снимать в фильме.
Актерство меня не особо привлекало, но отцу я сказал, что намерение Шибы меня радует. На самом деле, мне нравилось только режиссерское звание. Хотя, как я уже говорил, что это такое, я не знал.
После школы я поехал вместе с Сенкой в Храсно навестить ее маму. По дороге Сенка разглядывала витрины. Заходили мы с ней в магазины, выходили, заходили, и в одной из этих витрин я увидел фотоаппарат. Подумал я: «Это первый шаг к режиссуре, ведь фильм это просто череда фотографий, расставленных в нужном порядке!». Был это русский аппарат «Зоркий», и стоял он сбоку, около четырех-пяти восточногерманских «Практик».
— А сколько стоит вон тот? — спросила мама, и продавец ей ответил:
— Надо вам договориться с Ухеркой, это его аппарат, а живет он на Калемовой улице.
Взяли мы номер телефона Ухерки и позвонили. Когда мама услышала цену, то загоревала:
— О-хо-хо, дорого, сынок, прямо жуть. Знаешь, сколько всего можно за такие деньги понакупить?
— Если вы серьезный покупатель, госпожа, то можно и в рассрочку.
Умоляюще смотрел я на Сенку, не зная, что она скажет.
— Сейчас мы на мели, нету денег совсем, подожди до первого числа, потерпи немножко, знаешь ведь, если в школе у тебя все будет в порядке, отец для тебя звезды с неба достанет!
— А деньги от дедушкиного дома?
Сенка остолбенела.
— Они же на черный день отложены! А это никакой не черный день, да как тебе не стыдно! — заткнула мне рот мама.
Этот Ухерка, ассистент кинооператора, работавший с шибиными операторами, кроме поддержанного «Зоркого», предлагал на продажу еще и две круглых фотолампы. Встречу между нами устроил, конечно, Шиба Крвавац. Целый день в школе пытался я придумать сценарий, потому что от Шибы слышал, что без хорошего сценария фильма не получится. То, что придумал я во время уроков, нужно было теперь сообщить Ухерке. Важней всего было уговорить Ухерку стать оператором моего первого любительского фильма. Все это я рассказал ему на одном дыхании. Смотрел он на меня и, наверное, думал, что видит перед собой невежду, но не прерывал меня, пока я не стал описывать, как главный герой фильма едет на трамвае из центра города, и возле кондитерской «Оломан» сворачивает в сторону дома культуры «Чуро Чакович». Он сначала открыл рот, а потом удивленно спросил:
— Ладно, а как думаешь такое можно сделать? — на что я храбро ему отвечал:
— Да ерунда же. Этот трамвай сходит возле «Оломана» с рельсов, едет по улице, пересекает улицу Васи Мискина, и вот он на месте, наш юноша выходит и идет в «Темпл». Внутренний голос говорит ему что балерина за занавесом, он выскакивает из трамвая!?
Ухерка сказал:
— Постой, постой, а как это тебе представляется, что трамвай сходит с рельсов?!
— Да просто же, какого черта, это фильм или не фильм? если фильм, тогда можно показать и невозможное!
— Этот твой парень должен поступать на режиссуру! — сказал Шиба отцу. Ясно было, что Ухерка сообщил ему о моем представлении о невозможном в кинематографе!
— Он настоящий авантюрист и это самое главное. Можешь себе представить, потребовал от оператора, чтобы около кондитерской «Оломан» трамвай сошел с рельсов и поехал до «Темпла». Это, Мурат, добрый знак, просто отличный.
Ведь его самого тоже называли авантюристом от кинематографии, потому что по пути к хорошему фильму не жалел он ни себя, ни окружающих. Шиба подробно описал встречу с оператором и высказанные мной соображения о невозможном. Уже на следующий день Мурат сказал Сенке:
— Займи из кассы взаимопомощи, верну с тринадцатой зарплаты, надо купить ему ту камеру и те лампы!
Через два дня в моей комнате стояли на столиках две округлые фотолампы. Увидев это вечером, Юсуф Камерич, директор Коммунального предприятия, сказал Мурату:
— Хорошо тебе, Мутица, твой сын знает, чего хочет.
Это было вовсе не так, но прозвучало приятно. У меня еще не было ясного представления, чего и как я хочу, но эти осветительный набор, и аппарат, придавали мне некоторую важность и значение. Вроде как тот «Титаник», которого я сделал в первом классе. В школе, не знаю уж как, прознали, что я буду делать свой первый любительский фильм в Киноклубе «Сараево». Когда на перемене мы курили в школьном туалете, один парень сказал мне:
— Собрался в деятели киноискусства, Куста? Ну, мать твою, если увидишь Неду Арнерич, передай ей, что есть у тебя приятель, который готов за бесплатно быть каскадером у нее в постели, ха, ха!
Почувствовал я, что мне завидуют, и это меня не беспокоило. Потому что теперь я знал, что моя жизнь сдвинулась с критической точки, называвшейся Никто!
Когда я снова встретился с Ухеркой, он спросил меня:
— А какой у тебя в фильме сценарий?
Я сказал:
— Жанровый фильм про любовь. Один молодой человек просыпается у себя дома. Но не сам просыпается — будят его колокола православной и католической церквей, а в конце и резкий перестук сахат-кулы19. Все как у Андрича.
— Постой-ка… а где ты хочешь это снимать?
— Например, у меня дома?
— А ты разве в центре живешь?
— На Кати Говорушич 9а.
— Но там же этого не снять?
— Почему это?
— Так ясно же почему, не слышно оттуда никаких колоколов, нужно искать подходящее место.
— Зачем что-то искать, снимем как он просыпается в моей комнате, а когда встанет с кровати, снимем его возле окна, выходящего на церковь, а окно установим на какой-нибудь террасе возле кафедрального собора, и готова сцена.
— А где окно-то взять, дорогой ты мой?
— Да найдем окно, тоже мне проблема, окно. Прикрепим его снизу, на время, к ограде балкона!
Нелегко было Ухерке совладать с моим напором.
— Нет, ну-ка, погоди-ка, а как ты думаешь я все это должен осветить?
— Э, а вот этого не знаю, я ж не оператор.
— Получается, что нам должно быть слышно то же, что и главному герою фильма, колокольный звон, но для этого нам не обязательно показывать сразу две церкви. Снимем только одну, а другой звон включим в записи. Так можно?
— Да, думаю, можно. Но надо посмотреть, справиться ли с этим монтажер. Знаешь Веско Кадича?
— А кто это?
— Монтажер, автор любительских фильмов. Вот его и спроси, как все это можно сделать!
Ухерка смирился со своей участью. Понял, что перед ним помешанный, готовый отстаивать свой замысел до конца. Не обращая внимания на то, хорош ли и осуществим ли он!
В основе фильма, созревшего у меня в голове, не было классического сюжета. Я хотел, чтобы этот фильм выразил мою жизнь.
— Один молодой человек просыпается в Сараево, месте пересечения разных вероисповеданий, как пишет Андрич. Жизнь этого юноши бесцельна и лишена надежды. Это заметно по тому, как он постоянно ходит по одной и той же улице. Эту сцену мы будем все время повторять, как припев в песне. Так мы сможем показать зрителю, что жизнь молодого человека протекает однообразно и что он совершено потерян. Он просто не знает чего хочет.
— А как хочешь ты это показать? — усмехнулся Ухерка.
— Повторением одних и тех же сцен. Закрепим образ человека, который бесцельно идет по одной улице. Пусть, например, это будет Штросмайерова с кафедральным собором на заднем плане. Его жизнь изменится, когда он поймет, как добиться этих перемен. Переворот этот, ясное дело, произойдет из-за женщины! Той, которую он полюбит, а не проститутки, с которой он переспал. От проститутки он бежит! А та, которую он любит, это женщина-идея. Она не ходит по магазинам, не ворчит, она вообще никакого отношения к реальности не имеет, а все-таки это женщина!
— Так не бывает!
— Что не бывает?
— Ты же говоришь, что он ее любит, но что не так, как с проституткой, от которой он убегает и с которой спал?
— Ты просто не понял. Она живет только на сцене, за занавесом, она балерина!
— Живет на сцене. Как это можно жить на сцене? Что это? Поставила на сцене палатку, или кровать, а в туалет, например, она куда ходит?
Вот теперь этот Ухерка начал меня раздражать. «Какой дебил», подумал я, но ему, конечно, этого не сказал.
— Да нет же, ты меня вообще не понял, наверное, я не так выразился. Нам вообще не важно, живет ли она на сцене или нет.
— Хорошо, нам не важно, но вот только видно, что не читал ты Пудовкина. Надо тебе немножко подучиться в области киноискусства, это все поэтика лицентиа!20
— Какая поэтика?
— Лицентиа, общее место. А в кино надо избегать общих мест!
Будто нож всадил мне в сердце этот Ухерка! Мне надо учиться, подумал я, это, конечно, так, но зачем сейчас-то об этом говорить.
А он продолжал меня унижать:
— Зрители всегда оценивают персонажей фильма, насколько те правдоподобны и оригинальны!
— Ну вот же! Я как раз хочу этого и избежать, общего места!
Сказал я это, а внутри у меня все бурлило, пытался я найти способ осадить этого Ухерку.
— А мы как бы найдем балерину на сцене, будто пришла она в тот день перед генеральной репетицией, порепетировать в одиночку. В конце поставим музыку Чайковского, поразим зрителя экспрессией! — спорил я со сказанным им вещами. — Так зрители смогут насладиться сочетанием картинки и звука, и не будет у них времени думать, сходила ли она в туалет, что ела и как спала.
Говорили я это, смотрел в глаза растерянному оператору, и думал: вот так-то, не будешь ты мне, Ухерка, больше мозги канифолить!
— Вот, значит, этот парень, главный герой, находит женщину своей жизни на сцене, в описанной ситуации. Тут включаем музыку Чайковского, конец «Лебединого озера», знаешь, это вот на-на-на-на и готово.
— Ну хорошо, раз это репетиция, тогда конечно можно. Да, неплохо, прекрасно, и правда все у тебя экспрессивно так получается.
— Ясное дело, может я плохо рассказываю, но я прямо вот вижу эти картинки, точно знаю, как оно должно выглядеть, но мне не хватает слов, то есть, думаю, слова у меня есть, но не знаю, как их правильно расставить и очаровать, хотя знаю… ух, что-то я запутался!
Теперь я говорил искренне и больше Ухерка меня не раздражал. Было это первой проверкой того, что я придумал снять, и было хорошо проговорить все вслух. Все, что я сказал, прозвучало неплохо в качестве сценария.
— А как ты назовешь этот фильм?
«Часть истины».
— Хм. А почему?
— А потому, что это моя истина. Хочу, чтобы она была так представлена в фильме. Моя, понимаешь. Только моя истина!
— Понял я, что это твоя истина, но почему бы тогда не назвать фильм «моя истина»? Хоть это и не так экспрессивно, но мне кажется, что, вроде, точнее?
— Не надо мне, чтобы точно, хочу показать, что истина не одна.
Почувствовал я, что с этой «Моей истиной» он таки меня сделал, но я не сдавался. Подумал я, что стоит уступить сейчас, то потом он все время съемок будет меня поучать. Шиба говорил мне, что важно держать съемочную группу как пастух, не дающий овцам потеряться. Надо быть строгим, но справедливым. Как товарищ Тито.
Вечером Шиба просмотрел написанный текст. Сказал он мне:
— Хорошо. Очень экспрессивно.
Хм, не особо-то он меня похвалил, но, все же, неплохо, что ему все это показалось выразительным.
Выражение «экспрессивно» использовали люди из артистических кругов, и я понимал его в смысле, близком к «интересно», которое мне не нравилось, потому что его использовал один художник на выставке моего двоюродного брата. Заметно было, что эдины картины ему не нравятся, но он сказал:
— Должен тебе, Эдо, сказать, что картины у тебя интересные.
Эдо молча смотрел на него, и он добавил:
— Очень даже интересные!
Получилось что-то вроде не хочу тебя обидеть, хотя картины ему не понравились, он и не соврал, но и не похвалил эдину работу.
Шиба посмотрел на меня и заметил, что я сильно взволнован. Приблизился первый съемочный день фильма «Часть истины».
— Знаешь, Эмир, сегодня фильмы снимают по-быстрому, тяп-ляп. Это происходит из-за заблуждения, что можно поссать на бегу и остаться сухим. Потому что не знают они, как тяжело возвести здание фильма. А это необходимо самому главному защитнику публики, то есть — режиссеру. Все эти тяп-ляп режиссеры снимают фильм за два месяца, и что? Да ничего. Не идет фильм. Только он вроде разошелся, а тут уж пора фильм заканчивать. Это как в любви, там тоже хватает оглаживания руками, поцелуев и тому подобного. А дело доводишь по-мужски, до конца, как настоящий шахтер. Только тогда другая сторона, твоя партнерша, оценит твои усилия. То же и с публикой, если ее не растормошить, оскорбить, разбередить, утомить, рассмешить, они тогда уйдут домой, будто в кинозале ничего не произошло.
Если тебе во время съемок понравился какой-нибудь кадр, то на большом экране он будет в восемь раз лучше. А если тебе что-то не нравится, то по принципу тяп-ляп фильма можно соврать себе и сказать хорошо, поехали дальше, но было-то нехорошо, и на большом экране это будет в восемь раз увеличено, значит, в восемь раз заметней, чем на съемках! Все пропущенное на съемках безвозвратно уплывает вниз по течению! Когда выключат свет, начнется фильм, вот тогда-то ты или пан, или пропал. Выключен свет и начинается фильм, идет сцена, большой праздничный парад, на котором нужно было б снять сотню статистов. Публика не понимает в чем дело, но чувствует, что что-то не так. Ну, нельзя же зайти в зал и сказать: «Друзья, тут надо было снять сотню статистов, но не получилось, извините, денег не хватило». Тогда тебе шпана с первых рядов, куда билеты дешевые, скажет: «Тебе чего надо, мудила, пошел отсюда, не мешай смотреть». Если не удастся приковать публику к сиденьям, отбить у них всякую возможность задуматься, тогда все считай пошло к чертовой бабушке. Нужно сделать так, чтобы они все время, без передыху, находились в чувственном напряжении. Как? Да любым способом, как у тебя лучше получается. Может ли дерево перестать расти? не может, так вот не может и фильм.
— А если пленка порвется?
— А ну, хватит придуриваться, нет, ну паршивец! Заклеят пленку и опять кино пустят, вот что будет.
Не знал я, занимаясь переоборудованием нашей гостиной под съемочную площадку, что течение жизни воспрепятствует началу съемок моего первого любительского фильма. Когда уже мы договорились, что Мирза Танович, городской клоун, снимется в главной роли, в наш дом пришла весть, после которой оставляются все занятия, даже менее сложные, чем киносъемка.
День 17 июня 1972 года начался для Ханифы Нуманкадич так же, как и все другие дни последних двадцати пяти лет ее жизни. После утренних процедур она пошла в гости, к своей Коне, как ласково называла она свою любимую соседку. Поднялась старушка на седьмой этаж, в квартиру госпожи Малович, выпить кофе. Выпила чашечку, пожаловалась на ревматизм, даже приметила новый ковер на полу и похвалила его расцветку. Потом ушла в душевую и закрыла за собой двери. Из-за слабого здоровья старушки, Малович скоро забеспокоилась, чего это ее гостья не выходит из душевой. Ты там не свалилась, спросила она. Пробовала она до Ханифы докричаться, но та не отзывалась. Стала она тогда стучать в двери. Когда и тут никто не отозвался, принялась она уже по дверям долбить. Ничего не оставалось, кроме как дверь выломать. В душевой было пусто, а Малович в ужасе запричитала. Высунулась она из окна и увидела ужасную картину: перед дверьми подъезда лежало размазанное по асфальту вдребезги разбитое тело. Когда сосед с первого этажа прикрывал тело бедной бабушки, ее платок был подхвачен ветром и, будто знамя ее души, воспарил между новостройками Храсно. Этот кашмирский платок, полученный в подарок от сына, долгие годы грел больную старушку и был метафорой ее семейственности. Так и остался он в нашей памяти парящим, всегда напоминая о хрупкой природе человека, которая в любой момент может приоткрыть свое окно в смерть.
Среди множества связанных с покойницей рассказов, чаще всего вспоминалось, как она поучала своих детей:
— Запомните, детки, сосед важнее вам родной матери!
О добрососедстве в Боснии говорят много, и всегда подчеркивается важность соседских взаимоотношений. Возможно, в старые времена так оно и было, но вот сегодня никаких особых достижений в этой области не отмечается. Тем более отталкивающими оказались побуждения соседа с первого этажа, прикрывшего покрывалом страдалицу, нашу мертвую бабушку. Сделал он это не для того, что спрятать от взглядов соседей погибшую женщину и грубую картину ее смерти, такой уж был заведен порядок, прикрывать смерть, пока не приедут доктора или могильщики и не унесут разбитое тело. Потому что как только его дети вернулись из школы, прошли мимо прикрытой старушки и, не увидев ничего травмирующего, зашли в дом, он снял с бедолаги покрывало, вернулся домой и бросил его в стиральную машину.
Моя мама пришла на место несчастья, увидела изломанное бабушкино тело и никогда больше уже не смогла избавиться от этой картины. В такие моменты невозможно найти слова утешения, но Сенка знала, что до такой смерти ее маму довела не болезнь, с которой она успешно боролась много лет. Просто не было больше рядом с ней ее мужа, и она не видела причин жить дальше.
Снимать фильм тогда было невозможно. Сделано это было, когда в чувствах всех нас, родных и близких благородной старушки, начало тускнеть невероятное несчастье ее самоубийства. Фильм был снят, когда смягчилась в наших мыслях острота этого происшествия, подобно тому, как со временем с черно-белой фотографии пропадает блеск и сменяется матовой поверхностью, которая становится привычной, и само происшествие исчезает в объятиях вечности.
Моя жизнь
Фильм «Часть истины» был показан в тысяча девятьсот семьдесят третьем году, на фестивале любительского кино в Зенице. Жюри фестиваля пришпилило мою звезду к закопченным зеницким небесам: присудило фильму первый приз. Это произведение не внесло значительного вклада в мировой кинематограф, но никто не рассчитывал, что «Часть истины» войдет в какие-то там анналы. Фраза, сказанная отцовским другом Камеричем:
— Хорошо тебе, Мутица, твой сын знает, чего хочет, — обрела смысл только после этой награды. Послал я «Часть истины» в пражскую Академию Изящных Искусств в качестве первого из вступительных экзаменов. Экспрессивность этого фильма стала достаточным предлогом для приемной комиссии, чтобы пригласить меня в Прагу для сдачи устных экзаменов.
В Прагу поехали Шиба Крвавац, отец, Омерица и я. То есть именно те, кто участвовал в наставлении заблудшего гимназиста. Путь в Академию проторила мне тетка Биба, которая, после Варшавы и удачного разрешения неурядиц с семейством Райнвайн, съехавшим, наконец, с их терезийской квартиры, вместе с дядей Бубо четыре года проработала в Праге. Работала она вновь в Международном Рабочем институте, а дядя был корреспондентом Танюга. К тому времени на смену телепринтеру уже пришел телефакс, так что дядя Любо Райнвайн теперь мог посвятить игре в теннис больше времени. Так он познакомился с Вацлавом Ицхой, секретарем Академии Изящных Искусств. А тетка Биба уж постаралась принять его получше и рассказать обо мне, представив меня в самом лучшем свете. Хотя целый год тетка жила уже в Белграде, связи с Ицхой и другими полезными людьми она поддерживала. Встретился я с ней на теразийской квартире, где она ожидала меня и приняла, как и всегда, по-царски, и, как обычно, принялась возмущаться мужниной родней:
— Они даже Славенкину гармошку поперли, немчура чертова!
— Они не немчура, тетка, Райнвайны родом из Австрии!
— Без разницы это, мой Эмир! С Любомиром Райнвайном и его семейкой надо быть начеку! Даже во сне, один глаз надо держать открытым, а одним ухом прислушиваться!
— И чего ж они, такие страшные, что ли?
— Райнвайны? Не знаешь ты, мой Эмир, с кем я живу!
— Если нужна будет помощь, ты меня зови, знаешь ведь, я для тебя готов на все! — хотелось мне, чтобы тетка знала, что может на меня рассчитывать, а она заплакала и сказала:
— Солнце ты мое!
Поступить в Академию было не так уж легко. Каждый, кто мечтает о карьере художника, боится, что не сможет выразить себя наилучшим образом в напряженный момент экзамена, что приемная комиссия его не поймет!
В ночь перед экзаменом остался я один в гостинице «Люцерна». В тот день, всякий раз, стоило мне сделать перерыв в занятиях и зайти в номер членов пражской экспедиции, они резко меняли тему. Омерица, заказав в комнату пражской ветчины, поймал взгляд молодой декольтированной официантки и сказал:
— Смотрите-ка, видали, как она смотрела на Эмира?
Я смутился, потому что на самом деле это я смотрел на официантку, а не она на меня. Догадался я, что таким образом Омерица поменял тему их разговора, разработку плана вечерней охоты за чешками. Мурат подключился к этой акции, забыв, что я тоже герцеговинец, и потому способен кратчайшими путями достигать логических умозаключений.
— Ну как на него не глядеть, высок, пригож, а еще и умен! Не то, что мы.
Ясно было, что все это говорится в качестве извинения за будущие вечерние похождения. И никого не удивило, когда ближе к вечеру они ушли «прошвырнуться».
Гостиничные номера никогда мне не нравились. Дребезжал холодильник, охлаждая напитки, а впадины на матрасе свидетельствовали о тысячах людей, спавших здесь до меня. Кто только не скакал по этим кроватям. Похотливцы всех мастей, нашедшие в чешках идеальное сочетание домохозяйки и проститутки. Однообразно мигали огни неоновой рекламы на соседней гостинице, и тень падала на стену над моей головой. Здесь даже свет ощущался невыносимым звуком. Вместе с трамваем, прогромыхавшим по Вацлавскому наместью, в мыслях моих мелькнула идея, что способность воспринимать свет как звук полезна тому, кто хочет заниматься режиссурой.
Единственным способом выбраться из унылой комнаты, в которой ничто не радовало взгляда кандидата на изучение режиссуры, было бегство в литературу. Чтение оставляло во мне то же самое ощущение, с которым я впервые столкнулся, начав строить свой «Титаник». Любые неприятные обстоятельства, доставляемые человеку временем и пространством, сразу исчезали. Особенно ярко проявлялось это, когда в свой мир увлекал меня Чехов. Его простые и, одновременно, фантастические рассказы о неприметных людях напоминали мне собственную жизнь. Мой отец был человеком из чеховских рассказов. Точнее, его желание рассматривать течение истории с точки зрения маленького человека совпадало с мотивами чеховских юношей. Открыл я первую страницу книги и сразу попал на личность, меня очаровавшую. Захотелось мне упростить свою жизнь, по примеру одного чеховского персонажа, учителя географии. Тот свое видение мира основывал только на очевидных вещах. Не позволял себе говорить вещей, про которые точно не знал бы, что они стопроцентно верны. «Зимой, когда холодно, человеку лучше в домашнем тепле, возле печки», — говорил он.
Восхищение вызывала у меня его мечта, высказанная им так: «А когда жарит солнце, лучше всего для человека укрыться в тени».
Команда ушедших «прошвырнуться» не вернулась в гостиницу до самого утра, а я, уже на рассвете, заснул с чеховской книгой на груди и учителем географии в голове.
Члены приемной комиссии были похожи на всех других кинодеятелей, которых я когда-либо видел. Они принадлежали к тому самому типажу, легко узнаваемому по вельветовым пиджакам с кожаными заплатами на локтях. У одного даже на кашмировом свитере были такие заплаты. Казались они строгими, но меня не испугали. На вопрос члена комиссии, необходимо ли больше соцреализма в современном искусстве, я, предварительно спустившись со страниц чеховской литературы до аудитории вступительных экзаменов, ответил:
— Конечно, соцреализм очень важен в социалистических обществах, в жизни горожан, крестьян и рабочих.
Строгие члены комиссии неожиданно рассмеялись. Вероятно, из-за выражения, с которым я произнес эту фразу. На самом деле, я не представлял себе, что такое соцреализм, но знал, что «Мамаша Кураж» Бертольда Брехта — соцреалистическое произведение. Максим Горький, писатель, который мне понравился, тоже относился к этому направлению искусства. Члены комиссии смеялись, как зрители в театре, у которых иногда, посреди трагедии, игра актера вызывает внезапный взрыв смеха.
Вместе с началом кинодеятельности, в жизни моей произошло еще одно, значительнейшее, событие! Влюбился я, да еще по уши.
Впервые встретив Майю Мандич, на Яхорине, я понял это не сразу. Чуть позднее, во второй раз, все стало уже понятно. Встретились мы на Титовой улице, по которой она прогуливалась с собачкой. Труман предложил тогда Майе Мандич роль в моем новом любительском фильме. Этот фильм в социально-правдоподобном стиле был таки снят мною, но без Майи. Она ловко увернулась от предложения сыграть. Фильмы нужно делить с теми, с кем не станешь потом разделять свою жизнь.
До нашей первой встречи, моя мама Сенка и майин отец Мишо встречались каждое утро. И даже не знали о том, что знакомы. Двадцать лет подряд, Сенка с вершины Кошево, а Мишо снизу, шли на работу, Сенка на Строительный факультет, а Мишо в Окружной суд. Никогда и слова друг другу не сказали, а, получается, что были старыми знакомцами.
Хоть и не сыграв в моем первом фильме, Майя после получила главную роль в моей жизни. Однажды днем увидел я ее в «Шеталиште», и глазам своим не поверил. Школьные проблемы, похожие на мои, привели ее из Пятой гимназии во Вторую, и «Шеталиште» находилось всего в тридцати метрах от гимназии, носившей имя народного героя Огнена Прицы. Вместе со своей подругой Лилей Брчич, Майя решала кроссворд. Посмотрев на меня, она будто погасила свет во всем «Шеталиште», оставив там только один источник света — свои глаза. Теперь я знал, что между мной и ней никого нет. Призывно махнув рукой, показал я на кроссворд и сказал:
— Одно «о», одно «а», домашнее животное, что получается, аха, ава — значит, «корова»!
Договориться о свидании оказалось несложно. Завтра вечером в кафане отеля «Белград».
В этой кафане приключился неожиданный поворот событий. Совершенно куда-то запропастился тот болтливый юнец из «Шеталишта», которому, чтобы блистать, необходима публика. Давай, братишка, покажи себя, а мы смотрим! А тут чужой стадион, нехватка поддержки местных болельщиков, да еще и сладкий ужас перед игроком противника, смешали планы нападающего кафаны «Шеталиште».
Сидели мы в кафане отеля «Белград», как Адам и Ева на ветвях плодоносного древа. Ноги наши висели над бездной, не касаясь дешевого паркета. Охватывал меня страх, что, стоит нам пошевелиться, полетим мы кубарем с этого плодоносного древа в пропасть. Не знал я, куда именно мы упадем, потому что со времен сказания про Адама и Еву ситуация коренным образом поменялась. Подумал я тогда, а не имел ли в виду Бог, изгоняя Адама с Евой из рая в ад, Нью-Йорк?
Молчаливое сидение в отеле «Белград» было продолжением знакомства, которое завели на кошевской аллее Мишо и Сенка. О любви говорить с Майей не получалось совсем, потому что от смущения, производимого женским взглядом, меня всего трясло. Паралич за столиком кафаны гостиницы «Белград» прервал голос беззубого официанта:
— Что будете пить?
— Я стаканчик сока, — сказал я. — А деньги-то у тебя есть?
Мы, горичане, когда дело доходили до любви, никогда не были излишне откровенными. Скорее соревновались в том, кто лучше представит дело похожим на интересную забаву. Потому что мы презирали досуг, а любовь напоминала дело досужее. Все, связанное с любовью, казалось нам подражанием американским фильмам. Их персонажи часто занимались двумя делами одновременно: обычно, заходя в публичный туалет, они мочились и вели важные разговоры, а после, в другой сцене того же фильма, не менее двух-трех раз говорили «I love you». Ни первое, ни второе нам не нравилось. Потому что, раз уж мочишься, так и занимайся этим своим делом, а когда кого любишь, то зачем еще об этом и болтать. В любви же мы считали существенным то, что из-за нее страдают и плачут. Вроде как Паша, который часто плакал из-за Мирсады. Вершиной любви было, когда выходишь весь такой окровавленный из кафаны на горицкий асфальт. Когда речь шла о женщинах, то достойным считалось только страдание, все остальное было порнографией. И все-таки мы понимали, что отношения мужчины и женщины вещь крайне деликатная. Что же такое любовь, никто объяснить нам не мог. Так что я должен был сам найти собственный ответ на этот вопрос.
Смотрел я молча на Майю и думал, что любовь — это как когда на тебя стуча колесами мчится поезд, вагоны становятся все ближе, а ты прикован к рельсам, но думаешь только о том мгновении, когда ее взгляд утопит тебя в чувствах, которые заставят позабыть о звуке поезда и боли, когда он тебя раздавит. И ты, вдруг, станешь бесчувственным из-за этой любви. Ничего не будешь видеть, ничего не станешь слышать. И только потом выяснится, что поезда этого не существовало, а все, касающееся любви — великая тайна. Любовь это сон. И, может так статься, что лишь физический закон, согласно которому в пространстве два тела различной температуры стремятся к соединению.
Даже если бы вдруг включились сирены, предупреждающие о наступлении конца света, и тогда не двинуться было мне с разболтанного стула в кафане гостиницы «Белград». Скрипучий стул, теперь уже безоговорочно, заменил ветвь плодоносящего древа, с которого в любой момент мы могли быть низвергнуты из рая в ад. Тут-то мне и пришло в голову, что вместо ада Бог выгнал Адама с Евой в Нью-Йорк.
Землетрясения обходят столы влюбленных стороной. Как и болезни, и эпидемии. И мы просто сидели молча за тем столом, потому что омертвели мои губы, не в состоянии произнести ни одну из глупостей, произносимых людьми во времена взросления. Вероятно, потому, что молодой человек, хоть и глуп, но чувствует, что любовь лучше питается гармонией молчания и созерцания партнера, и не хочет подвергать ее риску болтовни. Как и в кино. Самых хороших диалогов и отличной сценографии недостаточно, чтобы фильм стал великим. Так и в любви. Вот что служило мне утешением. Наверное, любовь возникает в таинственных паузах между словами, между снами, любовь прорастает сквозь чувства, испытываемые человеком во время его обыденных занятий, и невозможно отгадать ее конечную тайну и понять, что в любовной связи важнее всего. Потому что, когда исчезает тайна, исчезает и любовь, тогда люди расходятся и начинают думать только об очевидных и, часто, неприглядных вещах.
Несмотря на все эти высокие соображения о любви, я продолжал сидеть молча. А вдруг она подумает, что я просто идиот? Может, сказать ей, что у меня уже есть девушка, хотя зачем мне обманывать, хотя нет, слышал же я, что женщины любят, когда им красиво лгут? А ведь мы только-только встретились. Как, если задуматься, тяжело все же таким, как Майя, красавицам. Ведь их красота, она вроде чемпионского титула, и к жизни отношения не имеет — как у Кассиуса Клея в боксе. И то лишь до боя с Фрейзером. Женская красота вещь возвышенная, и единственное, чему мужчина должен в женщине завидовать. Без последствий. Женская красота роднит род человеческий с вечностью.
Сидели мы и дальше, застыв на ветви плодоносного древа, а я пытался сообразить, как бы мне незаметно отсюда выбраться, как слезть с этого ненадежного ствола. Если попробовать в сторону листвы, то ветка, держащая нас, от этого молчания и раздумий может просто треснуть напополам. Не могу я больше выдержать этого взгляда, все уже, надо идти. Встану сейчас и пойду и, сделав шаг к листве, увижу Нью-Йорк. Неужели, действительно, судьба предназначила Нью-Йорку стать адом? И неужели века страданий между райскими садами и сегодняшним днем это лишь мгновение?
— Ты куда?
Слышу я голос Майи, останавливаюсь и соглашаюсь:
— Никуда!
Сажусь на место и чувствую себя роденовским мыслителем, вытесанным из камня.
Сидели мы на твердых стульях гостиничной кафаны «Белград». Я вздохнул и поерзал, не зная, куда деть руки. С ногами было еще хуже, все время я ими елозил, и выглядело это, словно я не могу справиться с эрекцией. Будто ноги у меня, как у Крешимира Чосича. Тем более, что я и покачивался так же, как этот Чоро в начале фильма «Однажды на Диком Западе». Майя смотрела на меня, боясь, что я упаду и увлеку ее за собой из рая в ад, и спросила с усмешкой:
— Куда-то торопишься?
Сказала она это так, будто ничего против не имела бы. Ах, если б я сумел объяснить, что такое любовь и произвести на нее впечатление. Может, рассказать ей об одном строительном инженере, который протащил вниз по Горице свою голую жену, показывая ее, неверную, прохожим, до самой Военной больницы. Четыре тысячи шагов прошли они так, и ни один из случайных зрителей не засмеялся над этим прискорбным зрелищем. Жалели они их, потому что пара эта прожила вместе уже двадцать лет. Потому что несчастливая любовь — это все равно тоже любовь.
Или рассказать о Гагарине? Скажу ей о том, как первый человек полетел в космос. Боюсь, посмотрит на меня со скукой. Ясно ведь, что многие уже пытались перед ней выделываться какие они умные и верили, что знаний достаточно для обретения женской благосклонности, которая, ясное дело, предшествует великой любви. Может, все же, попробовать рассказать о законе, действующем в пространстве, где гравитация не играет главной роли? Попробовать, все же, с Гагариным? Любовь теряет энергию как воздушный шар, летящий в небо. Так же, как все усилия влюбленных направлены на освобождение от всяких пустяков и банальностей вроде гравитации!
И, говоря о любви, одно лишь можно сказать точно: когда ветер дует, скрежеща жестью, по крышам лачуг и доносит тебе звук голоса, говорящего люблю тебя, значит так оно и есть, раз уж ты смог услышать эти слова, хоть может они и вовсе не были произнесены. Потому что в любви нет ничего реального, думал я. Она вроде некоего числа, которое содержит в себе все остальные числа. А раз чисел, в сущности, не существует, то не существует и этого числа любви. При том, что оно, все таки, существует.
Думаю, что именно той немой ночью в гостиничной кафане между нами все и произошло, все происшедшее после зародилось в эту ночь. Как Мишо с Сенкой, которые десятилетиями встречали друг друга так часто, и в тех встречах будто скопили время, претворившееся в нашу любовь.
Смотрел я на Майю и опускал взгляд вниз, где они встречались с ее коленями.
— Если бы королевство Югославия стояло на таких ногах, то продержалось бы много дольше! — бросил как-то Майе кондуктор автобуса, на котором она ехала из Кошева в город.
Прав был тот кондуктор-монархист. Однако у него-то, кондуктора, все так легко получилось, походя. Вся загвоздка в ответе на вопрос, а нам-то как наладить коммуникацию? Скажешь так что-то остроумное, а потом что? Нужно иметь наготове какую-нибудь байку!?
Вдруг выскочила из мешанины воспоминаний ко мне история из журнала о космонавтике «Галактика». Было там написано о том, как Гагарин полетел в космос! Вот что я ей расскажу. Все там очень хорошо разъясняется. Сила, поднимающая космонавта в воздух, возникает благодаря разнице давления. Под крылом летательного аппарата, благодаря пропеллеру, который крутится мотором, давление сильнее, чем над крылом. Будет ли это ей вообще интересно, или, рассказав такое Майе, я стану похож на всех остальных, которые уже пробовали рассказывать истории про летчиков. Может, стоит продолжить рассказом, как притягиваются друг к другу в пространстве два тела различной температуры? Смеяться будет, наверное, подумал я. Хотя почему б и не посмеяться. Смех это же первый шаг. Но вдруг она отнесется к вопросу серьезно и поддержит разговор. Вдруг окажется, что всю эту физику она вообще знает лучше меня?
Да заткнись уже, сказал я себе, чувствуя себя Мики Маусом, попытавшемся схватить кусок сыра «эмменталер» и вдруг угодившем в ловушку. Извивался я в отчаянии на полу и понял тут, как это удается Майе превращать мужчин в домашних мышей. Так ведь им и этого мало. Хочется им, едва переступив порог дома, например, зайдя в магазин, нацепить на себя шкуру разъяренного тигра. И тогда уж все все равно, нужно ли окрыситься на кассиршу в магазине за невежливость, проявленную к супруге, либо вообще воевать со всем миром. И в этом и есть великая тайна. Вот это вот сочетание. Если ты только мышь или, скажем, лев — этого им недостаточно. Что же мне поделать, спросил я себя, и поспешил из шкуры мыши, в которой находился только что, вернуться в свою собственную шкуру.
Адам с Евой на ветке, с которой из-за яблока они готовы упасть, и совсем не на землю райского сада. И если стулья гостиницы «Белград» это ветка райского древа, то тогда уж без всяких сомнений асфальт Нью-Йорка представляет собой дно ада. Какое же проклятие несет в себе человек. Совершенно я был уверен, что когда-то, выбирая для Адама с Евой наказание, Бог имел в виду именно Нью-Йорк. Правда, не был так уверен в том, что рай — это дешевая балканская гостиница. Нет, конечно, все-таки, рай. Потому что нельзя быть так влюбленным вне ограды райского сада.
Вышли мы из гостиничной кафаны, ночь пахла покоем, и я сделал глупость. Сказал я Майе, что у меня уже есть девушка. Так никогда и не понял я, был ли это тактический ход, или страх попасть в объятия такой женщины. Позже многие женщины, увидевшие в потрепанном художнике свой шанс, так ничего и не добились. Солгал я ей, что наша с ней история заканчивается тем вечером, хотя понимал, что у истории этой будет продолжение. Потому что, в конце-то концов, не для того Мишо с Сенкой столько раз забирались на Кошево и спускались вниз, чтобы мы эту сараевскую ночь просто так вот взяли и упустили вниз по течению Миляцки.
P.S. Райское древо, о котором размышлял я, когда мы сидели в гостинице «Белград», треснуло и упало, не выдержав веса листвы. И грех, действительно, довел нас до Нью-Йорка! Разве что приземление было мягким. Даже падать не пришлось. В тот город адской энергии попали мы в 1988-м, «боингом» компании JAT, наша дочь Дуня, сын Стрибор, Майя и я, потому что получил я там место профессора на отделении киноискусства Колумбийского университета. Когда мы покидали Югославию, на телевидении началась трансляция распада нашей страны. «Йогуртовая революция» отменила автономию Воеводины.
Ломоносовоговно!
В тысячу девятьсот семьдесят четвертом я покинул родительский дом. В том же году была принята новая Конституция Югославии, примечательная тем, что, согласно ей, Хорватия получила большую автономию, чем Сербия. Стало это первым шагом на пути к ослаблению общего государства южных славян, а мне все ясней становилось, что означает на Балканах слово «политика». То, что в тысяча девятьсот семьдесят первом называлось хорватской весной и считалось государственной изменой, было теперь увековечено в новой Конституции Югославии.
Девятнадцатилетний юноша отправился из своей глухомани изучать режиссуру в Академию Изящных Искусств в Праге. Отъезд в мать городов, как называют Прагу чехи, был не просто путешествием в цивилизованную Европу. Завершение моей жизни в родительском доме мама переживала как удар судьбы, но ее представление о том, что учение есть путь к жизненному успеху было сильней горя. Вот только не знала она, как смириться с тем, что я так далеко? Теперь ее тревоги будут серьезней беспокойства о сыне, который приходит домой поздно, дружит с опасными типами, и возвращается весь в крови после драки. Эту битву она уже выиграла, потому что большинство моих приятелей в конце концов оказались в исправительных заведениях, а я ни разу даже не переночевал в полицейском участке.
Уже тогда мне было понятно, что, если б не унаследованное сенкино упрямство, ничего не добился бы я и в творчестве. Сенка нашла способ отучить жильцов воровать лампочки c лестницы и из лифта. Стала она клеить на лампочки шипы терновника. Так дом по Кати Говорушич 9а стал единственным на всей улице, где в лифте всегда было светло. Никогда мама не отступалась от своего, скольких бы трудов ей это не стоило. Впрочем, когда речь шла обо мне, имелись в виду вовсе не первые награды на мировых фестивалях и все то, что случилось позднее. Отец видел это в другом свете.
Говорил он мне:
— Не обязательно тебе становиться Феллини, стань хотя бы Де Сикой.
Мама была еще скромнее. Она была готова на все, только чтобы я не был похож на местную шпану и получил высшее образование, которого она в свое время получить не успела. Чего бы это не стоило. Отец же беспокоился о других вещах, важных для всего человечества.
Получить загранпаспорт в СФРЮ было несложно, и это было нашим главным преимуществом по сравнению с Болгарией, Румынией и Чехословакией. Тем более, будучи сыном помощника министра информации. Когда я, по отцовскому указанию, принес документы и фотографию в МВД, появился там такой лысый коротышка в клетчатом. Часто видел его я на кошевском стадионе, когда играло «Сараево». Высунулся он из-за плеча проверявшей документы женщины и подмигнул. А потом тихонько попросил зайти к нему в канцелярию поговорить.
Когда я постучался и открыл дверь, клетчатый предложил кофе и улыбнулся:
— Если хочешь, можно чего и покрепче.
Всячески подчеркивал он, как исключительно ему приятно, что есть в Сараево такие молодые люди, которые учатся за границей:
— Ей богу, хватит уже, а то все Белград да Загреб…
И вдруг, совсем другим тоном:
— Много развелось всяких мерзавцев, наносящих ущерб стабильности нашей страны. Куда бы не приехал товарищ Тито, везде встречают его с просто поразительным почетом, проявляют огромное уважение!
Он широко открыл глаза и сделал паузу. Нагнулся ко мне через стол и громким шепотом добавил:
— Ненавидят Тито только четники и усташи, наша эмиграция за границей и внутренние предатели! Было б неплохо, если бы ты время от времени, на досуге, когда будешь приезжать в Сараево, заходил на чашечку кофе. А если услышишь, случайно, что-нибудь такое, какой-нибудь чудовищный умысел против системы, можно и по телефону.
— Как это так по телефону?
— Для того, парень, телефон и придумали, чтобы свой своему мог сообщить важную новость!
— Конечно, — сказал я и, так и не выпив кофе, и, с паспортом в руке, который к тому времени уже принесли из отдела регистрации, пошел к отцу, в Исполнительный комитет республики Боснии и Герцеговины.
В ярости бросил паспорт отцу на стол и сказал:
— Там эти твои хотят сделать из меня доносчика. Я еду на режиссера учиться, а не в полицейскую академию.
— Кто? Что? Да я им сейчас бошки поотрываю! — сказал мне без промедления отец.
Его секретарша сразу же позвонила Юсуфу Камеричу, тогдашнему шефу сараевского МВД, и отец сказал:
— Я посылаю сына в Прагу учиться не на шпиона, а на режиссера — так какого хрена?!? — Мало вам, что он едет за границу без стипендии и я должен тратить сенкино наследство, так вы еще хотите из него доносчика сделать! Не дам вам парня!
— Успокойся, Мутица, ситуация сейчас напряженная.
— Какая такая, Юса, напряженная ситуация, не говори глупостей, как может быть ситуация напряженная, когда уже сколько лет ничего не меняется? Оставьте моего мальчишку в покое!
Придя от неподобающей бесцеремонности органов внутренних дел в состояние смятения, отец пришел домой несколько подшофе. Вместе с ним пришел и тот самый Камерич, тем самым оправдывая перед мамой папино пьянство.
— Опять ты напился!?
— Напился, как тут не напиться, представь, они хотели из Эмира сделать доносчика!
— Не преувеличивай, Мутица, не так уж прямо все и было!
— Нету вам больше ни в чем веры!
— Ну, Сенка, раз уж Мутица мне не верит, поверь хоть ты! Пока я на должности, никто в сторону вашего пацана даже не посмотрит!
Мне этот Камерич нравился. До полицейской службы он работал директором городского коммунального хозяйства и водил нас в один закрытый плавательный бассейн. Который, на самом деле был баней турецкой еще постройки, позже переделанной в бассейн.
Той ночью отец проводил Юсуфа Камерича до Титовой улицы и заодно повел выгулять нашего пса Пикси. Этим чаще всего занимался именно отец, к тому же прогулка с Пикси была хорошим поводом для дальнейших ночных похождений. Обычно отец, после прогулки, доводил Пикси только до дверей, звонил Сенке на седьмой этаж и кричал:
— Сенка, вызови лифт, а я пойду-ка еще маленько разомну ноги!
Тогда Сенка в бигудях открывала дверь и смотрела на испуганного пса, поскуливавшего на полу лифта фирмы «Давид Пайич». На сей раз Мурат поменял концепцию. Пошел он вместе со псом в ресторан «Кварнер». А на самом деле попытался войти в магазин электротоваров, дергая за его двери, думая, что «Кварнер» закрыт. Так и не дошло до него, что он просто проскочил мимо дверей этого замечательного сараевского заведения, находившегося как раз около «Электротехны». Долго стоял в ту ночь мой расстроенный отец, пытаясь понять отчего это «Кварнер» закрыт, хотя еще только полдвенадцатого? А так ведь радовался, что можно пропустить «еще по одной»… Вернулся он домой. Не пошел в другую кафану. Не было у него на плечах следов побелки от сараевских фасадов, и это стало маленьким праздником для нас с мамой.
Встречаясь с серьезными препятствиями, отец мой переставал пить.
Поскольку мне было непросто в это поверить, я вообразил, что это наверное алкоголь решил держаться подальше от моего отца. Мама называла отца «фыркающей печкой», потому что похож он был на печь, которая разгоралась легко, прямо как мой отец. А растопившись, так же быстро и остывала. Даже события, связанные с полоумной твердолобостью директора Сараевского телевидения, не могли ни отвратить его от пьянства, ни подтолкнуть к нему. Тогда я пришел к выводу, что для отучения отца от алкоголя надо применить новый подход. Нужно было отучить алкоголь от посещения моего отца. Тут необходим был какой-нибудь серьезный случай из жизни, который можно было бы вытаскивать из рукава всякий раз, когда все эти навязчивые лекции из мировой истории вызывали бы в моем отце бурю эмоций. Что стало бы значительным вкладом в дело борьбы за трезвость на территории СФР Югославии.
Никак не получалось ему выбить для меня стипендию от Телевидения Сараево. Тогдашний его директор, некий Койович, просто не знал куда ему деться от «фыркающей печки». Мурат пытался убедить его и словесно, и через приятелей. Говорил он:
— Он просто идиот. Если мой парень выдержал экзамен и был выбран среди двухсот пятидесяти других кандидатов со всего мира, то это что-нибудь да значит для Сараево и Югославии!
Как член Союза Коммунистов Югославии, Мурат знал, как выразить свой альтруистический подход:
— Койович, я же тебя прошу ради твоего телевидения, а не ради себя. Я-то могу, в конце концов, оплатить обучение из наследства жены.
Койович ничем не отличался от других директоров югославских телестанций. Интересовали его только дикторши и программа новостей. Также следил он за тем, как бы случайно не задеть какого-нибудь политика. Потому что без верности тем, кто наверху, пришлось бы лишиться всего, чего он добился внизу, непослушание лишило б его дикторш. Поэтому не хотелось ему рисковать, выделяя стипендию сыну Мурата Кустурицы, хотя из здравого смысла исходя вроде бы стоило. Все оттого, что Мурат не был на добром счету у Микулича, шефа ЦК Боснии и Герцеговины. Больно уж любил мой отец чесать языком, хотя, кажется, в качестве серьезного противника системы его никто не воспринимал. Как бы ни был он остер на язык в своих оценках политической злободневности, оставался он на самом деле безопасным. К тому же многие находили его обаятельным и привлекательным, украшением любой компании. Его красноречию внимали по всем кафанам от Илиджи до Башчаршии… Не знал Койович, как избавиться от «фыркающей печки», но разработал план и придумал, как отомстить за оскорбления, которые претерпел он от Мурата в одном из коридорчиков Скупщины, когда тот понял, что стипендии для меня ему не дождаться.
Среди любовниц директора Койовича, кроме дикторш, была еще и такая, которая работала в отцовском Секретариате информации Республики Боснии и Герцеговины. Через эту особу Койович запустил слух об отцовском «мусульманском национализме». В то время обнаружена была деятельность «мусульманских экстремистов-националистов», и Койович подумал, что это клеймо могло бы эффективно загасить пламя в «фыркающей печке». И не пришлось бы ему тогда придумывать сомнительных объяснений, почему это он не дает стипендию сыну помощника министра. Когда его любовница довела эту выдумку до сведения МВД и донос лег на стол Юсуфа Камерича, тот позвал Мурата пропустить стаканчик в гостиницу «Европа». Прямо оттуда они и позвонили Койовичу в директорскую канцелярию, где он как раз находился по случаю программы новостей.
— Ты, Койович, рановато обрадовался! Мы с Муратом под ракию c закуской не раз до зори досиживали, и это я тебе говорю, из первых рук, никакой он не мусульманский националист!
«Печка» разгорелась как никогда и, пылая жаром, выхватила телефонную трубку из рук приятеля:
— Обосрался ты, Койович, кретин хренов, я сербский националист. Приходи сюда в «Европу» и я покажу тебе, как дерется сербская деревенщина из требиньских лесов! Иди ебись с Тодо Куртовичем, который тебя поставил на должность! — сказал отец, сопротивляясь Камеричу, пытавшемуся вырвать трубку у него из рук.
Стипендии я не получил. Деньги, оставшиеся от продажи дома на улице Мустафы Голубича 2 были потрачены на дорогое обучение и жизнь студента в великом городе.
Отец мой, когда через два дня я уехал в Прагу, тоже, на свой манер, горевал. Однажды я узнал, что в свои ночные похождения он взял моего товарища по имени Слунто, который был одного со мной роста. Когда пьяные зашли они в кафану, полную незнакомых посетителей, то сначала со всеми перезнакомились, потом отец проставил им всем выпивку и показал на моего товарища. С гордостью сказал он:
— Этот парень такого же росту, как и мой Эмир, посмотрите на него, знаете какой у меня сын, метр восемьдесят восемь!
Не обладал отец завидным ростом, но возмещал этот свой недостаток обаянием.
Перед моим отъездом в Европу, на сараевском вокзале собралось много друзей, чтобы проводить меня в долгий и неизвестный путь. Паша, Зоран Билан, Харис, Мирко, Ньего, Белый. Все пришли обнять меня и пожелать счастливого пути. Поскольку с Майей я расстался, на проводы она не пришла. Был у нее уже другой парень, и я делал вид, что мне все равно. Успешно скрывал, как это на самом деле было тяжело. Позднее выяснилось, что способность прятать свои чувства важна не только в партизанских фильмах, когда подпольщики имеют дело с немцами. И в жизни часто требуется умение хорошо играть.
Пластиковая сумка, в которую мы с Сенкой запихали все необходимое, треснула при запихивании в вагон, и мы на скорую руку связали ее веревкой. Так станция, на которой когда-то я, пацаном, хлопал газетами по головам охающих пассажиров отправляющихся поездов, теперь стала местом, где эта возня с сумкой только и спасала меня, чтобы не расчувствоваться при расставании. Не понадобилось даже, чтобы появился какой-нибудь другой мальчишка и наказал меня за то, что в детстве я делал с другими. Стоял я на ступеньках вагона. Поезд дернулся, композиция сдвинулась, мама заплакала. А я от рывка присел на задницу, схватился за сумку и вещи посыпались из нее, из под ослабшей наскоро завязанной веревки. Одну руку я поднял помахать друзьям на прощанье, а другой в панике собирал штаны, носки и майки. И так, прижимая к себе собранную одежду, покинул город Сараево. Пока поезд набирал скорость, я, стоя на коленях около сумки, успел еще пару раз помахать рукой. И даже из этого идиотского положения все еще искал взглядом Майю, надеясь, вот ведь дурень, что она появится на Нормальной станции. И, в то время как Сараево уменьшалось, образ Майи все увеличивался.
Встреча с Вилко Филачем стала первым, и самым важным, шагом в моей кинокарьере после приезда в Прагу. Когда я поселился в студенческом общежитии, Храбдени Колей, в первый же вечер и познакомился с Вилко. Было это не так эффектно, как в фильме Джерри Шацберга «Пугало», в котором сцена встречи снималась во впечатляющих декорациях. Нам же было суждено было встретиться в петляющих коридорах студенческой общаги. Общежитие это было пятиэтажкой, в которой вперемешку жили студенты, обучающиеся всем видам творческих специальностей. И, что занимательней всего, здесь на разных этажах, но под одной крышей, проживали и юноши, и девушки. Моя комната была на третьем этаже и выходила на лестницу, ведущую с третьего этажа на четвертый. Оттуда я мог наблюдать все, будто из «Шеталиште». Особенно студенток, поднимавшихся на четвертый этаж. Когда ко мне в гости приходили два студента кинопродукции Буцко и Туцко, оба из Сараево, они широко открывали двери и выкрикивали оттуда то же самое, что и паршивцы из «Шеталишта»:
— Девушка, девушка, а не хотите зайти, соку выпить — или аперитив?
Но в первый вечер в общежитии мне было невесело. Перед моими глазами сияли пустые, начисто беленые коридоры со множеством дверей. Нигде ни души. Подумал я, что не стану оставаться тут и завтра же вернусь в Сараево. Всякий раз, заслышав шаги, я выходил из комнаты в коридор. И вовсе не затем, чтобы лишний раз помаячить перед девушками, а от одиночества. И тут из глубины коридора ко мне вышел Вилко Филач, с портсигаром в руке.
— Спичек не найдется? — спросил он.
Вытащил я из кармана зажигалку, дал ему прикурить, и сказал:
— Как-то это все нереально, встреча, как в кино!
Вилко улыбнулся и добавил:
— Как в «Пугале», да? Разве что декорации другие.
Имел он в виду фантастическую атмосферу первых сцен фильма. Там, где огромное облако грозит дождем и одновременно сияет солнце, создавая неповторимое зрелище. Так встретились Хакмэн и Пачино, обменявшись кто чем богат, сигаретой и зажигалкой. Эта сцена еще много лет являлась предметом студенческих разборов, и со временем стала каноном для ценителей кино.
— Точно, — сказал я. — Ты Аль Пачино, а я Джин Хакмэн.
— Согласен, хорошо ты роли поделил! Редкая история о дружбе, чистый экзистенциализм, нетипичный фильм для Америки.
Вилко был старше меня на два года и уже снял несколько примечательных учебных фильмов. Он был единственным из великих операторов, не использовавшим отраженного света. Обычно операторы злоупотребляли этой игрой света, смягченного и ослабленного по пути от источника освещения к человеческому лицу, или еще какому-нибудь объекту. Вилко же создавал прямое, и при этом ненавязчивое, освещение. Именно он изобрел такой способ использования света. Никогда, ни один оператор до него не мог так выразительно сочетать тени c резкостью прямого света. Вилко страстно экспонировал человеческие лица и сцены. Глядя через камеру, он прославлял не искусство, а жизнь, и тем вкладывал в киноизображение подлинную человеческую силу. Терпеть не мог в кадре грима (хотя с легкостью влюблялся в гримерш), ценил во всем естественность. И не боялся провала фильма. Часто он говорил:
— Да пофигу. Не выйдет из меня оператора, буду фотографировать свадьбы в Словении, а вместо денег брать колбасой и пивом, а телку склеить так по-любому не вопрос.
Любил он женщин, вино и марихуану. И трудно сказать, какая из этих любовей была сильней!
В конце первого года обучения, Боривой Земан, один из профессоров режиссуры, увидев мой первый фильм, сказал мне за пивом:
— Уверен, когда-нибудь ты снимешь значительный фильм! Запомни, любой придурок способен сделать ребенка, а великий фильм только избранные, редкие люди.
Профессорская похвала мне польстила, хотя трудно было согласиться с его суровостью по отношению к биологическому воспроизводству. Я надеялся, что когда-нибудь тоже смогу завести детей. А значит, и мне предстояло превратиться в придурка. Ну, может и не таким уж, по его мнению, придурком, если я заведу ребенка и в то же время сниму фильм. Но потом к этому мнению относительно детей и придурков я стал относиться терпимей, потому что как раз в тот момент, когда оно было озвучено, в пивную вошла его дочка и укоризненно посмотрела на отца, потому что профессор Земан был в стельку пьян.
Он был типичным представителем чешского народа. Русских он не то чтобы ненавидел, но и не любил. Свою мелкую месть оккупантам осуществлял он посредством иронии, которой весь чешский народ спасался от депрессии. Особенно в кинематографе. Пиво было лекарством, которое чехи использовали ради спасения души. Помимо того, что заменяло оно им успокоительное, этот алкогольный напиток был там одним из лучших в мире. Пиво ежедневно одуряло чехов, как раз в той степени, чтобы в состоянии приятной анестезии пережить советскую оккупацию.
Как выглядит и что говорит обычный человек за пивом. Это вопрос, в ответе на который содержится тайна той небольшой революции в европейском кино, которую совершили Форман, Менцл и Влацил. Просматривая их произведения, я мечтал о том, что, может, однажды, и я в Югославии смогу снять фильм об обычных людях. Благодаря тому, что и я тоже сиживал по многу часов в чешских пивных, слушая, о чем говорят люди, когда пьют пиво.
Этих обычных людей, которые пьют пиво о рассказывают свои истории, я слушал каждый вечер после занятий. После седьмой кружки, профессор Земан начинал напоминать человека, который мог стать неприятным. Или же дела моего профессора обстояли иначе. Я думал тогда, что представители других европейских народов обычно превращаются посредством алкоголя в дикарей, как и пивохлебы в моих местах. Именно в такие моменты пьяницы говорят глупости, а людям в их обществе ничего не остается, кроме как оправдывать их, говоря: — Вообще-то он неплохой человек, просто сейчас пьян. Даже если пьяный ударит кого из мира трезвых, даже и тогда обязательно найдется такой тип, который все это оправдает пословицей: «ракия ему выпила мозг». Были у нас и тихие пьяницы, которые молча и старательно разрушали себя. Среди чехов, опять же, буяны встречались редко, особенно среди высших слоев, к которым принадлежал мой профессор.
— Знаешь ты, Кустурица, в каком русском слове семь раз встречается буква «о»? — спросил меня Земан.
Не знаю почему, но я сразу же подумал про говно. Возможно, из-за того, что чехи часто употребляют это слово. Самым цитируемым высказыванием гашековского бравого солдата Швейка было:
— Человеку хотелось бы быть гигантом, а он говно!
В первое время я не понимал еще особенностей этого маленького народа. Влтаве времени пришлось бы протечь, чтобы мой отец сказал бы такое «хихи» и смог привыкнуть к чешскому видению жизни. Еще и потому, что в Праге я часто встречал умников, которые сыпали будто из рукава пословицами и всякими шуточками, и задавали парадоксальные вопросы. Мне еще в Сараево осточертели все эти пословицы, которыми злоупотребляла моя мама. Отсутствие энциклопедического образования она возмещала народной мудростью. Произнося эти шедевры народной мысли, она таким образом выражала собственное видение происходящего. Я говорил ей, что это не работает, потому что народ придумывает все это просто ради оправданья. Скажем, хочешь сказать, что работа хорошо спорится, потому что правильно начата — и говоришь «По утру познается день», а если работа не складывается, то говоришь так же, но другое: «Первый блин комом».
— Боже ж ты мой, Эмир, да умней тебя во всем свете не найдется! Ты что же, хочешь сказать, что народ глупый?
— То, что они говорят — это никакая не мудрость! — пытался я убедить ее, что народ изрядно испорчен и пытается оправдать кое-какие из своих никудышних поступков!
— Ну, хватит уже чушь нести! — обычным манером завершала дискуссию моя мама. Даже когда я стал лучшим учеником в классе, что, возможно, отразилось и на складности моей речи.
Один такой пражский умник, также за пивом, спросил меня:
— Какая разница между человеком и пчелой?
Не было у меня настроения отвечать на этот интереснейший вопрос, и он пояснил:
— Разница между человеком и пчелой в том, что от человека остается одно говно, а от пчелы — мед!
Какой космический взгляд на человеческую жизнь! Представил я себе банку меда, бороздящую просторы космоса! Несколько преувеличено, подумал мой внутренний добронамеренный интеллектуал, потому что человек все же, как известно из истории, построил Акрополь. Но чехам было известно, какое человек отвратительное создание. Они боялись, что человеку, хозяину планеты, в минуту декадентского настроения и ради некоего проекта концептуального искусства, могло бы прийти в голову создать инсталляцию под рабочим названием «Говно над Акрополем»! Хотя Богумил Храбал и настаивал на том, что все европейские народы, а значит, и чехи, принадлежат эллинской культуры, непросто было поверить, что художник с подобными революционными затеями мог бы появиться в этой стране. Именно за это я и полюбил их, хоть они и называют нас Цивилизацией ГП: Героев-Проходимцев. Вот где проходит она, линия разграничения между нами. Мы большую часть своей истории изнуряли себя героическими затеями, а потом так никогда и не научились обустраивать собственную жизнь. Не сумели возвести в миф повседневность. Возможно, не исключительно по собственной вине. И именно за эту способность я и полюбил чешский народ. Они говорят так: «Пробуй новое, только когда не можешь заняться чем-нибудь поумней».
Чтоб удержать смрадные человеческие испражнения подальше от Акрополя, они, как народ эллинистический, часто и с легкостью поминали их в повседневной жизни. Не как у нас, когда говно используется как часть обороны для метания в неприятеля. Не преуменьшали они ни важности его, ни связанной с ним опасности. Так я встал на сторону пчел и, конечно, их меда. Может, и потому, что переоценивал чешскую способность, познав практическую ценность меда, художественно осмыслить и смириться с тем, что народ они маленький. Так-то и удалось им избежать попадания в куда большее говно. Не то, что нам.
Сильно раздражало меня, когда наши студенты пренебрежительно отзывались о чехах. Вот чешки, это совсем другое дело. Они были единственной деталью окружающего пейзажа, к которой наши парни проявляли нескрываемую склонность. Никогда не поверил бы, что мужчины способны так сходить с ума по женщинам, как мои соплеменники по чешкам. Расплата за эти мимолетные удовольствия настигала их позже. И кожно-венерические заболевания были лишь малой частью этой расплаты. Очень скоро наступало привыкание, и не могли уже они до конца своей жизни обойтись без этой чешко-зависимости.
Пьяный профессор режиссуры махнул рукой у меня перед глазами, вернув к своим пивным загадкам:
— Кустурица, я тебя спрашиваю, знаешь ли ты, в каком русском слове семь раз повторяется звук «о»?
Сказал я ему только:
— Наверное, тут уж никак не обойдется без говна.
Рассмеявшись, профессор с улыбкой подтвердил:
— Конечно!
А потом добавил:
— Ломоносовоговно!
И тут во мне, на какое-то мгновение, проснулся упрямый балканец:
— Это ж чистое надувательство, тут два слово получается, а не одно!
А он подвел итог тоном кинотрюкача:
— Ошибка, юноша, потому что так было, пока я не проговорил эти два слова слитно, создав новое. Это означает, что мир культуры отныне обогащен новым составным словом. Особенно русские, если они, конечно, способны понять, как это нелегко создать слово с семью буквами О!
Понимал я, что навряд ли русские будут так уж воодушевлены тем, что название их крупнейшего университета с пятью буквами О объединено со словом говно. И все-таки, вот что пришло мне в голову: будь я оккупантом и диктатором, то не пожелал бы лучших подданных, чем чехи! А как же с тем, что приходит им в голову, когда они пьют пиво? Это они так научились кусаться, и даже больно, но остается лишь усмехнуться, зная, что укусив, они сразу же смажут тебе ранку йодом.
Спасибо тебе, Фредерико
В тысяча девятьсот семьдесят пятом году умер Иво Андрич, великий европейский писатель и самый значимый югославский мастер слова. В том же году в Прагу была привезена копия фильма «Амаркорд» Фредерико Феллини. Огорченный смертью Андрича, новости о показе «Амаркорда» я обрадовался. После того, как я увидел феллиниевы «Дорогу», «Белого Шейха» и «Восемь с половиной», мое собственное прошлое стало казаться мне фильмом. В кинематографических кругах преобладало мнение, что «Амаркорд» — вершина творчества великого автора, однако в итальянской прессе появлялись и неодобрительные заголовки. Упрекали его в отступлении от интеллектуальности «Восьми с половиной», и еще критикам не нравилось, как они написали, излишнее приближенье к зрителю. Попробовали бы они так с Бергманом. Он-то никогда не медлил залепить газетчикам пару затрещин. Великий швед сводил так счеты со злонамеренными критиками. Кто бы мог поверить, что этому аристократу, снявшему фильм «Земляничные поляны», нравится дракой решать личные проблемы.
Ждал я в те пражские дни «Амаркорда», как некогда, в Сараево, ждал перед рассветом утренних булочек и лепешек у пекарни Ерлагича.
Показ «Амаркорда» был назначен на обычное время: в пятницу, в клубе Академии, в два часа дня. Был я тогда студентом-отличником второго курса режиссуры, в Сараево ездил редко, и Майю почти позабыл. Она будто исчезла из моей жизни, но все-таки, иногда, по выходным, я о ней вспоминал. Не знаю, может, оттого, что выходные давались мне нелегко. Вообще, праздных занятий, за исключением любовных, я в списке достойных дел не числил. Я знал, что это такая отметина детства. Часть мировоззрения Горицы. Уличные шайки, к которым я принадлежал, на праздность смотрели с презрением. Раздражали нас и массовый смех в кино на чаплиновских фильмах, и танцы с девчонками, и все общие забавы. Похожи мы были на волчью стаю, которая всем своим поведением хочет утвердить, что не принадлежит обычному миру, и не позволит себе соблазниться общепринятыми способами расслабления. Это была собранность воина, разбойника.
Уже в четверг, из-за надвигающихся выходных, я начинал нервничать. Разбегутся все по домам, а кафе «Славия», которое заменила мне тут «Шеталиште», пустеет. В общежитии весь злосчастный день слышна скрипка готовящегося к экзамену студента. Бедолага в тысячный раз играет одну и ту же гамму.
В Прагу приехала не только копия «Амаркорда». Появился здесь и некий Кера, сараевский вор, известный своей способностью опустошать самые шикарные бутики одежды прямо на глазах у продавцов. Примечателен он был и своим необычным словарным запасом. Искусно пользовался собственным неписаным словарем, изобиловавший названиями, обозначавшими деревенщину. Когда кто-нибудь говорил Кере:
— Как сам, земляк? — он свое, видимо, аристократическое происхождение оберегал словами:
— Картошка тебе земляк.
«Папак» — было обычным сараевским прозвищем негорожан. На самом деле те, кто были, как бы, горожанами, в основном представляли собой городскую бедноту, которой было лестно, что есть кто-то, находящийся еще ниже их по социальной лестнице. Кера же был вором изысканным. Всех понаехавших и неприятных он называл «покосниками». Имея в виду косарей сена, видимо, а позже ввел в обиход «початки». Ну, как у кукурузы. Если кто-то был хуже «папака», его звали «початком».
Мошенник Кера ехал в Берлин, и по пути остановился в Праге. В «Славии» он узнал адрес общежития.
— Братишка, я в Праге, еду в Берлин, имею к тебе кое-что важное, — позвонил он с проходной общаги.
Он был единственным, кто мог сообщить что-нибудь про Майю, о которой я думал в прошлые выходные. В общем, дело было так.
— Братан, она тебя любит, эти, которые сейчас вокруг нее, это мыши, покосники без шансу, брателло, самая красивая женщина в Сараево говорит — ты один четкий!
Я начинаю дуреть:
— Да ладно, братишка, нету ж ничего такого.
— Как нету, чего нету, ты че бубнишь как покосник, нельзя оставлять такое сокровище чуханам.
— Забудь — говорю — я на этой истории поставил точку.
Поблагодарил за обед и добавил:
— Пора мне в академию. Там сейчас будет показ «Амаркорда».
— Чего-чего?
Возбужденный, выскочил я на улицу, побежал в общежитие собрать вещи, и, вместо просмотра «Амаркорда», решил ехать в Сараево проверить керин рассказ. А что, долго, что ли. На бегу к вокзалу Хлавни Надражи я думал о том, что этот Кера, на самом деле, задает старый сараевский вопрос, в ответе на который обнаруживаются элементы экзистенциальной философии:
— Где в этой истории место для меня? — спрашивал Кера-вор, когда вспоминал стервятников, которые вились около Майи.
И я уехал в Сараево, почувствовав, что увижу «Амаркорд» как-нибудь потом.
Измученный бессонницей и табаком, через двадцать восемь часов пути я добрался до Сараево. В «Шеталиште» я был первым посетителем, официантка Борка принесла мне вареное яйцо, а я сидел на электропечке и грел себе задницу.
— Я смотрю, тебя и заграница не научила манерам! Ты чего, и в Праге на печке сидишь? А ну, слезай, испортишь мне печь!
— В Праге нет электропечей, деревенщина, там всюду отопление на газе из Сибири!
— Слезай давай, видишь, печка уже прогибается!
Официанты и официантки были в старой Югославии, как и полиция, привилегированной частью населения, рабочий стаж им засчитывался быстрее, и почти все они были стукачами. И не только потому, что официантки и подавальщицы, те, что доносчицы, чаще выходили замуж за полицейских, нет, они могли вообще не быть в списке оплаченных агентов УГБ, а доносили для удовольствия.
— И вот еще: Майя твоя, знаешь, гуляет с сыном того хирурга, Васильевича! Парень и не то чтоб уж супер, по мне-то ты интересней будешь!
— Хороший человек этот Васильевич. Помню, в шестьдесят первом году наложил мне гипс, когда я сломал руку, перенося Титаник, — делал я вид, что эта информация для меня ничего не значит.
— Все это несерьезно, не о чем тебе беспокоиться — сказала зашедшая в «Шеталиште» Амела Аганович, лучшая тогда подруга Майи.
— Этого Васильевича она посылает на Грбавицу за пирожными. Обожает она эти тортики и шампаньезы из кондитерской «Ядранка». А для тебя он неопасен, потому что Майе не пара.
— Да оставь это, Амела, мне оно больше неинтересно.
— Хорошо-хорошо, знаю, так просто тебе сказала.
Златан Мулабдич, Бад Спенсер «Шеталишта», поднялся раньше всех и первым пришел в кафану. Дрался он редко, будучи человеком души шелковой, будто девичьей, но был опасен, если его разозлить. Однажды он избил двоих, потом дождался скорой помощи, и занес их вместе с медбратом в машину, потому что они так и не очнулись. Очевидцы утверждали, что когда скорая помощь, включив сирену, отправилась в больницу, он расплакался. Злая сел на наш стол, обнял меня, расцеловал, и сказал:
— Видел вчера твою Майю, — на что я пожал плечами, в смысле «ну а мне-то какое дело».
— Что вы пристали с этой Майей, люди, бросьте вы, я приехал вас повидать, а вы Майя то, Майя се.
Злая показал на мостовую через дорогу от «Шеталишта», перед магазином «Новый дом».
— Дружище, вчера она прошла вон там, и все тут прямо со стульями поворачивались за ней следом. И ничего такого, даже женщины пялились, чувак. Так хороша!
— Ну а мне-то что. Что было, то прошло, брат.
Взял я номер телефона Амелы и пошел домой спать, чтоб возместить бессонную ночь.
А вечером я гулял по Титовой, и другим извилистым сараевским улицам. В конце концов, городской автобус отвез меня на Грбавицу, в кондитерскую «Ядранка». Сел в углу, заказал лимонаду, надеясь, что Майя пошлет этого Васильевича за шампаньезами и пирожными. Чтоб не подвергать сомнению майин вкус, съел семь шампаньезов, одно пирожное и подумал, что сейчас меня вырвет. Так оно, в конце, и случилось. Вышел наружу и проблевался. А снаружи было холодно, мерзнуть мне не хотелось, и младший Васильевич все не шел и не шел. Я вернулся в кондитерскую. Опять попросил лимонаду. Нигде никакого Васильевича. На его счастье, а может и на мое. Так он и не пришел, а меня понемногу отпустила нервозность. Внутри меня боролись герцеговинец и человек. Парень не виноват, говорил человек, а герцеговинец озабоченно качал головой, «Слышь ты, пока не рыпнешься, отвечаю, я тебя и пальцем не трону, ясно?»
Вообще-то я не уверен, что обошелся бы с ним нежно. Скорей, сказал бы ему что-нибудь вроде: «Э, кто на меня залупается, тому жизнь завершается, понял»?!
Нет, нехорошо, подумал я. Ведь он же должен ответить это: «Чего?», за которым последует, ясное дело, двойное «Чего, чего?». Наверняка это нас до что-нибудь да доведет. Лучше, подумал я, спрошу-ка я его: «Ну ладно, тебе че надо-то?»
Он, конечно, ответит: «Что, это мне-то чего надо?» — и когда скажет это «Чего, чего?» — уж тут я не выдержу и должен буду ему сказать: «Лучше не дергайся, малой, не то раскрошу тебя, как двоечник мел!!!»
Не знаю, успел бы он спросить какой такой мел, потому что вот тут я б ему и врезал.
В магазин зашел хозяин и посмотрел на меня с явным любопытством.
— Тебя как зовут, парень?
— Кустурица — ответил я.
— Да сиди-сиди… Пирожное хочешь? Я с твоим отцом лежал в интенсивной терапии. Долбануло нас обоих инфарктом! Отличный человек твой отец, пить то он как, перестал?
Я сказал:
— Ну да, разве что иногда, немного!
— Нельзя ему больше пить. Посмотри на меня, делаю лучшие пирожные в Сараево, но не могу к ним даже прикоснуться. Хреновая жизнь без шампаньеза, но жизнь есть жизнь. Лучше быть живым, чем мертвым, согласен? Передай отцу: «В наши года уже надо быть осторожней»
Надавал мне столько пирожных, что часть я оставил дома, а часть отвез с собой в Прагу. А отцу перед отъездом сказал:
— Тебе привет от Николы, — и он спросил:
— Какого Николы, кондитера?
— Того самого!
Отец меня спросил:
— И как там Никола, жрет небось свои пирожные? — а я сказал, что нет, боится, из-за инфаркта.
— Бог ты мой, если он будет неосторожен и станет есть сладкое, в котором куча холестерина, то долго не протянет. Как увидишь его опять, передай: «В наши года уже надо быть осторожней…»
Запах николиных пирожных приехал со мной в Прагу. Не смог я в Сараево добиться того, чего хотел, и стало ясно, что теперь стану думать про Майю не только по выходным. Когда я добрался до общежития, на окошке проходной висело объявление: Просмотр «Амаркорда» в двенадцать часов. Так что правильное было у меня предчувствие перед отъездом. В Сараево пропали мои выходные, так и не смог я проверить, наврал ли мне вор Кера, но воскресенье не пропало, посмотрю «Амаркорд». Уставший с дороги, за пару часов я выпиваю огромные количества кофе, а потом спешу в Клуб.
Толпа зрителей быстро рассаживалась на удобные места, а меня охватило какое-то праздничное ощущение. Будто должно совершиться что-то великое, волнующее. Никогда еще ни перед каким представлением меня не охватывал такой трепет. Холщовый занавес раздвинулся, и тотчас же музыка Нино Рота разрушила границу между фильмом и залом. В приморский итальянский городок пришла весна. Какая чудесная композиция, думаю я. Сквозь полет весеннего пуха, летящего над домами Римини, режиссер знакомит нас с городом. Мелькают кадры летящего пуха. Вот беззубый бродяга прыгает и хватает его, бормоча что-то на итальянском, мне слышно лишь — «Ла примавера» и… я засыпаю! Просыпаюсь, слышу аплодисменты, а на экране вижу титры! Слушаю музыку и растерянно оглядываюсь. Сразу же сна у меня не остается ни в одном глазу, и я виновато спрашиваю соседей:
— Чего, крутой был фильм, да?
— Ну ты даешь, как это можно — заснуть на Феллини?
— Устал я просто, сам не пойму, что за ерунда получилась…
— Это, братец, не ерунда, а попадос, — сказал мне один настырный поляк. Вышел я на улицу и потянулся, чувствуя себя паршиво. Нет, ну как это так я заснул прямо на начале великого фильма?
Целая неделя прошла с этим чувством вины. Слушая историю архитектуры, я каялся, историю эстетики — каялся, историю литературы, каялся.
Не помогли и лекции о Новом Завете, хотя мне нравились толкования сокровенных тайн и посланий.
Как же так могло получиться, спрашивал я себя, что ты, тупица, пропустил случай увидеть такое великое произведение искусства. И это в то самое время, когда формируется твой вкус, и очень важно быть вдохновляемым ценными произведениями. И, что еще хуже, перед коллегами мне стыдно не было. Их презрительный взгляд будто говорил мне: ага, конечно, дикарь балканский, спит на фильме Феллини. А мне, все же, казалось, что, пока я спал, что-то из фильма в меня перетекло.
Это как если взять две картинки из фильма и наложить друг на друга, чтобы изображения смешались. Такого объяснять я это не стал бы никому. Чтобы не смеялись, а то больно уж похоже на рассказ о том, как под голову вместо подушки кладут «Войну и мир» Льва Толстого, чтоб «перетекло» и не надо было тратить времени на чтение.
В один из этих унылых перерывов между сдвоенными парами истории архитектуры, я услышал ободряющую новость: копия фильма «Амаркорд» останется еще на неделю, а может и дольше, из-за огромного интереса чешских работников кино. Я сразу же почувствовал облегчение, исчезло чувство вины, но тут возникла новая комбинаторика. Новая дилемма. Если этот вор Кера и Амела не соврали, то на следующих выходных я должен увидеть Майю. Если она меня все еще любит, то грех ее не увидеть. А тут еще мне говорят, что она на Яхорине21, и вокруг нее вертятся всякие ушлепки. И я забеспокоился — о том, что что-то совсем о ней не беспокоюсь. Ведь навострил уже к ней лыжи сын Бебы Селимович, известнейшей исполнительницы народной музыки. А, ну, тормозни-ка, сынок… Значит так, пятничный сеанс пропускаем, ну, не вопрос, забьем сеанс на понедельник.
В пятницу, ровно в два, отправился поезд из Праги в Сараево. Я влетел в болгарский купейный вагон и решил с денег, вырученных от продажи пластинок «Weather Report», оплатить спальное место до Белграда. Конечно, деньги эти предназначались на финансирование съемки выпускного фильма «Герника», но все-таки важно, чтобы я приехал в Сараево отдохнувшим. И на обратном пути сделаю так же. Сделаю все, чтобы, вернувшись, быть в состоянии посмотреть «Амаркорд» Фредерико Феллини.
Растянувшись на узкой полке болгарского вагона, в котором мешались запахи колесной смазки и дешевых духов, я читал лекции по режиссуре профессора Отакара Вавра. И, под однообразный стук колес, утонул во сне. Резкое торможение разбудило меня через несколько часов. Поезд остановился в какой-то дыре, я проснулся и мое сердце сильно застучало. Наверное, приснилось что-то, думал я, пока в паху меня не зачесалось. И как начал я с тех пор чесаться, так и не смог остановиться до самого Сараево. Везде по телу у меня свербило. Время от времени я заходил в грязный туалет и поливал себя водой, чтоб избавиться от расстройства, что, вот, потратил деньги, а спать не могу, и, судя, по всему, подцепил чесотку. Не сдержался, и заявил усатому болгарину:
— Слышишь, усатый, без обид, но поезд твой чесоточный, чешется у меня прямо везде, свербит по всему телу.
А он мне:
— Братко, у меня поезд сто процентов гигиены, — и брызнул спреем, от которого снова завоняло дешевым запахом, неприятно отдающим колесной смазкой.
— А ты, кто знает какие бляди водил, братко, в кровать, вот получил мандавошки, ха-ха..
— От мандавошек чешется только в одном месте!
Добрался я домой, а по всему телу повыскакивали у меня прыщики. Показал их Сенке, а она говорит:
— Чесотку ты подцепил, Эмир, типичная чесотка, ничего другого!
Сразу же достала какую-то желтую мазь. Намазался я ей от головы до пят, и она сказала:
— Пройдет, только надо все время мазать. Ничего страшного, хоть и неприятно.
И я, под воротник вымазанный желтой мазью, уехал на Яхорину. Отец дал мне свой фольксваген. За рулем был Зока Билан, и еще были Харис, Паша и Злая Мулабдич.
В отеле «Яхорина» Майи не было. Выпили мы немного, и поехали к «Младости» где, будто бы, сидели и пили Майя и Селимович. Не было их в «Младости». Тут уж мы напились так сурово и мужественно, что я даже рад, что мы никого не встретили. А то начались бы все эти пьяные разговоры. Я уже тогда владел техникой самоподслушивания. И, поскольку был пьян не беспробудно, помню, что надоедливо долдонил одно и то же. Опять же, происходило это против моего желания, пьянство овладевало мной, трезвость выталкивала меня назад, в общем, шансов на другой исход этого вечера не было. Пока с тем, с чем не совладала трезвость, не справился страх.
Поскользнувшись на обледеневшем спуске перед «Младостью», я, падая, схватил за галстук официанта, который заботливо вывел нас во двор, желая выпроводить и пожелать счастливого пути. Человек протягивает тебе руку помощи, а ты его хватаешь за галстук. Ну, и что после этого он мог о нас подумать. В своих легких мокасинах поскользнулся я на льду. Сразу же ситуация закрутилась автомобильной покрышкой, вертящейся все быстрей и быстрей, пытаясь проскочить лед и зацепиться за землю. Официант этот оказался необычайно ловок. Умудрился он как-то особо быстро развязать галстук, и я заскользил вниз по склону спиной назад и грохнулся в снег. Когда я встал на ноги, около меня никого не было, не видно было и отеля. Попытался идти, и сразу снова упал, покатился по крутым откосам, и когда заново встал, снега было уже по пояс. Из-за разницы температур от меня шел пар. Вокруг ничего не было видно, и не раздавалось ни звука. Пока снег охлаждал горячую голову и разогретую алкоголем кровь, это было ничего так, приятно. Меня даже разобрал смех от такого приятного охлаждения, но все же скоро захотелось и погреться. Хорошее чутье и немного страха помогли мне добраться до отеля «Яхорина». Там Ньего сказал мне:
— Пропал Злая Мулабдич!
— Как, где?
— Не знаю, братан, я сам едва задницу спас от этого дубака. Боже мой, как же в той Сибири люди-то живут?
Ну что, отличные получились выходные, да? Потерять друга в результате неуспешной попытки встречи с девушкой, которая никак не выходит из головы? И, смешней всего то, так легко из всего этого можно сделать современную историю, парадоксальную путаницу, в которой есть все, что создает современную драму. Отличный рабочий материал. Прекрасный повод описания чудес и судеб человеческих.
Зоран Билан уже заснул, и я, не знаю почему, сказал:
— Только Зорану не говори, они же лучшие друзья. Пойдет его искать, и сам пропадет!
И, пока ночь клонилась к заре, так и я все более склонялся к идее о трагическом исходе выходных. И, когда алкоголь еще только начинал испаряться из крови, легкое чувство депрессии добавило мне уверенности в трагическом конце. И вот новый оборот. Возле рецепции отеля появляется Злая Мулабдич. Привели его двое рабочих канатной дороги. Стучал он зубами, и сказал:
— Эй, чуваки, да нормально все, главное, что голова в мешке.
На самом деле, он хотел сказать, главное, чтоб голова была не в мешке22, но мысль у него, по ходу дела, смерзлась.
Тогда, на радостях, что Злая жив, я разбудил Зорана Билана и сказал ему:
— Злая вернулся!
— Кто вернулся, а где он был?
— Спи, нормально все! — добавил я радостно.
Так что выходные не закончились трагедией, что позволило избежать парадоксального финала современных драм, в которых люди живут себе нормальной жизнью, а все ненормальные вещи случаются с ними, в основном, по выходным. Когда мы отправились в Сараево, я снова стал думать о Майе. Было мне жаль, что не представилось возможности сказать сыну Бебы Селимович: «Слышь, ты, пузан, увянь — а то укачу тебя как бочку!»
Все еще почесываясь, и с похмелья вдобавок, сел я в утренний самолет на Белград. В три часа дня отправлялся из Белграда поезд, через Загреб и Будапешт, в Прагу. Только я зашел в поезд, как тот самый усач-болгарин узнал меня:
— Братко, хочешь купе за тринадцать марки?
— Дал бы тебе тринадцать марок, только за то, чтоб у меня не было чесотки!
На самом деле, мне просто хотелось немного сэкономить денег на выпускной фильм, потому что вряд ли возможно подцепить чесотку, когда она у тебя уже есть, да и, диво дивное, в пустом купе второго класса. Сенкина мазь успокоила чесотку, а многочисленные прыщи подсохли. То, что спать было негде, меня тоже не беспокоило. Дочитал я лекции Вавра, и написал новую версию сценария «Герники».
Поезд, скрипя тормозами, въехал на Хлавне надражи. Я поспешил в общежитие, с гордостью и нетерпением ожидая показа «Амаркорда». Кончилась лекция по эстетике профессора Фербара. На лекции доктора Циганека по истории литературы сон принялся утягивать меня к себе, но я решительно сказал нет, никакого засыпания. Вышел вон и, пересекая Влтаву, спросил себя, глядел ли на Влтаву Сметана, когда создавал «Мою родину»? Ну вот, опять я задаю себе эти дурацкие вопросы. Конечно, чтобы создать великое произведение, вовсе не обязательно все время пялиться в воду. Снова в сон потянуло. На этот раз стоя. И я скорей пошел на просмотр.
В кинозале толпа зрителей ожидала начала великого фильма. Свет выключен, появились первые титры, и вот видим мы картинки городка Римини. Весна, перед камерой летят сгустки пуха, как все таки этот Феллини эффектно выстраивает композицию, думаю я, вот появляется тот бродяга, говорит: «Ла примавера», и я засыпаю!.. Сплю, а когда появляются заключительные титры, просыпаюсь. Что такое со мной, да как это возможно? Опять я все проспал. Будто на мне порча, будто я заколдованный. Снова презрительные взгляды студентов. Что же делать, это уже психиатрический случай. Поделился я с одним товарищем, чехом, а он вообще не понял, из-за чего я устраиваю драму.
— Не вижу тут ничего необычного, ясное дело, не можешь же ты хотеть всего сразу, просто устал с дороги, и все. А копия фильма будет тут еще некоторое время, — сказал мой однокурсник Ян Кубишта.
С тех пор я все это переживал как стыд и срам. Не видел великого фильма, что ж теперь? Еще хуже стало, когда мне пересказали содержание фильма. Когда я осознал, какие дивные красоты предлагал Феллини, я совсем скис и сказал себе: «Ну ты, осел кретинский, и пусть студенты смотрят на тебя как на полное говно, пускай, потому что заслужил»
И все же, где-то в скрытых тайниках мозга я верил, что во время сеанса в меня что-то такое попало. Что-то произошло между мной и фильмом.
Совершенно сломленный, в понедельник вечером я оказался в пивной «У Судека», мешая пиво с ромом, а наутро у меня была стажировка. Был я, по учебному графику, назначен ассистировать Любе Велецкой, студентке режиссерского выпуска, в ее дипломном фильме. Чтобы чему-то научиться. А по-моему, это больше походило на дрессировку. Ведь ассистент, на самом деле, это подмастерье, который проходит через все стадии услужения и, в конце, если выдержит испытание, может чему-нибудь научиться и рассчитывать, что когда-нибудь и у него будет свой ассистент. В общем, пустая трата времени была бы — если б там, на съемках, я не приметил Аньес. И тут опять чудится мне что-то сакральное. Она играла главную роль, и была студенткой дизайна из Братиславы. В Прагу приехала сыграть в фильме. Выглядела эта девушка, будто сошла с полотен Вермеера. Взгляд серны мадьярки Аньес был причиной тому, что разговор с ней в перерыве съемок стал чем-то большим, чем просто разговор. Женщины любят поболтать, и, когда мужчины спрашивают себя, почему некоторые представители мужского пола имеют больше шансов, ну, помимо тех мистических вещей, которые связывают мужчин и женщин, то, думаю, здесь есть один важный момент. Чем больше ты можешь говорить о всякой бессмысленной ерунде так, чтобы она выглядела очень важной, там больше твои шансы на успех. Нельзя только останавливаться, просто болтай и болтай, любая глупость пройдет на ура, и жди, пока она будет готова. Успех, в конце, неизбежен.
Аньес ночевала в том же общежитии, на улице Храдбени колею дом 2. Этажом выше меня, в комнате Любы Велецкой. Встретил я ее на пути в свою комнату, и она сказала: «Доброу ноц».
Ночью, пока я погружался в сон, согревало меня это «Доброу ноц». А утром проснулся, а у изголовья, на комоде, ждет меня свежая булочка, и около неё бутылочка молока. В холодной студенческой комнате будто запылала сталелитейная домна. Температура в ней драматично изменилась. Съемки фильма протекли среди взглядов благодарности, и прочей чудесной нежности. Историю с Майей — в безвозвратное прошлое. Грел меня этот взгляд мадьярки Аньес. Теперь каждое утро я просыпался с булочкой и молоком у изголовья. В четверг Аньес должна была ехать в Братиславу и я, несмотря на всю влюбленность, все же подумал: наконец-то увижу я «Амаркорд», сам Бог мне велел. В четверг, в два часа состоится моя окончательная встреча с великим автором и его фильмом. Но на ужине в студенческой столовой, в среду вечером, Аньес боязливо поглядела на меня, и, хотя ничего такого между нами еще не случилось, ну, пара поцелуев, о постели и речи не было, почувствовал я, что она хочет сообщить что-то важное.
— Знаешь, — сказала она мне, — ты мне нравишься.
— И ты мне, — сказал я.
— Если хочешь, можем на эти выходные поехать ко мне в Словакию. Хочу тебе показать как выглядит венгерское село!
— Разве мне надо так далеко ехать, чтобы тебя поцеловать, — и она покраснела.
— Хотел я посмотреть «Амаркорд», уже два раза у меня не получалось…
— Если не хочешь, поедем в другой раз.
— Нет, хочу, но… — подумал я о том, что и эти выходные пройдут без Феллини, но потом вспомнил, что «Амаркорд» еще и в понедельник будет здесь. Быстро изменил решение и сказал:
— Согласен. Буду рад увидеть венгерское село. Кто знает, будет ли еще у меня такой случай, а фильм от меня не убежит, не птица!
Сели мы в поезд, и было все это похоже на внезапную любовь. Слишком долго я оставался один. И эти булочки у изголовья прямо-таки меня подкосили. И еще кое-что: не стало внутренней болтовни, и меня больше не тянуло спрашивать себя всякие глупости. Только однажды, пока мы ехали, подумалось, интересно, а этот Васильевич до сих пор носит пирожные, когда Майе захочется сладенького?
Приехали мы с Аньес в Братиславу обнявшись, а на вокзале нас ждал ее брат. Которого она с гордостью представила:
— Миклош.
И он сразу начал говорить своей сестре что-то сердитое. Мне это не понравилось. И я спросил:
— Может быть, я что-то не то сделал?
— Ничего, все в порядке, он просто рассказал, как его полицейский оштрафовал за неправильную парковку, и сказал, что от нас венгров словакам одни проблемы, и что мы хуже цыган.
До села мы доехали под впечатлением от стычки Миклоша с словацким полицейским. Отец Аньес Золтан явился нам с красным лицом, пьяный и тихий как океан, протянул мне руку и сказал:
— Добро пожаловать в почтенный мадьярский дом!
Я поблагодарил его за гостеприимство на чешском, и он сразу же потерял недавний энтузиазм. Спросил меня:
— Ты, не говоришь мадьярский, нет?
— Нет, — ответил я.
— Как так не говоришь?
Аньес вмешалась:
— Бога ради, папа, ну откуда ему говорить по-мадьярски?
— Не знаю откуда, но я думал, что твой парень должен говорить на мадьярском!
Сели мы за стол, и Золтан начал читать какой-то венгерский стих, а Аньес сказала:
— Как жаль, что ты не можешь понять это стихотворение, оно такое чудесное. — Потом Аньес, Золтан и Миклош запели венгерскую народную песню. Не знаю почему, но мне это было неприятно, особенно потому, что во взгляде Аньес я увидел похожее стеснение. Золтан закончил песню, и начал серьезный разговор. Мы сели и он попросил Аньес мне переводить.
— Ты знаешь, что пришел в почтенный мадьярский дом, и если хочешь жениться на Аньес…!
— Ну, папа, какая женитьба, о чем ты говоришь?
— Молчи, я все знаю и вижу, я не глупый! — папа Золтан твердо решил выдать дочь замуж.
— Но, папа, это же ерунда, — она расплакалась и убежала к себе в комнату, и я пошел было за ней. Золтан остановил меня и сказал, на словацком:
— Женщина плачет, ну и что.
— Что она говорит, — спросил я его, потому что услышал как из другой комнаты Аньес сквозь слезы что-то говорит.
— Она спрашивает: папа, зачем портишь мне дело!
Глубоко разочаровала меня Аньес! Как может женщина, по любому поводу, назвать отношения с мужчиной «делом», если она не проститутка? Даже если она неудачно использовала слово. Может, у неё просто вырвалось? Бывает иногда так, вырвется неудачно. Но была это, без сомнения, стратегия, что, чуть позже, стало понятно по поведению ее отца.
— Ну, теперь нас двое мужчин, поговорим по-человечески.
Нелегко ему давалось говорить по-словацки, медленно выдавливал он из себя слова, и пил. А я на все, что он сказал тем вечером, кивал головой.
Тысяча причин, почему все так, как есть, жена умерла, остался один с детьми… Провел я остаток ночи в отчаянии, потому что мне этот человек не давал вздохнуть ни минуты. Тяжелый пьяница… Все это время Аньес горевала у себя в комнате, зная, что наша любовь погибла в самом начале. На заре она молча выпроводила меня из их дома. Не была она уже похожа на благородную женщину, оставляющую свежие булочки у изголовья одинокого студента. И дело не в том, как она выглядела, накрашена, или нет. В лице ее погас свет. Сжала она мне руку, полностью понимая, чем обернулась прошедшая ночь.
— Знаешь, мой отец не такой уж плохой, каким кажется.
— Знаю, — сказал я и уехал на вокзал.
Когда я вернулся в Прагу, то не чувствовал себя сильно уставшим. Скорее разочарованным всеми этими неприятностями в венгерском селе, жаль мне было и Аньес. И почему я так просто отступился от ее ласкового взгляда? Может, на развитие нашей с Аньес любви повлияли другие, более сильные обстоятельства? Может, все это произошло, потому что я не должен был, в который раз, упускать возможность увидеть «Амаркорд»?
В Клуб Академии я пришел заранее и стал ждать показа. Приближалась, в конце концов, встреча с фильмом «Амаркорд». Я несколько раз зевнул. Ну, ничего страшного, подумал я, это нормально, когда устал, то зеваешь. Кинозал стал заполняться, кроме студентов было еще много работников кино, готовых увидеть великий фильм. Когда пришло время показа «Амаркорда», на сцене появился наш профессор Антонин Броусил, человек, который умудрялся, несмотря на железный занавес, переправлять все стоящие фильмы в Прагу, в Академию. Поприветствовал присутствующих, и рассказал, что, благодаря огромному интересу, шедевр оставался в Праге три недели, и что Феллини — Шекспир нашего времени. Глаза у меня начали слипаться, но я сразу же себя одернул. Ну ладно, ничего, прикорнул на время профессорского выступления, все равно, конечно, он там все правильно сказал. Аплодисменты, занавес поднимается, белеет экран, свет потихоньку меркнет. Темнота, и начинается фильм. Какая дивная композиция, подумал я, Римини через объектив оператора Джузеппе Ротуна, весенний пух объединяет кадры, появляется тот самый бродяга, прыгает, хватает пух и говорит: «Ла примавера», а я засыпаю… Сплю, просыпаюсь, вижу титры! Ну, что же это, спрашиваю я себя, может, я ненормальный какой? Нет уже даже презирающих меня студентов. Остался только один киноработник, который вежливо отодвинул мою ногу со своего колена и ушел. Теперь всем известно, что я — случай для психиатра!
Неделя прошла в угнетенном состоянии духа. Было мне грустно из-за моих бестолковых словацких выходных, и, еще больше, из-за болезненной потребности засыпания на просмотре великого фильма.
Внезапно, мне позвонили с проходной общежития, сказать, что меня ищет Кера из Сараева. Вернулся он из Берлина, весь такой в кожаном, позвонил, и говорит:
— Братан, баблоса поднял вообще нереально, возвращаюсь полный по самое нехочу, желаю позвать тебя на ужин, только с одним условием.
— Каким?
— Ты выберешь самый дорогой ресторан!
Когда мы сидели в «Дубоне», самом шикарном ресторане в тех местах, Кера сразу стал показывать мне, чему научился заграницей. Дергал постоянно официантов. Чтобы, как он выразился, приучить их к порядку. Безбородый юнец принес нам коньяку, а Кера сказал:
— Переведи этому папаку, что коньяк подают нагретым. И пусть еще принесет нам жареных кофейных зерен.
Перевел я официанту пожелания Керы на чешский, и подумал, что самовлюбленность нелегко все же переносить, неважно, идет ли речь о венгерском националисте, желающем отделаться от дочки, или о сараевском воре.
— Ну, чего задумался? Расскажи, что ли, че-как?
— Да ничего так, вернулся вот из Братиславы, жениться хочу.
Не знаю, почему я сказал ему, что женюсь. Скорее всего, того чтобы прервать его дурацкие поучения на тему этикета, и, отвлекая внимание Керы на другой предмет, прекратить мучения официанта. Не то, чтобы я такой уж любитель официантов, но и издевательств никогда не выносил. Холодным потом обливаюсь я, когда кто-то родом с Вратника начинает обучать манерам пражанина. Стыдно как-то!
— Женишься? Молодец, значит, на Майе? Правильно, пусть эти черти там со злости бесятся!
— Да какая там Майя, нашел я себе одну венгерочку…
— Э, дальше можешь не рассказывать, знаю, мадьярские телки самые лучшие!
За тем ужином Кера канонически напился, оставлял официантам чаевые по сто марок, и клеился к официанткам, тряся перед их носами пачками денег:
— Э, классно, что у тебя там с венгеркой, только жаль что та красотуля достанется какому-нибудь покоснику. Ну ладно. Как вернусь в Сараево, расскажу всему городу, что женишься на венгерке, пусть эти черти там побесятся, — сказал мне в дупель пьяный вор Кера и утром уехал в Сараево.
Через три дня после его отъезда, мне позвонила Амела Аганович, и спросила:
— Так это правда, что мне сказали?
— А что тебе сказали?
— Ну, это, ты, говорят, женишься?
— Знаешь, Амела, когда-то человек должен жениться, может, лучше я с этим делом разберусь пораньше!
— Да хорош дурить, Майя этого не переживет!
— При чем тут теперь Майя, знаешь, когда я видел-то ее в последний раз?
Уже на следующий день Амела опять мне позвонила и сказала:
— Знаешь, Майя так расстроилась, прямо не поверишь. Ревет как корова, — а я сам напускаю на себя важный вид и цитирую Пиранчела, чей рассказ как раз готовил к постановке:
— Когда женщине нужно лить воду, она проливает ее глазами, пройдет, ерунда все это, — говорю, но все же и начинаю верить, что она меня еще любит, и скрываю чувства, как Дирк Богард в фильме «Слуга»:
— Ну, передавай ей привет, все ж таки нас связывают хорошие воспоминания.
Когда в конце зимы я поехал в Западный Берлин, по делу, купить пластинок, заказанных чехами, которых не пускали через границу, увидел я в метро на западной стороне афишу «Амаркорда». Вышел на улицу, и остановился перед маленьким кинотеатром, в котором показывали великий фильм. Сходить в кино или не ходить. А если опять засну? И не пошел я смотреть Феллини. Чтобы снова не осрамиться.
Покупал я пластинки, в основном, джаз-роковые. Позже, в Праге, продавал их дороже покупной цены, и так пополнял бюджет и копил на съемки студенческого фильма. И в поезде из Берлина в Прагу я непрестанно спрашивал себя, когда же я окажусь, наконец, способен посмотреть великий фильм? Весной наступил конец учебного года, который я завершил с «десяткой», и передо мной было целое лето. Это были лучшие летние каникулы за все время обучения, а самой большой радостью для меня стала предстоящая жизнь дикарем на острове Млет. Там Зоран Билан, Злая Мулабдич и я были настоящими царями. Приезжали из Дубровника пьяными, как опившиеся прокисшего кокосового сока молодые обезьяны. Приезжали мы туда в начале лета, и под самый его конец возвращались обратно в Сараево. Пока ставили в лагере палатку, местный полицейский получил нашу полную поддержку:
— Слышь, отец, — сказал я ему. — Если тебя кто тронет, говори нам сразу, без базара поможем.
Полицейский вначале подумал, что это мы прикалываемся. Что он стал относиться к моему предложению серьезно, стало понятно по тому, как смотрел он на нас, молодых джиннов. Был он единственным на острове полицейским и быстро понял, как может быть ему полезен союз с нами. Начнись проблемы, ему б тут успели накостылять раз сто, пока еще сюда из Дубровника доберется полиция. А так, он пользовался нашей защитой, и никто на этого полицейского и посмотреть криво не смел. А то б имели дело с нами, а это дохлый номер, ясное ж дело!
Когда я проснулся, Злая меня обрадовал:
— Майя твоя приехала на остров.
Охо-хо, подумал я, и сказал:
— А мне-то что за дело.
— Свалилась с велосипеда и поцарапалась, такие красивые ноги ободрала. Иди, ищи по Млету подорожник, он как раз для таких ран!
А я все корчил крутого парня:
— На задницу б ей этот подорожник!
Подождал я, пока Злая отойдет в туалет, тайком выбрался на дорогу и, когда понял, что никто меня не видит, пулей помчался на площадь!
Добрался я до Большого Озера23 и взял себе кофе. Катер уже отплыл на временный причал, а я увидел Майю, которую, пока она вылезала на берег, поддерживал какой-то тип. Был это сын хозяина, в чьем доме поселились Майя и ее родители… Сразу видно было, обычный далматинский чмошник. Поэтому я постарался унять свой натиск зрелого мужчины.
Много усилий прилагал я, чтобы не выглядеть возбужденным. Не видели мы друг друга полтора года. Было мне страшно, как бы не повторилась та ночь в кафане гостиницы «Белград». Тогда у меня сверкнула идея. Начал я говорить о будущем. В борьбе между человеком и герцеговинцем, вновь возобладал герцеговинец. На этот раз герцеговинец задушевный.
— Тебе нужен серьезный человек, интеллектуал. А самое лучшее сочетание — это интеллектуал и гопник. Если найдешь такого человека, который может предложить тебе только одно, только ум, то это долго не продлится, быстро он тебе надоест, а если только другое, примитивный гопник, который может тебе обеспечить только уверенность, то скоро его простота тебе осточертеет. Убежишь ты.
— Думаешь, мне нужен кто-то вроде Диллинджера, закончившего философский факультет?
— Ну, не совсем, но кто-то вроде.
И мы оба рассмеялись. А я понял, что, вот, похоже, я тоже начал болтать. И еще подумал, что, наверное, человек, когда созревает, непременно начинает больше говорить. Наверное, оттого, что одновременно чему-то учится. Нет больше юноши, мысли которого роятся обрывчато, не знающего, как эти мысли связать. Так что лучше б ему, до созревания, побольше молчать и не рисковать, тогда он покажется умным, не открывая рта. А, в общем, что толку говорить одни разумные вещи. Решил я подтвердить свою мысль примерами из обычной жизни.
— Не знаю, слышала ли ты, что Паша сказал своей Цуне? Сказал он: «Лучше б тебе, подруга, выйти за меня, чем за какого-нибудь там студента. Выйдешь за него, и месяца через три потащишь меня в постель. А так тебе будет практичней. Буду тебе и муж и любовник»
Не догадывался я, что вот, я говорю все это, и, тем самым, внушаю Майе, что я и есть тот самый человек, о ком речь, и что такие слова женщины понимают как предложение.
Осенью в кинотеатре «Романия» показывали «Амаркорд». Было золотое время великих режиссеров. Майя восхищенно сообщила мне:
— Знаешь, что сейчас идет «Амаркорд» Феллини, ты его видел?
Что тут скажешь? Правды я сказать не мог никак. Какой студент режиссуры признает, что три раза засыпал на великом фильме? А если сказать, что не видел, так получится еще большой конфуз. Это как если студента-художника спросить, видел ли он Микеланджело, а он ответит: не-а. И вдруг я нашелся:
— Это фильм, который можно смотреть и сто раз.
— Ну, так своди меня посмотреть!
Пришли мы в лучший сараевский кинотеатр. Завес поднялся. Появляются вводные кадры, летит пух, пронизывающий образы Римини; как все же этот Феллини бесподобно выстраивает композицию. Старый волк использует пух, чтоб связать между собой образы Римини. Достоин всякого уважения! Появляется этот бродяга и говорит: «Ла примавера!», а я… гляди-ка, чудо, не засыпаю! Вот какая-то женщина развешивает белье на веревке. Появляется адвокат и говорит в камеру, местные мальчишки кидают камнями в Градиску, а счастью моему нет конца. Смотрел я фильм, держал Майю за руку будто мы в самолете, и восторгался этим фильмом, искренне.
«Амаркорд» для моих фильмов значил то же, что для Вселенной Великий Взрыв. Образы и идеи из того фильма стали речной запрудой, питающей вытекающие из нее потоки — мои фильмы. После этого фильма, все происходившее в моей киножизни, стало измеряться этим аршином. Будто акции самых важных в моей жизни вещей подскочили на жизненной бирже… Мама, отец, дом, друзья, мост, род, все, что само собой зацепилось и осталось в душе. Да, тенистые аллеи, холмистые пейзажи, женские задницы, велосипеды, молитвенные высоты, мосты, поезда, автобусы, и все, что я в жизни не люблю: галстуки, небоскребы, кухонные плиты, школы, больницы, все, что я считаю правильным: благородство, храбрость, историю, музыку, теперь я открыл заново.
Мой дипломный фильм назывался «Герника» и на «Амаркорд» похож не был, но невидимым мостом был связан с этим фильмом, так, чтобы, гуляя, можно было перейти с одной стороны на другую. Через тот мост перемещались идеи и уничтожали разницу в переживании мира, одновременно в боснийских горах и на средиземноморском побережье. Моя «Герника» взяла из «Амаркорда» правило, что человека надо снимать в пространстве, чтобы лицо его не выделялось из окружения. Такой взгляд возник после более чем десятикратного просмотра этого фильма. Когда я показал свой дипломный фильм профессору Отакару Ваври, он сказал:
— Это серьезный фильм. Ради таких работ, можно сказать, и стоит учить студентов режиссуре, — а я подумал: «Спасибо тебе, Фредерико!»
Покойник был убежденным противником алкоголя
В тысяча девятьсот семьдесят восьмом году у меня родился сын Стрибор. В том же году я закончил учебу в Праге, так что из моей жизни исчез страх превратиться в персонажа социальной литературы начала двадцатого века. В этих романах мои коллеги-провинциалы совершенно терялись в больших городах. В моем случае, эту ступеньку уже удалось преодолеть. Вопреки наблюдениям об умных режиссерах и глупых отцах, фильмах и детях, высказанным профессором Земаном, рождение сына стало для меня очень важным событием. Такого вот новорожденного младенца, как в фильме Стэнли Кубрика «Одиссея 2000». Ребенок как космическая радость, но с теплом материнской утробы и без ощущения холода, царившего в кубриковском космосе. Возвращение в родной город не было таким грустным, как отъезд из него. Какую же нам устроить свадьбу? Ответить на этот вопрос было нелегко, потому что не совсем было понятно, к какому социальному слою мы принадлежим? В те времена у некоторых новобрачных пар стало появляться такое любопытное обыкновение, сочетаться браком лишь в присутствии свидетелей и, после регистрации в ЗАГСе, вместо настоящего свадебного пира ограничиваться скромным обедом. Когда мы сказали родителям о такой свадьбе, они сразу же пришли в негодование:
— Раз уж вы женитесь, то, Бога ради, сделайте хоть свадьбу по-человечески.
Я задумывал свадьбу как короткометражный фильм. Весело, но элегантно, как в фильмах Жана Ренуара? Это, к сожалению, было неосуществимо. Не владели наши семьи загородными имениями. Из-за друзей и родственников, в общем, учитывая вкусы большинства, невозможно было избежать той шоферской культуры, которая владела сердцами всех. Покупали они пластинки «Биело Дугме», любили и ковбойский рок-н-ролл, но в карманах и женских сумочках носили кассеты, отражавшие их истинную культурную принадлежность. Больше всего нравилось им слушать примитивную музыку, возникшую на перекрестке востока, средиземноморья и англоамериканских влияний. Это были мелодии и тексты, которые, в результате, не были ни тем, ни другим, ни третьим. Музыка турбофолк напоминала мне полотенца в румынских гостиницах времен Чаушеску, расползавшиеся при касании к мокрому лицу и, чтобы описать ощущения от прикосновения к ним, хватило бы одного слова: мерзость! Также было и с музыкой, которая, к сожалению, удовлетворяла вкусам большинства населения СФРЮ!
Первым шагом к свадьбе было знакомство с родителями. Требовалось нанесение взаимных визитов, что-то вроде обмена государственными делегациями. Мурат сразу же предложил:
— А пусть они к нам приходят, я ужин приготовлю, будет незабываемо!
Но тут Мишо Мандич не без оснований удивился:
— Полагается, чтобы сначала Кустурицы пришли к нам. А то непонятно получится, кто кого сватает?
Придя на улицу Марцела Шнайдера дом 8, Мурат решил поставить на карту оригинальности. Сразу же пошел смотреть, сколько у них там в квартире, получается, комнат! Лела Кушец, майина мама, изумленно наблюдала за ним, и от резкой реакции на эту непристойность докторшу удерживал только единственный факт. Была она поражена появлением человека, который проявлял большую нетактичность, чем та, которую она всегда была готова проявить по отношению к окружающим. Поэтому она молча смотрела на то, как ее дочка Майя послушно, хотя и с симпатией, показывала Мурату все комнаты в квартире. Мне же хотелось сквозь землю провалиться. Отец посмотрел на меня и, кто знает какой уже раз, шепотом спросил:
— Ну, что? Что опять не так? В чем я снова провинился?
Отцу казалось, что таким шокирующим образом он сделал хозяевам комплимент и официально высказал, что он очень рад, что его сын женится в хороший дом.
— Отлично, вот что такое, Эмир, высокий уровень жилищной культуры не только в рамках Сараево, но и Боснии и Герцеговины в целом! — сказал Мурат, и Майя своим смехом понизила уровень напряженности в доме. Мы с Сенкой чувствовали себя как-то тягостно, в то время как Мишо с симпатией наблюдал за деятельностью гостя, видимо, рассматривая ее как внезапную проверку жилищно-эксплуатационного предприятия города Сараево.
Родители сразу же поняли, что они уже знакомы. Конечно, первыми словами обменялись старые знакомцы Мишо и Сенка. Тотчас же было отмечено сходство между Сенкой и ее братом Акифом, и Мишо спросил:
— А этот твой брат, Сенка, не тот ли таинственный господин, который уже двадцать лет приветствует меня на Башчаршии, снимая шляпу?
— Точно! — влез в разговор Мурат и закрутил рукой, будто выворачивая лампочку, показывая тем самым, что сенкин брат маленечко того, и добавил:
— Как, в общем-то, и его сестра! — на что Сенка не осталась в долгу:
— Ну, слава Богу, ты у нас такой нормальный, это же известно любому сараевскому официанту!
Мурат не скрывал воодушевления, что нашел себе в Мишо нового приятеля и единомышленника. Больше всего его радовали схожие взгляд на личность Тито и воззрения на наше прошлое и будущее. Отцовские интеллектуальные выплески Мишо обычно корректировал словами:
— И если бы только это, стоит еще вспомнить о… — и начинал долго и пространно объяснять вещи, почерпнутые из его энциклопедического образования, вкупе с основательным судейским опытом. Ушли Кустурицы из квартиры Мандичей, а тема свадьбы так и не была затронута.
Пока мы шагали в сторону автобусной остановки, вниз по улице Марцела Шнайдера, отец с матерью ввязались в обычные препирательства.
— Ну ты чего, не мог хоть на этот раз без Тито обойтись, у тебя же ребенок женится!? — спрашивала Сенка.
— Слушай, Сенка, ну можно без этих твоих придирок, всю жизнь одно и то же?
— Без моих придирок было бы можно, если бы было можно, ну честное слово, Мурат, в важные моменты без этой твоей глупой политики! — Сенка расплакалась, и отец стал с ней нежен:
— Это же не я, Сенка, ну, что ты, это же Мишо завел разговор, ну, хочешь — вернемся, пусть он сам подтвердит.
Сенка продолжала плакать, и отец понял, что мама только сейчас увидела, как ее сын снова, и теперь уже навсегда, уезжает от нее в новую жизнь.
Когда через неделю дело дошло до ответного посещения, Мишо от дверей начал новую тему:
— Сможет ли марксизм добиться поставленных целей, руководствуясь представлением, что историю необходимо укрощать, подобно кучеру, управляющему конями с повозки…?
Место и порядок проведения свадьбы были оставлены женам и детям, как вещь менее важную, по сравнению с ответом на этот вопрос. Это было делом нелегким. Обе наши семьи ни по каким параметрам не могли быть отнесены к типичным боснийским семьям. Мишо был сыном банкира, его дед Милош учредителем первой в Боснии газеты, а мать его дочерью пекаря из Високо. Кушцы и Домицели, лелина родня, словенцы и хорваты, появились в австро-венгерские времена, так что Майя представляла собою счастливое порождение Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев. Неудивительно, что она до сих пор оставалась приверженицей монархии. Благодаря нашей нетипичности, и свадьба наша не могла стать еще одним балканским пиром с ужасной музыкой, плохой озвучкой, разочарованными гостями, которых выворачивает с перепою и которые в конце концов принимаются тыкать друг в друга ножами… К сожалению, не удалось нам избежать проявлений оригинальности сараевских властей: выпала нам коллективная свадьба вместе с еще пятью парами.
По ходу церемонии венчания, я попытался обратить ее в комедию. Служащий ЗАГСа с одутловатым лицом, будто только что проснувшийся в затхлом помещении, спросил меня голосом оперного певца:
— Согласны ли вы, Эмир Кустурица, взять в жены Майю Мандич?
А я ничего не ответил. Наступила тишина!.. Слышны были вздохи и шевеления… Вопросительно обернулся я к шаферам, Зорану Билану и Бранке Пажин. Взгляд мой спрашивал: «Ну, что делать-то, братец?». Он рассмеялся и утвердительно закивал головой, а я все настаивал на том, что я не уверен в том, что сказать. Напряженность в «Скендерии» достигла точки кипения. И тут я сказал свое историческое ДА! Послышались вздохи облегчения, но и смешки тоже. Майя посмотрела на меня с укором, но она волновалась так сильно, что ругаться ей в голову не пришло. Все косилась она на пятно на свадебном платье беременной невесты, сидевшей около нас и державшей за руку жениха, который был заключенным, отпущенным по поводу свадьбы из тюрьмы. Смотрел я на него с особенным сочувствием.
После свадьбы он отправился еще на несколько месяцев в тюрьму, а я уехал довершать образование в Праге.
В день свадьбы Сенка временно отступила от тактики борьбы против быстрой и легкой порчи дорогих предметов, и сняла пленку с китайского ковра. В двух-с-половиной комнатную квартиру поместилось около сотни людей. Особое место среди гостей занимал беговский24 сын Эдо Хафизадич, который приехал из Травника и который в далеком сорок первом году не ушел в партизаны, потому что у него разболелся живот. Мурат представил его гостям, и сразу же увел на кухню.
— Смотрю я, Мурат, на Сараево, и понимаю, что вы, коммунисты, здесь все уничтожили. Привели в город деревенщину, объяснили им, что Бога нет, и вот результат!
Мурат согласился с приятелем. Поставив себе задачу избежать повторения истории, приключившейся на их с Сенкой свадьбе, когда на половине празднования его пришлось уносить из квартиры, отец обещал, что, как он выразился, «даже не лизнет алкоголь». Между тем, подобные разговоры с Хафизадичем являлись идеальным предлогом для преступного деяния, а кухня в качестве средоточия общественной деятельности всегда выигрывала в сравнении с гостиной. Именно здесь легче всего сообщались тайны, заключались договоренности, давались важные обещания и часто самые драматичные повороты человеческих судеб свершались именно на кухнях. Счастливейшие и печальнейшие судьбоносные решения принимались над судомойкой и немытой посудой. Сенка принялась яростно сигнализировать мне в сторону кухни глазами, и я отправился туда. Отец с величайшей сноровкой выставлял выпивку перед Хафизадичем. Я знал, что он все равно не удержится, и только шепнул ему:
— Постарайся, чтобы не получилось, как на твоей свадьбе, ладно?
— Да все в порядке, конечно, только одну рюмашку!
— Ну, смотри, папа!
Он понял, что я говорю серьезно, и смущенно шепнул мне:
— Хорошо, пропущу стаканчик с Эдо и больше никакой выпивки, честно!
Квартира была битком набита мужчинами в белых рубашках с галстуками в разной, в зависимости от количества выпитого, степени скособоченности. Их жены сидели в обнимку и покачивались направо-налево, распевая песни Здравко Чолича: «Поезд в Подлугово», «Белградский Апрель». Когда на магнитофон поставили коло25, веселью не было края. Скакали и верещали боснийки, трясся дом по улице Кати Говорушич 9а. Стипо Билан, отец моего шафера Зорана и тогдашний председатель Скупщины Боснии и Герцеговины, воспользовался толкучкой и осоловелостью Нади Липы, крупной, заметной дамы. Ущипнул он ее несколько раз за задницу, с особенным удовольствием, оттого что знал, что она из Биелины. Биелинки особенно ценятся боснийцами, потому что, как говорят, с ними куда быстрей окажешься в постели, чем с чопорными герцеговинками. Это объяснялось тем фактом, что Биелина находится на плодородной равнине, а Герцеговина покрыта скалами и утесами, в которых, в отличие от биелинской долины, женское целомудрие остается единственным ценным имуществом. Выскочила Липа на кухню и сказала своему мужу, доктору Липе, что председатель Скупщины Боснии и Герцеговины ущипнул ее за задницу!
— Пускай его, жалко тебе, что ли! — сказал доктор своей жене. Этот Липа лечил Мурату сердце, и отец вопреки обещанию потихоньку подбирался уже ко второй рюмке:
— Да ладно, доктор, давай по одной, ведь раз в жизни сын женится, все-таки!
Доктор поступил как медицинский Макаренко:
— Дай Боже чтобы обошлось одной, Мурат, человек склонен к бигамии, так что лучше оставь уж ты эту ракию, пожалуйста!
— Тогда дай мне выпить. Чтобы, не дай Бог, никогда он с Майей не расставался, смотри, какая у меня сноха красавица, прямо куколка!
В тысяча восьмидесятом году умер Тито, а годом позднее, за фильм «Вспоминаешь ли Долли Белл?» я получил «Золотого Льва» в Венеции. Трехлетний Стрибор беспокоился о судьбе нашего пса:
— А что будет с Пикси, вдруг лев его покусает?
Друзья моего детства чувствовали себя частью этого фильма; Паша, Харис, Белый и Труман с восторгом узнавали картинки из нашей жизни на большом экране. Ньего работал электриком на трансокеанских лайнерах, и победа «Долли Белл» застала его посреди Индийского океана, где по транзисторному приемнику он слушал радио Рима, потому что любил итальянские канцоны. Вдруг в новостях он несколько раз услышал мои имя и фамилию. Станцию было плохо слышно, все время пропадал сигнал, и он тряс транзистором в воздухе, крутил его, ища такое положение, в котором голос диктора был бы разборчивым. Не понимал он, с чего это вдруг все время упоминается мое имя, и подумал: «Наверное, этот придурок грабанул какой-нибудь банк? Или не дай Бог, кого убил?!». И только добравшись до первого порта и новостей, он вздохнул с облегчением. Понял он, что его друг просто получил первый приз в Венеции.
Фильм «Вспоминаешь ли Долли Белл?» был снят потому, что перед тем я увидел «Амаркорд» и встретил Сидрана, но еще и потому, что наступившие времена создали такую возможность. Тито болел, и мы видели его по телевизору чаще, чем когда бы то ни было. Хамза Бакшич, директор Телевидения Сараево, спал в своей канцелярии, на армейской койке, чтобы показать, как горюет он из-за болезни Маршала. Как солдату партии Тито, проект «Долли Белл» ему не нравился. Сараевское телевидение участвовало в совместном производстве фильма, но помешать съемкам он не мог. Когда фильм был закончен, он пытался препятствовать его показу. Послал он запретную телеграмму Весне Дугонич, ответственному редактору Сараевского Телевидения. В телеграмме этой, по обыкновению титовых питомцев, он не запрещал показ в кинотеатре «Тесла», но написал, что он не рекомендуется. От типов вроде Бикшича этот фильм защищала его поэтичность и авторитет Раты Дугонича, шефа коммунистов Боснии и отца Весны Дугонич. Она же успех фильма «Долли Белл» принимала близко к сердцу, как свой личный, и использовала авторитет отца как щит от нападок. К тому же время Бакшича и всех тех, кто хотел защитить Тито от новых веяний, уже прошло. Остроумие «Долли Белл» разоружало и свирепейших воинов титовой партии, включая и тех, кто стояли повыше Бакшича. Даже Мухаммеду Кресо, правой руке Хасана Грапчановича, секретаря ЦК Боснии и Герцеговины и боснийского Геббельса, как называл мой отец этого цензора всех художественных проектов в Боснии, понравился этот фильм.
В фильме «Вспоминаешь ли Долли Белл?» улица была представлена в качестве единственной аутентичной сцены в Сараево. Здесь, будто на ладони, была показана нетронутая и никем прежде не вскрытая драма городской окраины. К тому же здесь сараевские жители впервые смогли сопоставить себя с увиденным на экране, увековеченным изображением своей собственной жизни. В особенный восторг привел сараевцев тот факт, что их драмы, образы их отцов, матерей, сестер и истории их собственных жизней были поняты по всему миру, везде, где был показан фильм.
Посредством этого фильма время, будто море выбрасывающее после бури знакомые предметы на берег, чудесным образом обнажило перед глазами горожан привычные истории и вещи в совершенно новом и резком освещении.
Абдулла Сидран попал в раму полотна моей жизни как мученик. В сценарии к фильму «Отец как разваливающийся дом» он обрисовал собственную семейную драму, и главным персонажем там был его отец, ставший жертвой Голого острова. Из-за него Сидрана недолюбливали в сараевских политических кругах. Встретились мы в столовке Радиотелевидения Сараево, на котором я тогда работал. В это время Сидран, как это частенько с ним случалось, уже несколько дней подряд связывал день с ночью через выпивку и ночные потехи. Одаренность Сидрана бросалась в глаза в этой столовой, полной хмурых работников телевидения и запаха подгоревшего масла. Благодаря певческому таланту Сидрана, а также его ораторским способностям, выглядел он настоящим аристократом из книг. Говорил он, будто диктуя машинистке диалоги для своего нового сценария. В которых не было ни одной лишней запятой, не говоря уж о лишнем слове. Позднее я понял, что на самом деле он все время пишет, даже когда окружающим кажется, будто говорит. На этом своем языке он и сказал мне:
— В писательстве равных мне нет, включая и Гордана Михича, поэтому можешь не сомневаться, есть у меня для тебя сценарий!
Через месяц написал он краткую версию сценария, в которой главный герой Дино, сараевский подросток, показан в момент, когда в жизни его начинается важный этап духовного созревания. Сидран умело увязал семейную драму, с кульминацией в сцене отцовской смерти, и личную драму подростка Дино, влюбляющегося в девушку, привезенную из деревни в город для подготовки к занятию проституцией в Милане. Величественной получилась сцена смерти динова отца Махи, коммуниста и мечтателя, который отправляется на тот свет, пока сын читает ему из «Науки и жизни» о научно обоснованной возможности вечной жизни. Автобиографическая достоверность и мелодичность сидрановых диалогов придавали этой сцене настоящую мощь. С легкостью нашел я и ответ на вопрос, кто будет играть отца: вспомнился мне Слободан Алигрудич, этот импозантный черногорец. Не раздумывая ни секунды, Алия согласился на роль в моем фильме. Постоянно вздорил он с администраторами и Олей Варагич по поводу гонорара, а после и вообще насчет всякой ерунды. До конца съемок не хотел подписывать договор. Нравилось ему ругаться с неприятными людьми, в особенности с организаторами матчасти. Никогда, ни до того, ни после, не встречал я обаятельного человека с такой склонностью к самоуничтожению. Выкуривал он по пять пачек «Мальборо» ежедневно, щипал актрис за задницы прямо в кадре, мечтал вместо актерства заняться каким-нибудь серьезным делом, например, выращиванием арбузов; однажды во время съемок вырубил оператора Вилко Филача инъекцией лекарства, предназначенного для обездвиживания в сцене смерти…! Имел он готовые ответы на все, в том числе и на важные экзистенциальные вопросы. Ожидая возвращения Майи и Стрибора из Триполи, где они гостили у майиной мамы, работавшей там доктором, я спросил его:
— Что-то у меня такое возле живота теплеет, как только подумаю о них? Что это, Алия?
Хлопнул он меня по затылку и сказал:
— Любовь это, мудила!
Пьяные мои загулы, которые были скорей социальными экскурсиями, чем привычкой или потворством собственным слабостям, длились долго. Перед завершением съемок, совместные с Алигрудичем ужины перетекали в пьяные ночи, и тогда пробуждалось то, что, как мне казалось, навсегда было оставлено в моей ранней молодости и временах пражской учебы: в мою жизнь вернулись эксцентричность, поэзия и интеллектуальная агрессивность. Все это было заново вытащено из чемодана, в котором я, после пражского обретения зрелости, похоронил свои юношеские грехи. Напившись, мы с Алией начинали чудить, например, соревноваться кто сильней боднет головой и собьет водосточную трубу с богатого сараевского дома. Голова у Алии была твердая, хотя на первый взгляд трудно было это предположить. Литературным источником вдохновения для нас с Алигрудичем был сидранов отец, а мой отец прямо из жизни впрыскивал в «Долли Белл» то, что литература дать фильму не может. Мурат обогатил образ отца деталями, как живой образец человека, который забывает про текущую крышу и не предпринимает ничего, чтобы починить ее, но говорит о царящей в мире неправде и верит, что к двухтысячному году коммунизм победит повсюду. Совпадение судеб сценариста и режиссера стало решающим для популярности этого фильма. На самом деле, главным героем фильма стал именно отец, а не Дино, хотя Славко Штимац с миллиметровой точностью сыграл сараевского подростка.
Как и все провинциалы, опустошенный внезапным успехом, я стал подхлестывать себя алкоголем. Быстро вошел я во вкус, и скоро это стало опасным. При этом привлекало меня не пьянство само по себе, а скорее возможность устраивать скандалы в общественных местах. Особенно нравилось мне в кафанах ругать Тито и государство. По поводу Тито я высказывался вполголоса, но то, что я говорил о государстве слышал всякий, оказывавшийся в помещении, в котором происходило действие. Однажды, после бессонной ночи, Майя позвонила моему отцу и встревоженным голосом сообщила, что я не ночевал дома. Попросила его забрать у меня ключи от машины, под предлогом, что ему надо отвезти Сенку на Врело Босне. Отец так и поступил, но потом решил принести жертву большую, чем от него требовалось. Решил он начать пить вместо меня. Нашел он меня в «Шеталиште», где я «поправлялся» пивом после пьяной ночи. Утолив первую жажду, продолжил я «влаховым», встал, вместо тоста начал с поднятым бокалом в руке костерить государство, и только после выпил. Официантка Борка сначала смотрела на меня с укором и грозила пальцем в смысле «не смей такого говорить» и попутно посматривала на присутствующих посетителей, запоминая, кто из них слышал эти непристойные слова. Когда я вновь обложил государство, она обеими руками закрыла себе уши, будто бы не слыша и избавляясь тем самым от необходимости донести куда следует о способе и содержании нарушения общественного порядка. Каждый новый «влахов» означал очередное ругательство:
— На хуй такое государство — говорил я, а отец вставал и добавлял:
— Лихтенштейн! — и быстро выпивал бокал.
Увидев, что еще немного и я буду совсем никакой, он с легкостью пошел на дополнительную жертву. Начал валять дурака и воровать с боркина подноса мою выпивку. В конце концов отец так напился, что это я его, а не он меня, как было запланировано, запихал в машину и повез на кошевскую квартиру отоспаться. Поскольку он дал Сенке твердое обещание, что не будет больше пить, я отвез его не к Сенке, а к Майе. Когда мы приехали, он не заметил, что в квартире работают маляры, поздоровался с Майей и поспешил в ванную. Там, перед входом в туалет, стояла прислоненная к коридорной стене свежеокрашенная снятая с петель дверь. Отец схватился за ручку и дверь свалилась ему на голову, от удара он совсем ошалел и он свалился на пол, а свежеокрашенной дверью его нахлобучило сверху.
Держась за голову, глазами отыскал он Майю и сказал:
— Что-то я, сноха, беспокоюсь, какая судьба ожидает чешскую металлургию, если распадется Советский Союз?! Кто всем этим овладеет, ведь знаешь сколько они там стали выпускают?!
В тысяча девятьсот восемьдесят третьем умер дядя Акиф, представитель «Филипса» в Боснии и Герцеговине и личный друг голландской королевы. Таинственный господин, башчаршийский король элегантности, единственный сараевец, приветствовавший учтивым сниманием шляпы даже детей.
В субботний полдень, всего за неделю до смерти своего отца, Дуня Витлачил Нуманкадич прогуливалась по улице Васи Мискина, от Вечного Огня в сторону Башчаршии. Вывела она свою свекровь Смилю показать старую часть города. И, хотя она давно уже хотела как-то наладить отношения с собственным отцом, встреча с ним не стояла на повестке ее дня. В коляске качала она своего сына Деяна и вздрогнула, узнав в прохожем около гостиницы «Египет» своего отца. Когда ее отец сошел с тротуара, направляясь к своей канцелярии около Алибеговой мечети, Дуня остановилась в уверенности, что уж на этот раз она сможет, как полагается приличным людям, познакомить деда со внуком. Дядя посмотрел на свою дочку и, в своем стиле, снял шляпу, кивнул приветственно головой, искренне улыбнувшись посмотрел на внука, вернул шляпу на место и исчез. Дуне осталось лишь растерянно гадать, что же такое должно было произойти в жизни ее родителей, чтобы отец проходил мимо собственных детей, а теперь уже и внуков, эдаким учтивым незнакомцем. Знала она, что мать с отцом только однажды, после двадцати лет раздельной жизни в одном доме, встретились на улице, и застыли на несколько секунд, пристально глядя друг на друга. Ни один не проговорил ни слова, и тяжесть этих взглядов равнялась невысказанным упрекам во взаимной неверности. Больше они так и не виделись.
То, что недодавал Акиф собственной семье, возмещал он участием в общественной жизни Башчаршии. В нем даже последние придурки, включая знаменитого Хору Кукурику, признавали важного господина и раскланивались перед ним. А он их подкармливал, заботился о них и давал им деньги. Когда таинство смерти овладело и этим человеком, хотя и жизнь его была не менее таинственна, конец его в глазах родных и сограждан заблистал, расцвечивая и без того великолепную картину дядиного характера.
Умерев, попал он в длинный список чеховских героев, так обогативших мою жизнь. Узнав во время плановой диспансеризации, что у него есть проблемы с почками, дядя не особо обеспокоился, но когда доктор объявил ему, что проблемы эти могут быть решены только операцией, он понял, что смерть стучится к нему в двери. Почувствовал он, что не вернется живым из больницы, и дописал последнюю, и впечатляющую страницу своей жизни. Умер он во время сложной операции от остановки сердца, и весть о его смерти разнеслась по Башчаршии. Все его друзья и родные поспешили на Вразову улицу, в дядину квартиру, принести свои соболезнования. Сестре его Изе, которая к тому времени рассталась уже с лже-пилотом Адой Бегановичем и жила у брата, не понадобилось много усилий для организации поминок в квартире усопшего. Все необходимые для этого продукты брат ее уже заранее купил и разложил по полочкам и шкафчикам на кухне. Когда начали приходить гости, тетка встретила их словами:
— Покойник был большим противником алкоголя! Прошу вас почтить его волю и в квартире не пить.
И тут же засунула тетка Иза руку под кухонную мойку и вытащила бутыль домашней ракии, в качестве подтверждения того, что алкоголь в доме был запрещен. Налила она ракии себе и свежеприбывшим гостям и сказала:
— И все же, не можем мы проводить покойника без прощания, и полагается, как говорят коллеги христианской веры, выпить за упокой души.
Вылила она полрюмки, вторую половину выпила и поставила бутылку назад в ящичек под судомойкой. Она уже долго жила у брата и иногда выпивала рюмочку-другую ракии, как говорила она, для желудка, или когда у нее начиналась депрессия. Наверное, брат о том не знал, потому что был «большим противником алкоголя».
Перед отправкой в больницу дядя хотел все закончить «вовремя». Пошел он в магазин и накупил всего в гораздо больших обычного количествах. Это были его последние закупки, после произведения которых он мог быть уверен что предстоящее по прискорбному поводу его смерти мероприятие пройдет на достойном господина его ранга уровне. Помимо закупки всего необходимого для проведения поминок, дядя написал сестре подробные инструкции использования закупленного: «Два с половиной килограмма кофе хватит тебе, чтобы два дня все желающие могли пить кофе. Эти два килограмма надо разделить примерно на двести пятьдесят человек, в зависимости от того, будешь ты варить кофе крепкий или послабее. По подсчетам, кофе должно хватить. Кило сахара это многовато, но смысла покупать его меньше нет. К тому же у нас оставалось его еще килограмма два. Кило фиников, сухого инжира, еще два кило локума. Первое пойдет детям, а локум подавать взрослым вместе с кофе».
Внизу в кухонном буфете он оставил сироп для лимонада. Составляя подробный перечень, лимонный сироп он записал отдельно от вишневого сока, и красивым своим почерком приписал: «Не стоит перебарщивать с лимонным экстрактом, потому что он не натурального происхождения, но, все таки, довольно неплох для освежения! Разводить пол столовой ложки на стакан воды. Вишневый сок, в связи с его густотой, необходимо развести. Не ради экономии, а потому что переслащенное вредно. Необходимо знать, что диабетом часто заболевают люди моего поколения и, поскольку по печальному поводу моей смерти соберется более всего людей именно моего возраста, что довольно логично, все вышеупомянутое совершенно необходимо учитывать…!»
Фильм с препятствиями
В тысяча девятьсот восемьдесят пятом году фильм «Папа в командировке» победил на Каннском фестивале. Впервые случилось так, что югославский фильм получил «Золотую пальму». Я вернулся в Сараево за три дня до конца фестиваля, и награду вместо меня получал Мирза Пашич, директор сараевского «Форум фильма». Его фотография с пальмой в поднятых руках обошла весь мир. Взял он награду из рук Стюарта Гренджера и сказал:
— Merci beaucoup.
Когда в Сараево меня спрашивали, почему я не получил «Золотую пальму» в Каннах сам, я выбрал в качестве самого подходящего объяснения такое:
— Потому что клал паркет в квартире своего друга Младена Материча!
Победа на венецианском фестивале не стала для городских властей достаточной причиной, чтобы выделить мне из городских фондов квартиру. Нам с Майей и Стрибором приходилось жить вместе с майиными родителями. Два обстоятельства объясняли этот абсурд, что я, лауреат Награды Шестого Апреля26, не получил причитающейся мне жилплощади: я никогда не был членом Коммунистической партии, и репутация Мурата в сараевских политических кругах тоже была так себе. Чем еще можно было объяснить, что обладатель «Золотого Льва» вынужден жить приживальщиком? Тяжело было объяснить этот факт, зная, что этот венецианский лев и триумф команды «Босния» в баскетболе стали единственными победами, отметившими Сараево на европейской карте. И тут уж вспомнились мне отцовские разглагольствования и остроумничанье на тахте, которым он защищался от матери, от ее вопросов, почему это помощник министра живет в полуторакомнатной квартире. Право на жилплощадь существовало, но его нужно было еще и осуществить! И дело было не только в жилплощади и недостаточной оценке моих заслуг.
Проект «Папа в командировке», мой следующий фильм, неожиданно завяз в топком болоте политики. Возникший в воодушевлении от успеха «Долли Белл» и во время семидневной паузы между сидрановыми запоями сценарий стал любимым блюдом в меню наследников Тито. Мы со Стрибором и Сидраном поселились в дубровницком отеле «Империал», одержимые желанием как можно быстрее закончить сценарий о грозных временах, наступивших в тысяча девятьсот сорок восьмом году. В нем рассказывалась история семьи Золь, начиная со времен, предшествовавших сорок восьмому году. О том, как, став жертвой любовной интриги, отец Махо Золь превратился в политического узника, и как судьба его повлияла на развитие его сына Малика. Рассчитывал я на то, что даже если не удастся мне получить новую квартиру или еще как-то воспользоваться плодами быстро преходящей венецианской славы, то уж снять-то новый фильм не составит труда. Не принял я в расчет, что титовы бойцы все еще были у власти и прилагали все усилия, чтобы все оставалось, насколько это возможно, таким, как при Тито, и чтобы ни одна болезненная тема, в особенности связанная с событиями сорок восьмого года, не затрагивалась вообще. Мой же фильм коснулся истории, которая не была популярной среди его наследников, поскольку свой политический вес они заработали в эпоху легендарного противостояния Тито с русскими. С одной стороны это был рассказ, в котором поэтически, глазами мальчика, были отражены переломные исторические перемены, а с другой там говорилось о страданиях и невиновности узника Голого острова! Тогда я не был еще уверен в своих силах, смогу ли я рассказать об узнике Голого острова, после того, как столько отцовских друзей, пьяных и несчастных, прошли через нашу квартиру на Горице, и на улице Кати Говорушич 9а тоже. Все они стали частью моего взросления. Среди них был и Хайрудин Крвавац, член Художественного Совета «Сутьеска-фильма», но и он, навсегда испуганный узник Голого острова, не мог помочь мне в разрешении коллизий по поводу начала съемок моего второго игрового фильма.
Как остановить мяч посреди поля, каким образом охладить пыл страстно увлеченного художника и постепенно заставить его отказаться от съемок «Папы в командировке», спрашивали себя члены Худсовета «Сутьеска-фильма»? Разрешение на проведение съемок должно было быть утверждено этим советом, но происходящее все чаще напоминало ловкость, с которой футболист Мехмед Баждаревич долго удерживал мяч в своих ногах. Лучше всего эту необходимость, «задержать мяч посреди поля», иллюстрируют протокольные записи того, как эти интеллектуальные футболисты рассматривали мое дело.
Протокол заседания художественного совета «Сутьеска-фильма», состоявшегося 1.2.1983 на Ягомире.
Вопрос 2. «Папа в командировке»
ЧЕДО КИСИЧ — Известно, о каком времени говорится в сценарии, но мне кажется, что ему уделено мало внимания. В нем незаметен и неощутим дух нашей борьбы против резолюции Информбюро. Больше внимания уделяется изображению отдельных личных судеб, но совсем не отражены общие тенденции и ситуация в обществе. Если уж описывать подобные единичные драмы, необходимо и обозначать общие закономерности эпохи, потому что именно таким образом дается ответ на вопрос, из-за чего именно произошло все то, что имеет место в фильме.
Есть у меня и несколько замечаний по поводу отдельных мест в сценарии, как, например, разговор матери с председателем жилтоварищества. Слишком уж он получился грубым, думаю, это надо изменить. Когда рассматривается судьба человека, соображения о цели всего этого в драматургическом смысле ограничиваются лишь описанием происходящих событий, за рамки которых фильм так и не выходит.
В некоторых местах сценария ощущаются провинциализм и примитивизм, и от этого стоило бы избавиться. Также мне кажется несколько преувеличенным изображение психического состояния ребенка. Не уверен, что этот фильм в полной мере отвечает потребностям нашего общества.
НИКОЛА НИКИЧ — необходимо как можно быстрей подготовить окончательную версию сценария. Поскольку режиссер за прошедшее время произвел в сценарии значительные изменения, предлагаю не рассматривать первоначальную версию, но на следующем заседании совета обсудить его в окончательном виде.
С двенадцатого заседания художественного совета «Сутьеска-фильма», состоявшегося 28.2.1983 года на Ягомире.
Вопрос 2. «ПАПА В КОМАНДИРОВКЕ» — сценарий Эмира Кустурицы.
НЕЧО ПАРЕЖАНИН — Читая сценарий, я пытался увидеть 1948 год и события в нашей стране в глазами страны и всего мира. Что значил этот год для мирового сообщества, для международного рабочего движения? Много, так как он стал началом новой эры в международном рабочем движении. Не существует во всем мире передовой силы, которая не опиралась бы на это титово «нет». Впрочем, этот фильм не имеет претензий на глобальную, обобщающую мысль. В связи со всем вышеизложенным полагаю, что в фильме необходимо передать дух того времени и происходящих в нем событий. Также у меня имеется множество отдельных замечаний:
— Off27, в котором Малик говорит, что отец зарегистрировал его за месяц до рождения, чтобы получить детскую надбавку, надо исправить, потому что тогда детских надбавок не было, были пайки.
— Образ секретаря КПЮ хорош, но некоторые его выражения звучат так преувеличенно, что похожи на гротеск. Это партийное собрание необходимо сделать серьезным, а секретарь должен быть реальным человеком, без карикатурности и очернения.
— Не знаю, стоит ли вообще оставлять в таком виде сцену похорон, потому что вряд найдется такой православный поп, который согласится хоронить пустой гроб. Противоречие с их доктриной.
— Матрос с Наташей самые светлые персонажи фильма, и делают его оптимистичным и жизненным.
— Семья Павловичей носит траур, потому что их отец в тюрьме по делу Информбюро. В те времена это было бы понято как демонстрация, что наверняка кончилось бы для них плохо. Такая оппозиция в те времена была немыслима.
— Поэма Макаренко была тогда в моде, и ничего против того, чтобы она зачитывалась, я не имею, главное, чтобы в этом не было иронии.
— Мало было таких сторонников Информбюро, которые оказались в тюрьме, а семьи их смогли бы остаться в своих квартирах. Поэтому мне образ председателя жилтоварищества кажется надуманным, потому что он спасает семью от выселения из квартиры. Думаю, нужно было все же их из квартиры выселить, пусть переселятся в Зворник, а дед останется. Истина все-таки дороже всего.
— Не стоило Малику писать письмо отцу два раза.
— Женские фигуры, вытатуированные на франьиной руке, несколько раз нарочито мелькают в кадре. Думаю, что это перебор.
— Самые большие проблемы с образом Анкицы. Даже любовь не может стать оправданием подобной испорченности. Моральна она или нет, а ведь скорее нет, чем да, она выведена тут борцом против Информбюро. Аморальный персонаж на нашей стороне!!!
— Вряд ли фильм много потерял бы, если названия Зворник и Банья Ковиляча были бы изменены на другие, потому что туда едут исцеляться бесплодные женщины, и оттого могут возникнуть неверные ассоциации.
— Также раздражает меня и то, что доктор Ляхов и Маша русские. Символика тут понятна: горе, слезы, разрыв с Россией. Любовь между Маликом и Машей остается неосуществленной, загубленной, и плач от этого может быть понят как плач от разрыва с Россией, а мы этого не оплакиваем. Эти детская любовь, воспоминания и все с ними связанное можно отобразить и заменив русских на наших людей.
— Шурин-угбешник28, по сценарию, получается эдаким угбешником-одиночкой. Нигде не видно, чтобы он с кем-то сотрудничал, все решения он принимает сам, и об аресте, и о заключении. Не нужно изображать угбешника идиотом, потому что в тем времена дела обстояли таким образом, что и УГБ и Голый остров сыграли большую роль в деле борьбы против сталинизма. Думаю, никогда не настанут такие времена, чтобы тот период был расценен негативно, какие бы ошибки тогда не совершались.
— Петрович и его смерть плохо увязываются с тем, что рассказ идет от лица Малика, потому он в том возрасте просто был бы неспособен правильно понять смысл этой истории.
— На месте режиссера я бы закончил фильм свадьбой Наташи и Моряка. Стоит обратить внимание на то, что Фарук представлен алкоголиком, сломленным ракией. Слишком уж он мрачный получается тип, самый темный персонаж фильма, но при этом относящийся к фронту борьбы против Информбюро, и тут опять подчеркивается, что против Информбюро боролись самые худшие люди страны — такие, как Фарук и Анкица. Поэтому стоит разобраться, что можно сделать с этими персонажами, и как объяснить их отрицательность. Можно было бы, например, сделать их шпионами, это бы объяснило их негативность.
— Современный зритель хочет видеть, как Югославия победила Сталина, и если мы этого не покажем, то пойдем против современной истории. Необходимо показать миру, как тяжело было осуществить это титово «Нет».
ЧЕДО КИСИЧ — Я остаюсь при своем мнении, высказанном по поводу первоначальной версии сценария, потому что, хотя в нынешней версии есть некоторые изменения, они, в основном, декларативного характера. Главным недостатком обеих версий сценария является очернение эпохи. Нужно как-то выразить происходившую драму. При ознакомлении с этим произведением, то время не видится и не ощущается. Нужно понять его, понять, что происходило в те года противоречивейших событий в мировой истории. Здесь всего этого нет, и звучит песня «Все может страна», что может быть понято иронично.
— Сцена передачи эстафеты, в которой Цекич говорит Меше «пошли из этой толкучки» не может остаться в таком виде. Человек, защищающий систему, так не выражается. Из всего этого создается впечатление, что это фильм о сталинизме, а не об антисталинизме. Это ощущается в нескольких моментах; нашей же стране настоятельно необходим сильный антисталинистский фильм. И еще в сценарии слишком уж много мата. Он не несет здесь никакой нагрузки, так что, думаю, лучше б его было поменьше.
В конечном итоге, считаю нужным высказать свое мнение, что фильм по предложенному сценарию со всеми его исправлениями снимать нельзя. Необходима еще доработка сценария.
ЭМИР КУСТУРИЦА — Эта история не имеет отношения к 1948 году, но скорее к пятидесятым годам, и описывает политические раздоры. Время действия можно перенести и в сегодняшнее, и в любое другое время. Построен фильм вокруг мощной и экстремальной драмы, и хотелось бы, чтобы здесь обсуждался сам текст, а не возможные ассоциации, которые может вызвать фильм.
Мне кажется, проблема в том, что текст связывается с духом некоего времени, которое я не смог передать. Любое предположение, что эта история прямо связана с Информбюро, отрицает саму возможность съемок этого фильма. Здесь отражена мощная жизненная история, с которой мы можем соглашаться, или не соглашаться, но Информбюро тут совершенно непричем. Я вижу пути решения некоторых проблем из числа тех, что были тут отмечены. То, о чем вы тут говорите, может быть описано с помощью двух персонажей, один из которых, действительно, сторонник Информбюро, а второй попадает на Голый Остров по ошибке. Подобный взгляд полностью отражает истину, и его можно было бы воплотить в этом тексте.
Некоторые проблематичные моменты, которые вы здесь отметили, также не являются приметами какого-либо времени, они отражают лишь психологическое состояние людей. Сценарий не был написан с целью выразить дух какого-либо особенного времени.
ЧЕДО КИСИЧ — Боюсь, что подобный подход не был бы правильно понят, потому что у людей, ознакомившихся с этой историей, возникли бы тысячи вопросов. Мне кажется, стоило бы сделать что-то вроде вводной части, где давалось бы это ощущение времени. Нужно сместить акцент на драму времени. К тому же, слабым местом сценария являются диалоги. Есть в нем несколько симпатичных диалогов, но в основном они бессвязны.
ЭМИР КУСТУРИЦА — Диалоги возникают из структуры языка. Не следует судить о персонажах фильма и их деятельности по тому, как они говорят, поскольку людей обычно судят по их делам. Степень грубости и диалоги взрослых тут совершенно подлинны. Что же до антисталинизма, то именно в фильме я его и выражаю, потому что весь этот фильм и есть бунт против сталинизма и вообще человеческой неправды.
НЕЧО ШИПОВАЦ — Главная тема фильма, страдание невиновного человека и его последствия это тема универсальная, и выражена она посредством сказочного восприятия. Но все-таки в сценарии не удалось дистанцироваться от темы Информбюро, как хотел того режиссер, и она возникает постоянно. Подчеркивание негативного фона, присутствующее в сценарии, создает впечатление, что вся история с Информбюро — это мучение невинных людей. При первичном рассмотрении сценария я говорил о том, что тут надо добавить красок времени. Время Информбюро было суровым. Если бы сказочность рассказа окрасила эту суровость детским светом, было бы хорошо. Но все-таки остается серьезный перекос в негативном смысле, отбрасывающий отсвет безобразности на все. Некоторые исторические процессы подразумевают трагические страдания их участников, но в глобальном смысле являются справедливыми, а этого в тексте нет.
НИКОЛА НИКИЧ — Принимая во внимание все вышеизложенное, полагаю, что надо предложить Эмиру еще поработать над сценарием, чтобы отразить в нем дух эпохи, в которой происходит действие.
ХАЙРУДИН КРВАВАЦ — Согласен с высказанными здесь замечаниями, думаю, что они могли бы помочь повышению качества фильма. Режиссеру необходимо их учесть, и, творчески переработав, внести в сценарий исправления. Несмотря на то, что текст сценария по жанру скорее личное повествование, мне кажется, в него вполне можно внести достаточно исправлений, чтобы ощутить дух времени, в котором происходит действие.
Сценарий этот еще достаточно сырой, и основной его конфликт (стр. 13) выражен неудовлетворительно, так что стоит его пояснить несколькими сценами:
— То, что говорит Анкица, следует отнести к другому контексту, и пусть она скажет это не Фаруку, а в обществе другого угбешника.
— Предлагаю выбросить эпизод под номером 42, партийное собрание с критикой и самокритикой, поскольку он начинается сразу после сцены обрезания, и вообще лишний, и заменить его эпизодом 55, в котором говорится об исчезновении мужа.
— Также я выбросил бы похороны Влады Петровича, если только режиссер не решит сделать из этого персонажа антипода Меши, и то, что брат Петровича погиб на пограничной службе.
— В сценарии недостаточно конфликтных ситуаций.
— Эпизод прихода матери к председателю жилкома нужно поставить сразу после прихода бандитов.
— Образ Ляхова вызвал больше всего упреков и замечаний, и думаю, что его нужно заменить на югослава с сохранением всех личных особенностей.
— Я бы выбросил и 54 эпизод, в которой мама упрекает брата.
В конце хотел бы подчеркнуть, что все исчерпывающие замечания по поводу фильма должны быть отражены в доработанной версии сценария, что является условием создания хорошего фильма.
ВЫВОД:
Чтобы текст мог отразить дух времени, необходимо отказаться от многих выдумок, создающих негативный фон, поскольку текст должен иметь интонацию той эпохи. Художественный Совет единодушен в своем мнении, что надо дать Эмиру время учесть все эти замечания и предложения, с тем, чтобы впоследствии Художественный Совет снова собрался для рассмотрения нового текста. Предлагаем продолжить работу над сценарием, который будет снова рассмотрен.
Также решено дать текст сценария для ознакомления кому-то вне нашего Художественного Совета, кому-нибудь из выдающихся культурных работников нашей Республики.
С двенадцатого заседания Художественного Совета творческого коллектива «Сутьеска-фильма», состоявшегося 28.2.1983 на Ягомире.
В тяжелейшие минуты моей борьбы за «Папу в командировке» в Сараево, мне помогала мысль о том, что существует еще и Белград. Центр Балкан, который позднее много раз вызывал у меня раздражение. Больше всего раздражала провинциальность и безвкусное эпикурейство его элиты. Но Белград был столицей и последней инстанцией, и я надеялся, что, может, там все как-нибудь сложится. Для типов, принимавших решение о судьбе «Папы в командировке», этот город был политическим Содомом и Гоморрой, а мне представлялся окном, в которое нужно пробраться, если хочешь добиться свободы. Политическое Сараево смотрел на Белград как на генератор анархолиберализма (титовой идеи о подчеркнутом повороте к Западу), антикоммунизма (читай, национализма и четничества), который на самом деле был просто английским словом для обозначения попытки привязывания Сербии к России, пугали их интеллектуальные свободы, которыми обладал этот город. Так вот и я, ощутив, что силы мои на исходе, подумал, что место мне в городе, в котором выходит еженедельник «Нин», где живут Александар Петрович и Живоин Павлович и другие режиссеры «черной волны», где издается философский журнал «Праксис», где дружат Матия Бечкович и Милован Джилас, где живет автор романа «Когда зацвели тыквы» Драгослав Михайлович и где печатается «Студент». Жители этого города просыпаются, и на радиоволнах их поджидает великий Душко Радович.
Покорное, словно в какой-нибудь беккетовской пьесе, ожидание решения о съемках «Папы в командировке» не укладывалось в мое представление о будущем. Нужно было куда-то уехать. Либо в Белград, либо на Запад. Но как ехать на Запад без законченного фильма? Во власти подобных мыслей, в сараевском аэропорту я встретил Миру Ступицу. Тогда мы были еще не знакомы, но уже наслышаны друг о друге. Ее слово стало определяющим в решении, которое в сентябре тысяча девятьсот восемьдесят первого принял ее муж Цветин Миятович, президент Югославии и главнокомандующий Вооруженных Сил СФРЮ, о моей поездке в Венецию на «Золотого Льва». И я, как солдат, был отправлен завоевывать иностранный приз. Контакт с Мирой осуществил Вук Бабич, мой друг и режиссер, снявший с ее участием сериал «Кика Бибич». Я догадался, что Мира возвращается с моря, из Трпаня, где у Цветина была дача. Сразу же мы с Мирой начали жаловаться друг другу на тяжелую жизнь артиста. Я сказал ей, что мне осточертело Сараево и я не знаю, смогу ли пережить глупость всех этих политических проволочек по поводу фильма «Папа в командировке». Мира рассказывала, что хочет стать хорошей матерью цветиновым дочкам и попросила меня посодействовать приему красавицы Майи Миятович в сараевскую Академию Сценического Искусства. Я ей пообещал, что постараюсь сделать все возможное, а она пригласила меня приехать осенью в Трпань и рассказать Цветину о своих горестях. Когда, в середине сентября тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, я подъезжал на такси к дому Цветина Миятовича, то никак не ожидал увидеть президента Югославии загорающим в тренировочных штанах и с толстыми носками на ногах. Перед домом, в котором ничто не выдавало, что хозяин его президент республики, такой скромный сборный домик производства завидовичевской «Кривайи», лежал тогдашний президент. Он загорал, но на ногах его были вязаные носки горской работы. Увидев, что взгляд мой прикован к его ногам, он сказал:
— Плохое кровообращение, дорогой Эмир. Когда-то эти ноги внушали страх и трепет вратарям футбольных команд старой и новой Югославии. Сейчас же это не ноги, а страдалицы, которые сразу превращаются в ледышки, стоит только адриатическому солнцу скрыться за облаками.
Обедать мы поехали в Дубровник. Там Мира Ступица сыграла свою лучшую роль. Каждый раз, когда она чувствовала, что меня заносит в очернение титовых партработников в Боснии, она начинала говорить о своей любви к цветиновым дочерям. Особенно подчеркивала она мой авторитет, который может стать решающим для приема Майи Миятович в сараевскую Академию. Я выпил несколько бокалов вина и, несмотря на то, что у нас с Миятовичем не было общего политического видения современности, почувствовал, как постепенно между нами возникает человеческое взаимопонимание, что в дальнейшем могло мне помочь. И продолжал бередить рану:
— Единственный источник драмы на Балканах это политика и несвобода, которую она создает для молодого поколения созидателей наших фильмов, театральных постановок и литературных произведений, это единственный аутентичный источник драмы. Короче, нет у нас драмы вне политики!
— Так, значит, ты считаешь. Неужто в обычной жизни не найдется материала для драмы?
— Найдется, только у французов и бельгийцев!
— А у испанцев? — начал уже веселиться Цветин.
— Вы не поверите, но и они не чужды экзистенциальной драмы. В основном же, лучшие достижения испанского искусства имеют мощный политический подтекст. Например, Гойя! Испанцы слишком долго смотрели на мир сквозь перекрестие прицела, тем же самым же и Андрич объяснял, почему в Сербии не развит литературный жанр драмы.
Пытаясь завоевать цветинову благосклонность, я несколько раз упомянул о своем намерении переехать в Белград. Говорил я ему о свободолюбивых традициях этого города, и о своей уверенности в том, что поставить на карту Белграда значит то же самое, что поставить на карту свободы.
— А знаешь, сколько у нас в Белграде проблем с сербским национализмом. Этот Михиз и ему подобные, они наносят вред существованию нашего югославского государства.
— Не знаю, как насчет вреда, но эти ученые националисты хорошие собеседники, с ними можно разговаривать по-человечески. Осточертели мне уже, Цветин, недоумки, с ними приходится ломать собственный язык, чтобы никто не подумал, что ты используешь иностранные слова для пущей важности. Или когда встретишь кого из образованных, то приходится терпеть их постоянную фрустрацию из-за неуспешности и вечной клаустрофобии, царящей в Сараево. Белград же большой город, скопление людей, движение товаров и идей, в отличие от Сараево, у которого не было ни своего капитана Кочи, первого богача, ни десятков ученых, мыслителей и просветителей.
Думаю, что с этой минуты Миятович и начал продумывать стратегию, как помешать мне пойти путем Меши Селимовича и прочих многочисленных перебежчиков, переселившихся из Сараево в Белград. Кажется, он понял, что нужно сделать все, для того, чтобы «Папа в командировке» был снят в Сараево. Хотя бы чтоб показать тем, кто вроде этого Михиза, что и в Сараево возможно создание фильма на запрещенную тему. Думаю, что мой переезд в Белград без снятого фильма Миятович воспринял бы как свое личное поражение. Похоже было на то. На пути из Дубровника в Трпань, Миятович впервые высказал симпатию тому искреннему взгляду на положение вещей, которым я поделился с тогдашним президентом Югославии:
— Ты, конечно, преувеличиваешь, но это не страшно, ты человек молодой, и думаешь своей головой. А по сути дела, демократия это когда люди думают по-разному, но не тыкают друг друга ножами. Скажи-ка мне, о чем этот твой новый фильм?
— Продолжение «Долли Белл», только перенесенное по времени в прошлое. Мальчик растет с мамой и братом, после того как отец, из-за любовницы, не будучи ни в чем виноват, был арестован и сослан на Голый Остров. Фильм не о Голом острове, как роман Антония Исаковича «Второе мгновение». Меня не интересует Голый Остров как фактография, мне важно этим фильмом показать, как эта история отразилась на психике мальчика Малика. Это мелодрама, описывающая жизнь тех, кто остался в прошлом… Из этого материала, Цветин, получилось бы совершенно необычное кино.
Через два года после встречи с Цветином Миятовичем фильм «Папа в командировке» был снят и награжден «Золотой пальмой» в Каннах, дочка его Майя уже поступила в нашу Академию, а я обрел еще одного друга. Председателем жюри в Каннах был Милош Форман, один из моих кино-кумиров и тех людей, в чьем присутствии я испытывал волнение. Он сразу же предложил мне место гостевого профессора в Колумбийском университете в Нью-Йорке, на что я, не раздумывая, согласился. «Папа в командировке» обрел мировую популярность. Укладка паркета в квартире Младена, как предлог моего отсутствия на церемонии вручения Золотой Пальмы, была моей попыткой остроумно избежать лишних контактов с боснийскими властями. Когда за три дня до конца фестиваля каждый портье в шикарных каннских отелях знал, что «Папа» победит, я вернулся домой, и никто не пробовал меня остановить.
На торжественной премьере в Сараево произошло событие, не менее для меня важное, чем сама эта победа. Тем вечером, когда фильм «Папа в командировке» в первый раз был публично показан в Сараево, в трех кинотеатрах одновременно, я пережил болезненный катарсис отношений со своим семилетним сыном. После встречи с публикой в кинотеатре «Дубровник», наступил черед «Романии». И здесь восхищение и потрясение, произведенные фильмом, не знали границ. Только мой сын Стрибор отступил на шаг назад. Когда я кланялся зрителям, которые стоя ожидали моего появления, Стрибор застонал от чувства болезненной связи со своим отцом, развел руками и принялся плакать. Когда аплодисменты усиливались, усиливался и его плач, и когда его привели на сцену, перед экраном, я взял его на руки, а он обнял меня так, будто желал никогда больше не покидать этих объятий.
Сладкие грезы
В тысяча девятьсот восемьдесят шестом году нам дали квартиру на Шеноиной улице, одной из самых коротких сараевских улиц, связывающих Титову с Обалой.
После каннского триумфа фильма «Папа в командировке» декан Академии сценических искусств в Сараево Разия Лагумджия выхлопотала в управе Центрального округа квартиру для моей семьи. Незадолго до того в сараевском «Освобождении» она высказалась так:
— Не годится Пальме жить в тесноте, люди, ну что за ерунда.
Перед нашим заселением из ветхой австро-венгерской квартиры с высокими потолками, но без ванной комнаты, была выселена студентка, про которую соседка Февза с глубокой уверенностью утверждала, что она проститутка.
Окрашены были потолок со стенами, перестелены полы, и тут началась новая борьба: Пальме понадобился телефон. Этот приспособление, широко используемое для коммуникации, не сказать чтобы так уж великодушно раздавалось сараевским жителям. Потребовался целый год окопной войны за телефонный номер. В конце концов, после газетных сообщений о том, что иностранцы не могут связаться со мной, произошел впечатляющий оборот событий. Перед домом на Шеноиной 14 внезапно появились работники ПТТ29. Залезли на столб во дворе, и начали растягивать какие-то провода. На вопрос соседки Февзы:
— Что это вы делаете? А разрешение возиться тут у нас во дворе у вас имеется? — они ответили:
— Проводим для Пальмы телефон.
Видимо, тот, кто раньше не хотел проводить мне телефонную линию, в конце концов сообразил, что это удобный повод поставить мне прослушку. Так осуществились мечты того клетчатого в окошечке, который безуспешно, при выдаче перед отъездом в Прагу моего первого паспорта, предлагал мне стать удб-ешным осведомителем. Когда я пришел на почту подписывать договор об установке телефона, один черногорец, которому пришелся по нраву мой острый язык, открыл большую книгу, размером больше школьного дневника, и сказал:
— Круто это у тебя в «Нине»30 получилось, четко ты там уделал Микулича и его дочку! Моя дочь изучает ориенталистику, так она говорит, этот твой Кустурица, на самом деле, на арабском значит ножичек, острый такой, но маленький, он ставится в стамеску и используется для строгания дерева! А я и говорю, тогда он не Кустурица, а Кустурище! Давай-ка, брат, выбирай номер какой хочешь!
Я, конечно, был удивлен, но эта, довольно необычная, ситуация меня позабавила. Нужно было выбрать для телефонного номера шесть цифр. Искал я среди тысяч комбинаций, и, в конце концов, выбрал наобум:
— 212–262, сказал я поспешно, на чем черногорец и закончил дело:
— Аферим31, с этого момента это твой телефонный номер, только подпиши вон тут, пожалуйста!
Получилось, что этот черногорец вознаградил меня за смелость, заключавшуюся в открытом высказывании того, что мой отец, под выпивку и музыку, говорил последние двадцать лет.
Отец, после моего триумфа в Венеции, больше не водил с собой на ночные гулянки человека моего роста, чтобы показать, какой у него высокий сын. После инфаркта отец был вынужден сбавить обороты пьянства, но обходил сараевские кафаны, цитируя своего сына, сказавшего то-то и то-то по такому-то поводу. Но чаще всего о политике. С гордостью спрашивал он собеседника:
— Ты читал сегодняшний «Нин», как им там мой-то вмазал, а?
Получилось, что я реализовал отцовы мечты о свободе. Очень моему отцу нравилось, что я не щадил никого, и он все больше напоминал довольного человека, достигшего в жизни всего чего хотел. Когда бы ни завязался, под жареную ягнятину и белое вино, серьезный разговор о насущном, как только беседа заходила в тупик и никто уже не знал, как из него выбраться, отец мой всегда говорил:
— Э, брат, почитай-ка эмирово интервью «Нину», там все сказано.
Будто поддерживая тем самым две вещи: ценность моих соображений, и саму идею, выраженную моими словами. Еще важнее, означало это, что все трения между сыном и отцом остались в прошлом, и, что самое важное, он обрел свободу без страха сказать своим коллегам, включая и генерального секретаря ЦК БиГ:
— А пошли-ка вы все на хер!
То есть, он достиг Олимпа своей общественной деятельности!
Тогда же фактически все обязанности главы семьи были перенесены от Мурата ко мне. Во время своих ночных загулов он начал прятаться от моих друзей, а когда как-то ночью наткнулся в одной сараевской кафане на Сидрана, то вернулся домой под утро с ним вместе, потому что они жили по соседству. И, перед тем, как зайти домой, отец сказал Сидрану:
— Только Боже тебя упаси сказать Эмиру, что сегодня ночью мы с тобой пили!
Отдельной неприятностью было то, что он так быстро толстел. Сидел он на диете, приносившей мало пользы. Временами он ограничивал себя в еде, но когда я, из-за премьеры «Папы в командировке», отправился в турне по миру, он расслабился и набрал четыре-пять килограммов. Вспомнив, что я скоро приеду, он позвонил Майе, скажем, в пятницу и спросил:
— Майя, когда мучитель приезжает?
Майя ответила:
— В следующий четверг.
— Ох, значит, с понедельника сяду опять на диету.
Но выходные не хотел он пропускать любой ценой. Даже ценой того, что мучитель (злодей), то есть я, станет шпынять его из-за набранного веса и сердца, которое, из-за него, может отказать.
— Сяду на диету с понедельника до четверга. Не знаешь ты, сноха, какое это счастье, ягнятина под белое вино с газировкой из сифона!
В жаркие летние месяцы отец оставался в Сараево и наслаждался одиночеством, пока Сенка загорала и купалась на макарской ривьере. Во второй половине июля и начале августа Сараево пустело и становилось чудесным городом. Отец ввел тогда в обыкновение спать до полудня в нашей квартире, очень ему нравилось, что в домах австро-венгерской постройки не нужен кондиционер, но вскоре выяснил недостаток этой своей привычки: спал он сладко, но просыпался голодным. Надо сначала наесться, а потом уже идти спать, думал отец, сидя за канцелярским столом и наблюдая в окно, как чешские трамваи скрежещут по рельсам перед Исполнительным Собранием, и предвкушал будущие события. Завтра, после работы, по пути к своим шницелям, пройдется он по тени от здания Исполнительного Собрания по Мариндвору и весь путь до Кварнера. Там его подстерегает залитый солнцем парк, где нет домов, между Кварнером и старым зданием Исполнительного Собрания, но не беда, ведь человек, когда у него хорошее настроение и в конце пути его ждет вознаграждение, может вытерпеть все, даже жаркое сараевское солнце.
Из-за этого своего решения он решил встать завтра пораньше, приготовить еду, отнести ее на Шеноину 14, и только потом идти на работу. Приятно было думать о завтрашнем дне, в котором его ждали целых два восхитительных события — сладкий полуденный сон, за которым последует небольшое угощение, когда он подкрепится подготовленным шницелем, причем особенное удовольствие доставит ему мысль, что питается он диетически.
Мишо Мандич работал в окружном Суде всего в сотне метров от Шеноиной 14. Как специалист по гражданскому законодательству, должен был он рассматривать тридцать дел в месяц. Обычно все эти дела заканчивал он за первую неделю, так что свободного времени было у него хоть отбавляй. Чаще всего посещал он дочь, но и со мной любил разговаривать, как говорили в Сараево, «выяснить мой взгляд на историю». Когда наступало лето, он продолжал приходить в нашу квартиру, несмотря на то, что уже в начале июня мы уезжали в Високо, на дачу. Была у Мишо такая чудаческая привычка; первым делом, поздоровавшись с домочадцами — он открывал холодильник. Когда-то это происходило из чистого любопытства, и он часто приносил разные сласти, купленные в боснийской провинции, где он производил инспекцию городских судов. Или, может, открывал он холодильник, как бывший зэк, который вечно встревожен, хватит ли ему еды?
Проснувшись тем утром, Мурат Кустурица сделал все по задуманному. Зажарил себе шницель, в большую миску нарезал салата, закрыл обе тарелки фольгой и отправился на Шеноину 14. Солнце едва взошло, а он уже зашел к нам в квартиру и поставил шницель с салатом в холодильник. Когда он пришел на работу, стало ясно, что это будет один из тех июльских дней, когда в Секретариате по делам информации республики Боснии и Герцеговины особо работы нет. Большинство его сотрудников были уже в отпуске. Несколько раз в течение рабочего дня Мурат Кустурица вспоминал о шницеле, который будет съеден им с превеликим удовольствием, и тогда, в прохладе квартиры с высокими потолками австро-венгерской постройки, можно будет по-царски вздремнуть часок, а то и два.
Мишо Мандич в отпуск еще не ушел. Тоже решил остаться в пустом городе. Каждый день приходил он в нашу квартиру, в которой его дочь перед отъездом прибралась и, конечно, опустошила холодильник. Знавшего голод человека никогда не покидает желание чем-нибудь перекусить. Поскольку холодильник оказывался по-прежнему пуст, Мандичу не оставалось ничего, кроме как, убедившись в этом, закрыть его, выспаться и отдохнуть душою от утомительных дел гражданской юриспруденции.
Около половины третьего Мурат покинул здание Исполнительного Собрания и направился в сторону Шеноиной 14.
— Все к тому, что мне не мешает маленько перекусить, — улыбнувшись, умозаключил помощник министра информации республики Боснии и Герцеговины.
И даже принялся насвистывать свою любимую песенку «Потому что бродяга я… меня манит дорога…». И, словно тигр, ускорял свой шаг по мере приближения к цели: «Ну, держись, шницелечек мой, немного же тебе осталось, ждет тебя Страшный Суд! Ух, покажу я тебе, вот увидишь!», говорил он про себя.
По дороге завернул в «Градину» и купил хлеба и приправ к салату. Заодно учтиво поздоровался с Ризом, сараевской легендой и гомосексуалистом:
— Как дела, Риз, новые мальчики есть? — спросил его мой отец, а тот все попыхивал своей вечно зажженной сигаретой. Говорили, что и во сне держит он ее в уголке рта, правда, потушенную.
— Да ладно тебе, Мута, докапываться, не дай Бог услышит кто, так и впрямь подумают, что я… — и он расхохотался, а Мурат прервал его:
— Да ты что, да разве им когда такое в голову придет, все ж знают, что ты нормальный!
Взял Мурат хлеб и отправился на Шеноину. Радостно открыл двери нашей квартиры, зашел на кухню и подумал: «Вот молодцы, какая прохлада, и потолки высокие, не зря все-таки эти австрийцы владели миром и распространяли свою цивилизацию и архитектуру!». Снял он с полки тарелку, поставил ее на стол, зажег плиту и, напевая, пошел к холодильнику. Открыл холодильник и… не смог поверить своим глазам. Ну как же так? Разве можно оставить такое без последствий? Кто-то съел его шницель!
И, жуя в сухомятку хлеб, сокрушенно думал: «Боже, как несправедлив этот мир». Набрал номер в Високо и пожаловался Майе:
— Он заставляет меня сидеть на диете и не пить, а когда я все это делаю, приезжает и съедает мой шницель, а я-то как раз только собрался перекусить, раз! и ничего нету. Неужели он действительно так со мной поступил!?
Так отец заподозрил собственного сына, не зная, что шницель попал в плен Милошу Мандичу и немало его обрадовал. В конце концов судья Мандич был вознагражден за ежедневное открывание холодильника на Шеноиной улице. Оказалось, все это делал он не зря, потому что нашел там припрятанный шницель Мурата.
Квартира на Шеноиной 14 стала магнитом для всего цвета сараевского общества. Старая обшарпанная квартира австро-венгерской постройки располагалась очень удобно. Короткая Шеноина улица выходила на Титову, главную улицу, так что все наши знакомые, живи они хоть на Вишнике, хоть на Кошеве, говорили:
— Давай заглянем к Кусте, он недалеко.
Потому что, приехав в центр, так или иначе но попадешь на Титову, и оттого им казалось, что Кустурицы живут неподалеку. Все ходили в эту квартиру, в том числе и наши родители, хотя бы раз в день. Редко какой вечер обходился без гостей. Все это было похоже на то, какой запомнилась мне комнатушка на улице Воеводы Степы дом 2, где я родился, когда Сенка все время ругалась и говорила Мурату:
— Это уже не квартира, а блядский проходной двор!
История повторилась, разве что на этот раз компания подобралась более разнузданная, чем те бедолаги из пятидесятых. Владели нами всемирный прогресс, леви штраусс, кока-кола и рок-н-ролл.
Жизнь наша между фильмами «Вспоминаешь ли Долли Белл?» и «Папа в командировке» разворачивалась во времена «Больших ожиданий». Перед смертью товарища Тито, а также сразу после нее большой популярностью пользовались рокеры, наиболее заметными из которых были Бора Чорба и «Азра» Джонни Штулича. И все же толпе больше всего пришелся по вкусу пастушеский рок Горана Бреговича. Ему удалось перевести музыку «Лед Зеппелин» на пастуший язык. После «Разбойничьего ручья» 32 и концерта, собравшего сто тысяч слушателей, тетка Весна Байчетич охарактеризовала успех Бреговича в своем стиле:
— Будь жива его мама, он бы такого себе не позволял!
К моменту, когда «Цепеллины» ушли со сцены, он уже успел выпустить пластинку в стиле «новой волны». Желая прожить сто лет, сочинил песню, в которой выразил свое презрение к столетним.
Появление групп «Забраньено пушенье»33, «Элвиса Й. Куртовича» и «Хит-парада сюрреалистов» стало событием революционным. Популярность их творчества позволила наследникам «Травницкой хроники» и «Моста над Дриной» узнать себя в их песнях и телевизионных пародиях. Таксисты, мясники, продавцы кебабов смотрели «сюрреалистов» и смеялись над собственными пародиями в сериях, сделанных по подобию «Монти Пайтона». Причем, это было не копированием популярных англичан, а просто обыгрыванием тех же стереотипов, которые были ранее использованы Терри Джонсом и Гиллиамом. То же самое делал и Райнер Вернер Фассбиндер, великий немецкий режиссер. Он голливудского исполина Кирка Дугласа и его величественные драмы смог отнести в область стереотипов. На этой основе он создал современные кинопроизведения, которые прославили немецкий кинематограф восьмидесятых; самым известным из них стало «Замужество Марии Браун». Он был одним их редких режиссеров, сумевших оторвать миллионы телезрителей от их экранов и заставить смотреть серьезное кино. Этого добился он своим сериалом «Берлин, Александрплатц». Случилось это во времена, когда на телевидении еще создавались серьезные произведения. Тогда мы все собирались на Шеноиной 14, вместе с Карайличем, смотрели произведения Фассбиндера, и замечали схожесть приемов, применявшихся в кино и рок-н-ролле. Решили мы, что значение восьмидесятых годов в киноискусстве и музыке в том, что оригинальность художника измерялась тем, каким образом и насколько способен он отступить от существующих стереотипов, а также подчеркиванием мелодраматической основы, из которой, без разницы, имелся ли в виду Эврипид, Шекспир или судьба деда Атифа, попавшего под поезд, и происходит мощное эмоциональное переживание. Это переживание нуждалось в современном художнике, который был бы способен воспринять его и, в согласии с духом времени, отреагировать по-своему. Больше всего обрадовало нас появление группы «The Clash», потому что Страмер был настоящем героем, из тех, то жил впроголодь и, как раз когда мы слушали его альбом «London Calling», уехал в Никарагуа бороться на стороне сандинистов. Мы на что-то подобное даже не замахивались, и отчасти из-за этого Джо Страмер оставался для нас недостижимым идеалом. Панк-движение, будь оно хоть сто раз дизайнерским проектом лондонского менеджера Мак-Ларена, имело свою хорошую сторону. Оно разбудило заснувшее чувство правды, лелеемое детьми цветов тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, пока они еще не продались Уолл-стриту.
Появление Доктора Карайлича я понимал как логическое продолжение европейских забав, принесенных в «темный вилайет»34 австрийцами, с их симфоническими оркестрами и капельмейстерами, и еще как своего рода циркового акробата. Тут необходимо пояснить историю его появления. Как и все артисты, он возник ниоткуда, будто спрыгнув с трапеции, и его происхождение по сравнению с переполнявшей его творческой смелостью, не имело никакого значения. Он был лучшим носителем панковской идеи разнообразия. Носил он свитер, связанный мамой, и презирал «побрякушки». Футбол он рассматривал с точки зрения методов классической философии, оживляя тем самым эту серьезную духовную гимнастику и переводя ее на доступный язык, читал книги, постоянно ходил к букмекерам и упорно ставил на «Железнодорожника», даже когда было очевидно, что этот его любимый клуб не имеет ни малейших шансов на победу.
В тысяча девятьсот восемьдесят шестом, на концерте группы «Забраньено Пушенье» в Риеке, Доктор Карайлич сказал, что «Маршал сдох». Все пришли в замешательство. Одни утверждали, что он имел в виду усилитель фирмы «Маршалл», другие же не сомневались, что он сказал это про товарища Тито. Время показало, что самой большой проблемой для наших сограждан явилась сама идея, что кто-то может вот так вот упоминать Тито и издеваться над ним. Хуже всего, что они все никак не могли свыкнуться с мыслью, что Тито и на самом деле умер. Карайличева провокация на концерте в Риеке и фраза «маршал сдох!» сохранилась в памяти вольнодумно настроенных югославов, как смелая насмешка над тотемным величием товарища Тито. Но скоро выяснилось, что обыгрывание стереотипов на телевидении и в реальной жизни, это не одно и то же. Свернув с улицы Югославской Народной Армии на Шеноину, спеша на обсуждение текущих художественных и политических проблем, Карайлич не знал еще, что прогулка по городу станет наказанием за его политический проступок. Тот инцидент не освещался широко ни в прессе, ни на телевидении, но наказание за него было перенесено на улицу, чтобы боснийский народ мог осудить преступника сам. Доктор Карайлич вбежал в квартиру и показал мне ссадины и синяк под правым глазом. Напавшие наскочили на него сзади и серией ударов попытались свалить на землю. Когда его избивали, один из них сказал:
— Не нравится тебе Тито, собирай манатки и пиздуй отсюда в Белград, сучара!
Не удалось им повалить его, слишком уж бестолково они возились, опасаясь прохожих, гулявших по Титовой. В одних носках, злой как черт, я выскочил на улицу искать нападавших. Их, конечно, уже не было, а нам оставалось только гадать, сделали ли они это спонтанно, или это была группа, организованная тайной полицией, что в Боснии было обычным делом. Стоило ввязаться в политику, и сразу то в тебя на улице бомбу кинут, то по односторонней улице против движения вдруг выскочит грузовик с намерением размазать тебя по мостовой. Именно это произошло с певцом Райко Петровым Ного. А чего можно было ожидать от сограждан, когда связываешься с большой политикой? Когда писатель Меша Селимович поссорился с Бранко Микуличем, мало кто осмеливался поздороваться с ним на улице. Только докторша Лагумджия храбро разгуливала по сараевским улицам, держа его под руку. Лучшие друзья Селимовича отворачивались и переходили на другую сторону улицы. Скрывался он от распространившихся новостей в гостинице «Европа», а некоторые прятались за воротниками пальто и пропадали в окрестных улицах.
Стрибор появился на этом свете, когда я еще нес на своих плечах груз горицкого прошлого, в котором детство, в нищем, но привлекательном окружении, прошло в поиске ответов на основные экзистенциальные вопросы, позднее переведенные на язык искусства. Та мучительная эпоха была позже награждена главными призами на мировых кинофестивалях. И вот ведь чудо, первые стриборовы наблюдения и первые остроумные замечания возникли также на экзистенциальной основе. Оттуда и те страх и беспокойство за нашего пса Пикси, как бы его, после победы «Долли Белл» в Венеции, не съел «Золотой Лев».
Его сестра, Дуня Кустурица, родилась под звуки группы «The Clash» в облаках табачного дыма в нашей квартире на Шеноиной 14. Там мы досиживались до рассвета в эксцентричных славянских препирательствах и безумных вечерах, когда одна ночь проходила за обсуждением, правда ли что зажигалка «ронсон» лучше «дипона», потому что фирма солидная, а на следующую ночь рассвет уже был встречаем за успешной расшифровкой уилсоновского «Эйнштейна на пляже». Это было время, когда в мыслях наших сплавлялись два мироощущения, обычная история для Сараево, крах титоизма и надежда, что будущее будет лучшим. Эта идея, подкрепленная музыкой группы Clash и экстравагантной, но популярной панк-культурой восьмидесятых, которая тогда казалась преградой на пути недавно появившегося чудища MTV и его канализации, начавшей изливаться с телеэкранов и грозившей утопить нас в своих музыкальных фекалиях.
Вопрос, впервые сформулированный Джо Страмером, выразившим мысли миллионов людей, в песне «Should I stay or should I go», был разрешен мною отъездом из Сараево в США. У этого решения не было политической подоплеки, просто родной город больше не сочетался с одеждой, которую мне нравилось носить, к тому же акции Сараево более не ценились на бирже моих будущих художественных трудов. Принял я приглашение Формана заменить его в Колумбийском университете, и второй раз, но теперь уже навсегда, покинул Сараево. Случилось это в тысяча девятьсот восемьдесят восьмом году, и мы покинули Шеноину 14. Пока мы паковали вещи и прощались с нашими друзьями и родителями, по телевидению вели трансляцию «йогуртовой революции», в которой Воеводина потеряла автономию и вся Югославия приготовилась погрузиться в дерьмо.
Прощай, любимая страна
Все пути, ведущие из Сараево в большой мир, как и назад в родной город, вели через Белград и квартиру тетки Бибы. Так было и когда мы переезжали в Америку — Дуня, Стрибор, Майя и я. Дорога в Нью-Йорк проходила через Теразию 6. Это становилось маленьким праздником; больше всего радовала меня встреча с теткой, чья жизнерадостность и полезное участие в моей жизни впрыскивали в нее решительность и силу, таким же образом, как наполненный кислородом ветер вдруг раздувает ленивый костерок и заставляет его гореть сильней и уверенней. Так тетка Биба стала не только путеводной звездой моего отца, но и одним из столпов моего взросления. К сожалению, когда я уезжал в Нью-Йорк учить студентов в Колумбийском университете, взгляд моей тетки начал угасать, а жизнерадостность, которую она так заразительно распространяла вокруг, отошла в область воспоминаний и забвения. К обычной печали, которая сопутствует старению, добавилось еще одно разочарование, прощальное столкновение с ее мужем Любомиром Райнмайном. Тот нашел себе художницу на тридцать лет его младше, некую Гавранопетанкович, и пытался теперь выцыганить из их совместного с Бибой хозяйства каждый динар до последнего, чтобы переселиться в Херцег-Нови. Единственным способом, которым этот новоиспеченный профессор журналистики мог бы добраться до денег, была продажа теразийской квартиры. Тетка отказывалась, настаивая на том, что не представляет себе жизни без культурных событий и учреждений, к которым она привыкла и которые были у нее там, как она выражалась, прямо под ногами.
— Эх, мой Эмир, стоит мне выйти из моей резиденции, как тут же под боком «Душанов град», лучший в Белграде ресторан, через сто метров Народный Театр и Музей, десять минут ходу до калемегданского Победителя, пятнадцать минут до Коларца…
Достаточно было несогласия на продажу одной из сторон, чтобы произвести ее стало невозможным. В таком вот тяжелом положении оказался Любомир Райнвайн. Приходилось ему сохранять спокойствие, чтобы не ничем не выдать, как он ненавидит мою тетку, но смотрел он на нее при этом так, будто хотел размозжить взглядом. Надеялся он при помощи нас, разумных членов семьи, вытянуть денег побольше и начать лучшую жизнь на южной Адриатике. Едва заслышав из своей части квартиры, которую она отделила баррикадой, шаги своего бывшего мужа, моя тетка с удовольствием начинала день воплями:
— И славенкину гармошку затырили, бандюги чертовы! Знаешь, Любомир, когда удастся тебе меня поиметь? Никогда! Получишь ты часть квартиры, ага, щас, от кулака до локтя! — говорила тетка и тряслась от злости, что Райнвайн не видит ее движения рукой.
Когда через год после последнего свидания я вернулся из Нью-Йорка в Белград, для получения Авноевой премии, самой престижной в СФРЮ награды, тетка выглядела как выдохшийся боец и усталая женщина. Бибины улыбка и объятия были по-прежнему сильны, подтверждая, что лишь мои успехи приносят ей целительное утешение и немного смягчают боль, приносимую наступающим итогом ее жизни. Перед уходом на церемонию вручения премии, я сидел с Любомиром Райнвайном на кухне, по его просьбе. Он убеждал меня, что ужас их совместной жизни необходимо прекратить, чтобы не случилось еще большей катастрофы. Тетка время от времени открывала двери и говорила:
— Он хочет выгнать меня из собственной квартиры! Это старая идея семейки Райнвайн, они это уже двадцать пять лет пытаются проделать. Эмир, сынок, не верь ничему, это ворюга, он и его сестры, курвы немецкие!
— Ну вот, Эмир, видишь, среди чего мне приходится жить.
Едва скрывшись за дверью, тетка высовывалась снова, теперь сбоку из-за дверного проема, как Чаплин:
— Среди чего это ты живешь? А ну, Любомир, хватит травить ребенка своим враньем! Женился он на мне, Эмир, из-за моих связей, чтобы сделать журналистскую карьеру. Если бы не я, писал бы себе новости с базара в титоградской «Правде» а не прогуливал свою задницу по европейским столицам!
Дядя настаивал на том, что необходимо оставаться в рамках разумного и просил меня сделать что-нибудь, чтобы разделить квартиру, чтобы он мог продать свою половину, потому что тетка, помимо прочего, шлет ему через «баррикаду» записки с угрозами «убить во сне». На самом деле, Биба устала от жизни и уже несколько раз отправлялась на лечение.
Сначала ее лечили от воспаления легких, а потом от одиночества. Принимала она очень сильные успокоительные, и ее психическое разрушение только увеличивалось страхом наступающих перемен.
Очень обрадовалась она, узнав, что на церемонии вручения будет сидеть на почетном месте. После неприятного разговора с Райнвайном, тетка долго приводила себя в порядок перед походом в СИВ35, где должна была состояться торжественная церемония вручения премии. Постоянно повторяла, подкрашивая губы:
— Райнвайн Любомир, бандит австрийский, с сестрами немецкими курвами, да чтобы выгнал из квартиры Бибу Кустурицу, партизанку и орденоносца!
Даже тогда моя усталая и больная тетка не теряла желания, одевшись покрасивей, встречаться со важными людьми в солидных местах. Будто взывая к прошедшим временам, когда она работала в европейских столицах и задавала торжественные приемы от Берна до Праги, а в Белград в эту самую ее квартиру приезжали и Винавер, и Векослав Африч, и ученые, такие, как знаменитый биолог Синиша Станкович.
В холле Союзного Исполнительного Комитета рябило в глазах от знаменитостей, пришедших на церемонию вручения Авноевой Премии. Среди официальных лиц была и великая поэтесса Десанка Максимович. Взгляд ее все еще оставался взглядом женщины, а не старухи, как ожидал того я. Узнал я и других гостей этой церемонии; в том числе приметил и Стипу Шувара, выбежавшего из одной двери, чтобы исчезнуть за другой. Окружившим ее людям Десанка говорила:
— Какой дивный юноша, прямо как Дионис, такой красавец!
Тетка Биба подошла к поэтессе и с широкой улыбкой протянула руку:
— Я эмирова тетя!
Десанка повернулась к Бибе и удивленно спросила:
— А какого Эмира?
В тот вечер я зачитал благодарственный текст на вручение премии, написанный в теткиной квартире, в редких паузах между словесными огнеизвержениями, которые тетка изрыгала на Любомира Райнвайна. И вот этот текст:
«Когда мне сообщили, что нужно прочитать благодарственную речь получателя Авноевой премии, я согласился не раздумывая, потому что знаю, что слова сегодня девальвируются быстрее динара» (Поняв, что это мой шанс высказать, публично, и в месте, где буду услышан, то, что думаю о стране, чьим гражданином являюсь.)
«Делаю я это с особым удовольствием, поскольку не принадлежу ни к одной политической партии, и поэтому могу говорить от имени поколения, принесенного в жертву идеологии Союза Коммунистов Югославии и его вождей, которые на протяжении многих лет, планомерно и сознательно, занимались его уничтожением. Что им, как подтверждают факты, полностью удалось. Единственное, что оказалось им не по зубам, это уничтожение нашего духа, который, как и прочие вещи, скрытые и запретные, остался единственным вкладом в общественную жизнь, в который мое, а думаю и все другие поколения, верят, как в единственную непреходящую ценность.
В смятении чувств, в те дни, когда впервые в моей жизни, перед глазами всего общества развертываются крупнейшие исторические события, я, глядя издалека, из Нью-Йорка, переживал их очень сильно, и распад Югославии — как никогда болезненно.
Поэтому-то я и задумался о том, какой же смысл получать Авноеву премию сегодня?
Какой смысл принимать высшую награду страны, объединяющей народы в раздоре, единоплеменников на грани междоусобной войны, страны с разрушенной системой ценностей, гражданами, обманутыми властью, полугражданами, которые, в большей части страны, затаились в своих свежеотштукатуренных домах, будто за кулисами, которыми ограждена их подкупленная политическая совесть и блокируется любая попытка политического мышления.
Как принять награду у страны, которая внезапно вылетела на обочину истории, по сравнению с почти всеми странами Восточной Европы (за исключением Албании и Румынии), в которой, благодаря бурлению масс, вызванному их политическим возмущением, ясно обрисовалась большевистско-монархическая сущность югославского социализма.
Так почему все же я появился здесь и решил принять эту награду.
Потому что не хочу остаться совсем без веры.
Потому что остаться без нее значит, как написано в евангелиях, перестать существовать вообще. Потому то я и решил оказать себе это одолжение, желая верить и, наперекор всему, надеяться.
Я верю в то, что обращение, зачитанное здесь, в месте, где собрались те, чьи труды получили наибольшее признание этой страны, прозвучит весомо и мы снова сможем вписать в наши дневники строчки надежды и веры в истину.
Я один из тех, чье сердце затрепетало от счастья, когда в прошлом году на Желтой Греде черногорский народ, который его руководство годами унижало и пыталось, с полного ведома союзного руководства, приучить к порядкам, какие можно встретить разве что в Конго, сумел возвратить это унижение и свергнуть существующую власть. Затрепетало от счастья тогда мое сердце, но вскоре охватила меня и печаль, вызванная осознанием того, что событие это ограничилось пределами республики. Не причиной ли тому тот самый полугражданин, притаившийся за свежекрашеными кулисами домов, построенных на его долю от дележки чужих, незаработанных денег, которые широкие народные массы делили вместе со своей властью, строившей себе виллы, а народу дачи, обеспечивая себе долгое пребывание у власти?
Не тот ли полугражданин на растерзанном югославском рынке был и цивилизационной причиной нынешней политической и социальной смуты, которую мы наблюдаем сегодня повсюду в мире?
Этот черногорский бунт, бывший поначалу выражением социального и политического недовольства, стал несомненно общенациональным, как события в Чехословакии, Польше и Германии, и все они вкупе ставят исторический вопрос, как и из чего остальные народы в той же степени оскудения и ксенофобии, откуда, из какого источника черпали свое терпение и почему подчинялись они своим сомнительным вождям, молча устраняясь от процессов преображения мира.
Потому что мир, без сомнения, меняет улица, о чем говорит нам опыт Праги, а так же Берлина, где была разрушена не только стена, но и свергнут тиран, один только бассейн которого, в доказательство его коррумпированности, показывался по американскому телевидению 15 дней подряд!
Что случится, если как-нибудь ночью подобное произойдет и с сотней наших Хоннекеров — если борцы за правовую систему не станут завывать как раненые звери, а позволят полиции неважно какими, сталинистскими или демократическими методами — арестовать тех, кто строил себе виллы и грабил нас.
Или же все те, кто хотят остаться в стороне, незатронутыми радикальными переменами, закончат как тот герой Андрича Алиходжа, которому пришлось дожидаться новую власть прикованным своими же единомышленниками за ухо к мосту, или же оскудение и падение уровня цивилизованности дойдет до такой степени, что этот самый полугражданин, на которого и рассчитана коррумпированность власти, станет рушить стену, просто чтобы добыть себе на пропитание вместо хлеба и молока извести.
Конечно, все мы хотим в Европу.
Но поезд, отправляющийся туда, не повезет нас с политиками, которые свои карьеры строили вместе с Хоннекером, Чаушеску, Ходжой и Живковым…
Не повезет с теми, кто и сегодня правит как наследники их политики.
Не выйдет попасть туда с ними, потому в Европу не идут, не сведя предварительно счетов.
Я склонен согласиться с тем героем Хавела, который больше коммунистов ненавидел только антикоммунистов.
Дело ведь не в том, что кто-то ненавидит или любит коммунистическую идеологию. Важно то, что политическая концепция у нас основана на монархической тирании однопартийной системы, и полностью провинциальна, клаустрофобична, питается дьяволом, а не реальными человеческими потребностями, и не выдержала испытания временем.
Между тем, дела обстоят таким образом, что эта концепция и идеология потребуют крови, чтобы вместо них появилось что-то другое, не называющее себя идеологией и находящееся вне ее.
Примитивный человек выбрался из хаоса, наведя порядок, классифицируя понятия, давая им имена, создавая книги, как способ соглашения.
Современный человек нашел способ соглашения в политике, поскольку религиозная книга стала вместилищем метафизических понятий, книгой для учения.
Я вижу Союз Коммунистов Югославии и его идеологию как способ в особенности спорный, как эпицентр югославской смуты, как то, что разрушает и делает невозможным коммуникацию на территории Югославии. У нас есть премия Авноя, основанная союзом Коммунистов, но я думаю, что у нас есть на нее право, что она наша. Родина будет спасена без решающей роли Союза Коммунистов Югославии, потому та будет исключена из этого процесса всем нашим опытом.
Фразой: „Товарищи, ситуация сейчас сложная!“ — начал я свой первый игровой фильм, перефразируя гамлетовскую фразу устами коммунистического идеолога, который мрачно сидит за бутылкой минералки и управляет нашими детством, юностью, жизнью… Для этого политика все ежедневное, обыденное, простая человеческая жизнь с ее духовной ненаполненностью, не обладали никакой ценностью в сравнении с его устремленностью в вечность и великими проектами.
А все оставшееся, то есть югославский дух сороковых годов, эта идеология объявила более-менее незаконным.
Одни только придворные художники, преданные слуги режима, умудрились намалевать идеологию, необходимую этому нашему сумрачному политику-мегаломану, стремящемуся к мумификации и угрожающему всему простому и человеческому.
Думаю, что все сидящие тут лауреаты премии так или иначе являются носителями этого незаконного духа, сумевшего сберечь себя и сохранить свои качества наперекор всему.
И тем спасти образ нашего маленького дворика перед внешним миром, который приходит в этот дворик посредством технологии и создает в нем всеохватывающую сутолоку.
Мы сохранили себя вопреки идеологии. И вопреки тирании однопартийной системы, некоторые сдвиги в общественном сознании все-таки произошли.
Властвующая идеология широко отворила двери югославского катаклизма, и ведет нас и дальше на дно пропасти.
Если носители этого, во всех смыслах провалившегося проекта, не отступят, не сделают шаг в сторону, уступив свое место патриотам с каким-либо гуманистическим, перспективным политическим видением, мы уже завтра будем спрашивать себя, какую же это на самом деле награду мы принимаем?»
Пока я все это зачитывал, чувствовалось, что я говорю совсем не то, что ожидали присутствующие в СИВе. После церемонии награждения, на ужине в Доме Писателя, тетка Биба поведала Майе важные сведения из истории нашей семьи. Не отрывая глаз смотрела она, как на другом конце стола я наблюдал за словесной дуэлью между Момо Капором и Душко Ковачевичем. Душко привлек мое внимание безумными событиями в его драмах, а Момо был моим кумиром поп-арта. В разговоре между ними Момо выражал недовольство тем, что некоторые члены Сербской Академии Науки и Искусств ведут себя аморально и, вопреки факту, что изменяют своим женам и содержат любовниц, «не могут по-человечески с ними развестись». Биба не скрывала радости о того, что ее племянник преуспел в жизни и благодаря моим трудам имя Кустурица стало узнаваемым, что прославило, помимо всего прочего, и ее саму. Больше всего тетку Бибу радовало, что она, в определенный момент своей жизни, смогла сохранить нашу семью:
— Раз уж не получилось сохранить свою, почему б не помочь сохранить семью моего брата — сказала она Майе и рассказала историю из ранних семидесятых, когда отец влюбился в некую блондинку из Загреба:
— Было у меня тогда достаточно сил, чтобы предотвратить семейную катастрофу! Никак не годилось, чтобы мой Эмир вырос без отца! А мой брат был по уши влюблен в ту загребчанку. Сенка не знала, о ком именно идет речь, но находила в чемоданах и одежде разные предметы, которые та прошмандовка нарочно оставляла, чтобы добиться своей цели и рассорить супругов. Сенка сообщила мне, какие драматичные вещи происходят в муратовой жизни! Я приоделась получше и села на поезд в Сараево. Нагрянула в их квартирку, посмотрела на депрессивную Сенку, которая, бедолага, молча глядела на кухонный линолеум! Эмир играет где-то в Горице, а она все повторяет и повторяет: «Кто же его, моя Биба, спасет и вернет мою жизнь назад с неверного пути? Половина его друзей сидят уже по тюрьмам и исправительным заведениям! Он меня любит, прямо обожает, но совсем не слушает, боже его упаси!» — Принарядилась я, и в Союзный Секретариат, тук-тук в двери, к одному старому приятелю из партизан. Он был большой шишкой в Союзном УДБ. Говорю ему: «Товарищ, спасай! Брат влюбился в одну загребчанку, хочет из-за этой курвы оставить жену, ребенка и уехать за ней на дипломатическую службу». Этот товарищ Мурата лично знал, пошел и проверил, о ком идет речь. Скоро вернулся: «Это непростая птица, она двойной агент, работает и на нас и на немцев. Ей мы ничего сделать не можем, а муратовой семье можно помочь. Не о чем, Биба, не беспокойся!». Муратов план использовать познания в области дипломатии провалился, консулом в Бонне он не стал, а загребчанка быстренько нашла себе другого и вышла замуж, и так наша семья была спасена от гибели.
Биба никогда не рассказывала эту историю моей маме.
Когда мы входили в теразийскую квартиру, тетка открыла несколько засовов на дверях и повторила рефрен их борьбы с Любомиром Райнвайном. В надежде, что он услышит:
— И славенкину гармошку утащили, немчура проклятая, этого вам никогда не прощу, ничего у вас святого нет!
Заметно было, что тетке недостает какого-нибудь ответа от ее бывшего мужа. Совсем в другом тоне шепотом она посоветовала нам с Майей:
— Детки, не стоит возвращаться домой поздно, кто знает, что может натворить этот немецкий злодей!
— Тетка, Райнвайны австрийцы, а не немцы, — попытался я заключить на ночь перемирие.
— Все они одинаковые, мой Эмир, не знаешь ты их!
Мы согласились с нелогичным теткиным предположением, и по телевизору в тот вечер была прямая трансляция краха Чаушеску в Румынии. Этот человек никогда не был мне симпатичен, и более того, был отвратителен. И он, и его жена. И все же, когда «революционеры» поставили их к стенке и расстреляли, мы с Майей были потрясены.
Спали мы в гостиной, разложив тахту. На матрасе, которому было больше тридцати лет, еще с времен, когда тетка жила со Славко Комарицей и работала в консульстве в Швейцарии. Каждое движение этой ночью запомнилось мне своей болезненностью, как мысль о тяжелой судьбе моей тетки вместе с физической болью от пружин матраса.
Где мое место в этой истории?
В тысяча девятьсот девяносто втором году умер мой отец.
В том же году распалась Югославия и, на следующий день после отделения Хорватии, новости на Первом Канале французского телевидения начались фразой: «La Yougoslavie n'existe plus ».
Мы с Майей, Дуней и Стрибором после двух лет жизни в Америке вернулись в Европу с желанием жить на два дома: в Югославии и Франции — стране, в которой после Первой Мировой войны в Версале была создана Югославия. Тем более огорчило нас то, с каким подчеркнутым энтузиазмом дикторша французского телевидения провозгласила эту печальную новость, означавшую, что теперь придется нам жить только во Франции — но теперь это уже будет страна, принявшая участие в уничтожении Югославии. Была ли это акция Ватикана и Германии, а в конце и США? Когда-нибудь мы это узнаем. Правда, тогда эти сведения будут никому не нужны.
Перед самым распадом СФРЮ, в феврале тысяча девятьсот девяносто второго, мы с Джонни Деппом приехали в Сараево, с желанием попытаться устроить на Яхорине кинофестиваль, что-то вроде белградского ФЕСТа.
— Какой еще фестиваль, Боже ты мой, уноси отсюда ноги поскорей! — говорила мне мама.
Казалось мне, что зима, снег и Джонни Депп станут вескими доводами за эту акцию. В холодной канцелярии Министерства Культуры Республики Боснии и Герцеговины мы ждали так долго, что у Джонни поднялась температура. Министр культуры, небезызвестный доктор Хасич, в конце концов появился и протянул нам свою безжизненную руку. На Джонни он смотрел с недоумением, думая, что это кто-то из моих цыган.
— Яхорина для фестиваля не подойдет, лучше на Белашнице, на Яхорине публику не собрать!
Министр имел в виду, что на Белашнице живут мусульмане. Конечно, с фестивалем не получилось. Через два месяца началась война и министр дал деру в Швецию.
Наша с Джонни дружба возникла на самом пике распада Югославии. Съемки фильма «Arizona Dream » начались одновременно с прелюдиями к этим событиям. «Црвена Звезда» стала чемпионом Европы по футболу, и в Сараево Сеад Сушич, брат легендарного Сафета, ругался на Башчаршии с лавочниками, не скрывавшими, как ненавидят они «Звезду» и все, с чем она у них ассоциируется.
— Долбаные четники! — бурчали сараевские торгаши.
А по селам во время сербских свадеб вошло в обыкновение по дороге на венчание рисовать на мечетях кресты.
В начале съемок «Arizona dream » я, как обычно, впал в депрессию. И то, что мне удалось выбраться из этого мучительного состояния — заслуга Джонни. Подобно храбрецам Дикого Запада, он, когда было нужно, действовал без промедления. Точно так же не медлили и горицкие цыгане, которые во время своего нелегкого взросления всегда помогали друг другу, чем только могли. Помогая мне, Джонни рисковал большим, чем мои индейцы. Горицким цыганам терять было нечего, а Депп как раз находился в самом начале пути к тому, чтобы стать самой дорогостоящей голливудской звездой. Чтоб дать мне больше времени, он внезапно инсценировал желудочное недомогание и тем обеспечил семь лишних дней съемок. Эта отсрочка, как я совершенно уверен, сделала возможным благополучное завершение фильма «Arizona Dream ». Мне так и не удалось справиться со своей подавленностью. Из-за нее мне приходилось часто бросать работу над фильмом и в конце концов я даже сбежал со съемок. За мной была организована погоня, возможно, самая серьезная в истории кино. Страховые компании, кинопродюсеры, психиатры, все они искали меня и добрались даже до Сараево и Черногории. И все это время Джонни ждал, отклоняя все предложения других режиссеров. Очевидно, он был убежден, что автору «Времени цыган» надо дать возможность совладать с психологическим кризисом. В конце концов, фильм был закончен и даже получил в Берлине «Серебряного медведя» за режиссуру. Во Франции и Италии он прошел с успехом. Позже, когда Джонни сделал блестящую карьеру, я был счастлив за него.
Редко случается, чтобы король Голливуда вел себя как индеец с Горицы, а не американец из Кентукки.
Конец февраля всегда был в Сараево самым холодным временем. Жуткий колотун, говорила моя мама. Ньего, Труман, братья Зимичи — Авдо и Белый, Зоран Билан, Чука, Слачо, Рака Евтич и Злая Мулабдич жарили шашлык в саду кафаны «Шеталиште». Был тут и доктор Карайлич. Принес он с собой мегафон с усилителем, чтобы поднявшийся против неправды свободолюбивый голос был слышен лучше. Паша присоединился к ним позже, после обычной воскресной прогулки со своей женой Цуной. Перед перед тем, как выйти из дома, он заставлял ее одеть самые тесные брюки, из которых ее выпирали особенно рельефно. После чего они шли вместе от Свракина Села до Мариина Двора, где у них был лавка бижутерии. Прогулка эта была не обычным сараевским променадом бесцельно бродящих в обнимку парочек. Цуна шагала впереди, а он, приотстав, зыркал глазами по сторонам направо-налево, будто пес, всегда готовый с кем-нибудь сцепиться. Ждал он, когда кто-то скажет Цуне гадость. Когда это происходило, Паша реагировал мгновенно и нокаутировал несчастного, а бывало, что и муж с женой, Паша с Цуной, вместе колошматили похотливого горожанина, воспламененного здоровенной, объемной задницей.
Кафана «Шеталиште» была первой и последней пристанью, объединявшей моих друзей, которые собирались здесь, будто корабли в гавани. Теперь-то их разметало новыми, незнакомыми ветрами и бурями. Разбросаны они так же далеко, как далеко распалась Югославия, причем еще до самого этого события, став жертвой политических дрязг и разрушительных радиоголосов. Чаще всего без всякого образования, без работы, с разрушенными семьями, они все же были довольны жизнью. Некоторые из них уже лечились от алкоголизма, один умер из-за героина, многие рожали детей, были и разведенные, и мало кто добился обеспеченности своих родителей, поколения Тито. Больше всего времени проводили они в кафане «Шеталиште», которую сейчас хотели у них отнять!
На первых демократических выборах мусульмане, хорваты и сербы раздавили нас, горожан, веривших, что на Балканах можно оставаться просто гражданином. И мы проиграли, народ Боснии выбрал национальные политические партии, что стало кратчайшим путем к войне. В результате выборов реформисты Марковича, которых поддерживали мы, партизанские дети, потерпели полное поражение, причем кого ни спроси, все клялись, что уж они-то голосовали именно за Марковича. На самом деле, они просто боялись сказать, в какую сторону повело их сердце, страх Госбезопасности и тех новых национальных лидеров, которые представляли собой будущее Боснии и Герцеговины. Один только работник коммунального хозяйства из Пале, в разговоре в «Шеталиште», за выпивкой, был совершенно честен. Я спросил его:
— А ты за кого голосовал, Вукота?
И он ответил:
— Братишка, зашел я в эту их кабинку, и рука потянулась было обвести реформистов, Кецмановича и Сидрана, но сердце распорядилось по другому и ручка дернулась в сторону. Обвел я Караджича.
Жизнь при демократии нанесла новые раны, а старые не смогла исцелить. Напряженность стала повсеместной, и среди голосовавших, и тех, кто политикой не интересовался. А люди есть люди. Привыкают они ко всему и потом взлезают в это по самое горло. Сербы ни в какую не хотели отделения от Югославии, мусульмане, как самые многочисленные в Боснии, считали, что республика принадлежит им. К их сожалению, в такой республике не хотели жить ни сербы, ни хорваты, что сильно напоминало ту самую Югославию, из которой они хотели выбраться. Подходящая ситуация, чтобы появился кто-то со стороны и решил все их проблемы. Война уже зверствовала в Хорватии. Большинство в Сараево верило, что «уж здесь-то точно войны не будет, братишка, такое у нас не прокатит!»
Не знал я еще, как войны стучатся в двери домов. Но вот одну встречу, в тысяча девятьсот девяностом, ощутил я как первую ласточку военных действий. Некий Омерович из Горного Високо подошел, когда я покупал на рынке лепешки.
— Ты ведь друг Вампы, так?
Я вспомнил, что речь идет об одном паршивце, державшем кафану в центре Високо и похожем на вампира, сильно потрепанного самогонкой.
— Да, — ответил я, и тогда он сказал таким конспиративным голосом:
— Говорил мне Вампа, что тебя занимают кое-какие игрушки, которые и я собираю.
Удивленно смотрел я на него, а он шепнул:
— Калашниковы, брателло, у меня их столько, что хоть частокол городи.
Этот Омерович повел меня к себе домой и мы полезли в подвал, где, под армейским брезентом, лежал десяток деревянных ящиков с автоматическим оружием. Этот человек отвратной внешности вовсе не шутил.
— Отпиздим мы их всех, когда потребуется. Всем им задницу надерем, и четникам и усташам.
— Как накоплю денег, дам знать через Вампу, — сказал я, когда мы выбрались из затхлого боснийского подвала.
— Брателло, мы ж свои люди, отдам их тебе по сто пятьдесят марок за штуку. Сейчас их по триста продают, так что смотри, — говорил Омерович, выходя из своего двора, и еще добавил:
— Негде тебе такого товара не найти, братан. Только не говори никому! Неважно, какой мы веры, главное, что мусульмане, ха, ха, ха!
— Как встречу Вампу, сообщу тебе. Когда заплатят мне за фильм, тогда все и обсудим, — сказал я, не имея никакого желания снова попадать в этот дом, и в тревожном настроении поспешил домой.
Единственным местом в Сараево, где разговоры о войне теряли свою серьезность и казались не такими опасными, была как раз кафана «Шеталиште». К этой теме постоянные посетители относились так, как плохой студент, не желающий признаться себе в том, что провалится завтра на экзамене. Не провел он за книгой ни минуты, но, несмотря на это, решил завтра взглянуть в глаза профессору и, ничего не зная, как-нибудь проскочить! Война никоим образом не подлежала серьезному рассмотрению в «Шеталиште». Пьяный посетитель из поколения постарше говорил:
— Да че вы все зассали-то! Испокон веков люди воюют и ебутся, а я не могу ни того ни другого, так хоть погляжу!
— На что поглядишь-то, на первое или второе?
— На что угодно, без разницы, сидишь себе и смотришь войну, поллитровка на столе, возьмешь к ней колбасок, травницкого сыра, и веселись душа!
Кафана «Шеталиште» была собственностью обанкротившегося предприятия общепита «Балканы», но пройдохи из числа богатых торгашей уже видели этот объект своей собственностью. Но мои друзья детства не были с этим согласны. Ни у кого из них не было денег выкупить эту кафану, но они не могли позволить оптовому торговцу овощами-фруктами и бывшему полицейскому Делимустафичу купить «Шеталиште» и тем самым лишить их места тусовки.
В позабытом мангале едва дымил изредка раздуваемый ветерком древесный уголь. Шипел капающий с шампуров жир. Мои товарищи держали в руках транспаранты: «НЕ ОТДАДИМ КАФАНУ! ДОЛОЙ КАПИТАЛИСТОВ! ВОРЫ, РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШЕГО МЕСТА!». Все это растрогало Джонни Деппа и привлекло камеры Телевидения Сараево.
— What a proud people, — сказал чувствительный художник Джонни. — They fight for their bar, I have never seen it in my life.
Мы были вроде узников чеховской драмы, у которых малейшая возможность перемен вызывают страх и паралич. Одержимы они этим страхом, как мучительным сном, не позволяет он им войти в новую жизнь и проснуться в каком-нибудь новом времени и даже, может быть, месте.
Этой довольно необычной забастовке предшествовало посещение возмущенных завсегдатаев кафаны «Шеталиште» градоначальником Сараева, господином Мухамедом Крешевляковичем. Встречу эту организовал политик, борец за права человека и дипломат Срджан Диздаревич. Встреча была начата словами самого старого завсегдатая кафаны, господина Йозо Франчевича. Он начал без околичностей:
— Господин градоначальник, чтобы сразу расставить вещи по местам: я вовсе не пьяница, но я человек этой кафаны и потому решительно утверждаю, что мы, постоянные посетители «Шеталишта», никогда не откажемся от прав на нашу кафану!
Градоначальник никак не мог взять в толк, о каких правах говорит господин Франчевич. Эту проблему, как и многие другие не имеющие решения проблемы города Сараево, он видел, но не трудился над попыткой ее понять. Видимо, никогда в истории человечества не существовало права на кафану, основанного на сидении в ней целый день посетителей? Крешевлякович хотел выказать свое расположение и спросил посетителей и кафанских бунтарей:
— Что будете пить, господа? — и Йозо Франчевич сказал:
— Двойную виноградную, если можно, чтобы девчонку два раза не гонять.
Общение с прохожими было специальностью моих друзей из «Шеталишта». Апплодисментами встречали они появление перед кафанским двориком красивых девушек, а те, кто постарше провожали их словами:
— А не хочет ли соседушка завернуть на чашечку кофе, сока, или может какого-нибудь деликатного алкоголя, скажем, ликерчика?
Воодушевленные присутствием уважаемого гостя, они стали соревноваться в дурости и остроумии, во много раз превосходящими обычный уровень их дурачества. Когда какой-то замотанный в шарф человек промчался мимо на мотоцикле, один из чревовещателей, кажется, это был Чука, сначала изобразил скрежет тормоза, а потом крикнул:
— Эй, земляк! — бедный мотоциклист обернулся, мотоцикл повело в сторону и он улетел в кусты, и там врезался в дерево. Смеху и радости не было конца. В руках смеющегося Деппа уже была жареная колбаска, а ракию ему налил мой кум Зоран Билан, здоровенный детина, предложивший:
— А ну, американец, выпьем по одной!
Замерзшему Джонни я отдал свою куртку «ХТЗ». После шашлыков в «Шеталиште» мы отправились обедать на улицу Кати Говорушич 9а. Отец накормил нас боснийским жарким и во время обеда разговаривал с Джонни на английском. Это было облегчением для нашего гостя, вынужденного часами оставаться актером немого кино. И опять, после обеда я не стал спрашивать, не хочет ли он остаться в квартире родителей и отдохнуть, а потащил его на встречу с паркетчиком на улицу Петра Прерадовича 1. Было ли уместно приводить своего гостя в ремонтируемую квартиру? Вероятно, нет, но мою неутолимую потребность делить хорошее с приятными людьми не смогла пресечь даже Сенка. Так, позже я заметил, что и Дуня со Стрибором, увидев какой-нибудь хороший фильм или удачную сценку, не могут удержаться, не поделившись этим с близкими людьми.
Во время обеда Сенка спрашивала меня:
— Ты чего мучаешь Джонни? Дай ему, наконец, выспаться, пусть отдохнет хорошенько.
В гостиной Джонни изумленно рассматривал обернутый пленкой китайский ковер под столом, я рассмеялся и объяснил:
— Так моя мама борется против легкой и быстрой порчи дорогих вещей.
Джонни сказал:
— Wow .
И мы поехали на мою новую квартиру. Дыханием грели мы замершие руки, и Джонни расхаживал по просторным комнатам и говорил:
— Great, man, really great — пока я обсуждал укладку паркета с каким-то человеком. Договоренность была достигнута, я выпроводил паркетчика и стал любоваться зрелищем, которое всегда мне было по душе. Лучшее в переездах, которых было так много на моем веку, это все эти сваленные в кучу неразобранные вещи, разбросанные по пустым пространствам. Когда из картонных коробок, ящиков и покосившихся шкафов вываливаются вещи и смотрят человеку прямо в глаза и, пока к ним не прикоснешься, кажется, будто видишь их впервые. То же и с фотографиями, скопившимися в обувных коробках и, когда проживешь на свете достаточно долго, их становится больше, чем нужно. Потянешься за одной, второй, а они выскользнут из рук и разлетятся во все стороны, убегут как события, исчезающие или скрывшиеся уже в коридорах забвения. Очень волнующа эта встреча с желанным беспорядком, и все бы ничего, не будь человек будто проклят. Стоит ему решить, что не хочет он больше видеть этих вещей, как они, словно перемещенные неведомой силой, возвращаются и постоянно попадаются на глаза. Поневоле пожалеешь, что не выбросил их вовремя.
Титульный лист газеты «Vox », на ней карикатура с Иво Андричем, насаженным на авторучку, будто на кол. Джонни нагнулся над этим рисунком и сказал:
— It looks like commercial add for horror movie?
Ничего не ответил я ему, но подумал, что появление этого рисунка является подтверждением шутки нашей соседки Велинки. Только теперь это было не смешное происшествие, когда толстозадая тетка грохнулась со стула и, чтобы отвлечь внимание, сказала:
— … стоит от боснийской трехногой табуретки оторвать одну ножку, все катится к чертовой бабушке.
Сейчас это был уже удар молотком по общему миру, разрушение общего боснийского здания.
— This guy is our Nobel Prize writer.
Джонни спросил, зачем тогда нобелевского лауреата кто-то насадил на авторучку?
— Why they treated him like this?
Нелегко было мне собраться с расползающимися мыслями, чье состояние полностью соответствовало состоянию вещей в квартире, которое мне, впрочем, нравилось именно таким. Когда мысли, наконец, застыли в разных отделах моего мозга, мне стало легче с ними справиться, и не составило уже труда объяснить, кем был этот нобелевский лауреат и почему он насажен на перо:
— Этот рисунок отсылает нас к суровому началу романа «Мост на Дрине», в котором главный герой, Радисав, посажен на кол. По ночам он разрушал то, что строители возводили в течение дня. Постройка моста не продвигалась и, в конце концов, Радисава поймали и посадили на кол. Все это происходило во время оттоманского владычества на Балканах, а строительство моста финансировал Мехмед-паша Соколович, некогда серб, а теперь знатный гражданин Турции, богач и полководец. Мост он строил во исполнение обета. Описание казни Радисава на колу представляет собой самые страшные натуралистические страницы, написанные в нашей литературе. Андрич — мой герой, хорват по рождению, серб по мироощущению, перешедший на сторону, претерпевшую бед как никто другой на Балканах. Писателем он был превосходным, вроде Томаса Манна, а когда у такого маленького народа есть столь величественная фигура, это означает что он хоть в чем-то равноправен своим великим европейским братьям. В его бурной биографии, помимо прочего, значится еще и членство в «Молодой Боснии», организовавшей в Сараево покушение на престолонаследника, хотя прямо замешан в этом заговоре Андрич не был. Докторскую степень получил он в Вене, и эта его докторская диссертация стала одним из источников ненависти, которой распаляют себя боснийские мусульмане. Помимо прочего, в ней было написано, что духовная жизнь во времена турецкой оккупации Боснии развивалась только в православных монастырях. Андрич был послом Королевства Югославии. Тито его не любил, но и не тронул, оставив ему место в югославской литературе. Никто лучше его не знал тогдашних людей и не достиг андричевых высот в демистификации балканцев. Он один полностью осознавал этот драматичный треугольник: ислам, католицизм, православие, в котором объекты любви, как писал он, находились далеко, а ненависти — близко. Мусульмане смотрели на Стамбул, сербы — на Москву, а хорваты на Ватикан. Там находилось то, что они любили, а ненавидимое было вот здесь, между ними. В общем, это был гений.
— And this magazine, where does it come from?
— Это пришло к нам с демократией. Делается это, чтобы воспитать тех, у кого имена и фамилии мусульманские. Считают эти «воспитатели», что так они изгоняют тех, кого считают заблудшими овцами. Постоянно нападали они на Сидрана, автора сценария двух моих первых фильмов. Посаженный на кол нобелевский лауреат — это напоминание Сидрану, что он закончит так же, если не перестанет есть свинину. И со мной они пытались проделать такое. Сидрана в конце концов заставили замолчать, а со мной у них не получилось, из-за природных свойств характера и потому еще, что я больше здесь не живу. «Vox » еще перед выборами объявил, что сербы будут жить в Мусульмании как граждане второго сорта. «Остроумие» этих юношей вызвало улыбку на лице президента Боснии, Алии Изетбеговича.
— You can not call it funny!
— И мне непонятно, что такого остроумного в утверждении, что принадлежащий к другой вере и народу в новоиспеченном государстве должен стать гражданином второго сорта.
— It’s scary, man!
— Президент Изетбегович с этим «VOX»-ом и насаженным на перо Андричем снимался во время предвыборной компании, держа этот номер газеты в руках, и с улыбкой говорил: «Симпатично шутят молодые люди…!»
А мне вот интересно, понравятся ли эти милые шуточки, скажем, капитанам, полковникам, генералам ЮНА. Потому что, если даже какой-то торговец оружием Омерович продавал калашниковы, сюсюкая с ними будто с младенцами, можно себе представить, какие нежности сербские генералы и воины говорили своим пушкам, танкам и бомбам. И всему тому оружию, которое у них еще появится. А добра этого хватает, потому что СФРЮ была на четвертом в мире месте по производству оружия.
— I did not know you have such a big production of weapons!?
— Me neither. I was just told this a few weeks ago!
Варил я кофе, рассматривал разбросанные вещи, и свет неожиданного зимнего солнца заполнял гостиную. Джонни пересмотрел сотни фотографий, которые все время выскальзывали у него из рук, а он все собирал и возился с ними, поминутно спрашивая:
— А на этой фотке кто?
Свет и присутствие Джонни усиливали ощущение простора и уютности квартиры. Особенно красивыми были окна на юг и восток. На юге с отвесного склона впадал в Миляцку Требевич, а с другой стороны открывался огромный простор парка, за которым были видны православная церковь и слева от нее кафедральный собор. Сахат-кула было невидна, зато ее хорошо было слышно. Перед нами простирался вид, делавший Сараево похожим на европейские ренессансные города. Действительно, прелесть этой квартиры и ее окрестностей были так притягательны, что вводили в искушение начать заново жизнь в родном городе, хотя мои друзья в один голос твердили, что глупо возвращаться из Америки в страну, про которую ЦРУ объявило, что она вступает в военные времена. Как, видимо, все же коротка жизнь, если человек вытесняет из нее саму идею войны, ради других, лучших ожиданий. Потому что будь иначе, вся планета должна была бы переселиться в Америку, где войны нет. Или, весь мир стать Америкой. А если войны удастся избежать, что ж, и нам тогда будет на всех наплевать, как американцам? И все же люди авантюристы:
— Честно тебе скажу, лучше уж стараться уберечься от гранаты, чем сдохнуть от одиночества в Мамаронеке, — сказала мне Майя.
Жизни в Вестчестере, штат Нью-Йорк она предпочитала возвращение в родные края. Была мне близка майина идея, согласно которой американское одиночество, не считая самых абсурдных его разновидностей, описанных в карверовских историях, куда больший психический стресс, чем жизнь, в которой может произойти что угодно, в том числе если во время войны кто-нибудь постучится в двери и выстрелит тебе в голову.
Смотрел я в окно квартиры на парад персонажей из андричевых книг. С той разницей, что на этот раз без трогательных сцен совместной жизни и дружбы. Не было тут, как в «Шеталиште», душевности и теплоты, способных согреть все население Сараево. Под этим окном, благодаря соседству с издательством «Светлость», проходил парад представителей боснийской элиты, тех, кого я называл — Умниками. У всех трех наших народов имелись свои умники и, вообще-то, именно их задачей должно было стать доказательство того, что Андрич неправ, считая, что любови трех конфессий находятся далеко, а ненависть — под носом. Теперь эти умники разрывались между прошлым, откуда они были родом, и новыми временами, принесшими как демократию, так и национализм. Деятельность умников в новоиспеченной национальной демократии должна была стать спасением и способом преодоления войны.
Поэты, рецензенты, редакторы, академики, дикторы, певцы, сочинители популярной музыки никогда не имели в Сараево влияния, сравнимого с влиянием простодушных лавочников, ходжей, попов и мясников. Никогда их творческие союзы и академии по силе и авторитету не достигали мощи воздействия блистательных религиозных обрядов в мечетях и церквях, в которых успешно действовали попы и ходжи.
Смотрел я на умников, ошивающихся у бронзовых бюстов в скверике на улице Петра Прерадовича. Сидят они, курят, разглядывают бюсты Андрича, Селимовича, Куленовича, Чочича и думают: «А будет ли и мне место в этой истории?»
Представляют себе собственные памятники, которые по меркам новых, неумолимо наступающих времен, смогли бы достойно заменить «обветшавших» исполинов. И большая часть работы ими уже проделана. Много лет подряд работали они ради собственного возвышения. Подготовили уже опалубку для фундаментов этих памятников — осталось лишь залить бетон. Опалубку строили за счет уже распавшейся титовской Югославии, а бетон надо б оплатить за счет националистов. Немного удачи, и бронзовые бюсты будут им заказаны, и славные писатели станут смотреть на сараевцев бронзовыми очами.
Перелом произошел в момент, когда в своих издательских советах, союзах и Бог знает каких еще «общественно-политических чудесах» они начали служить своими талантами новой системе. Единственным, чего им не доставало, были, собственно, произведения. В основном они были графоманами, рассматривавшими пришедшие смутные времена как шанс добиться статуса и ублажить свои слабые, болезненные души успехом любой ценой. Даже ценой войны. И неважно, в какой роли: требовалось ли сыграть жертву, или преступника, не имело значения. Главное, действовать по схемам, удовлетворяющим критериям «истины и цивилизационных целей». В чем главное значение имела их «человечность», а Иво Андрича при этом называли они «человеческим дерьмом» (да простится мне это цитирование)! Походя они снисходительно, любуясь собственной «человечностью», признавали, что он великий художник. Утверждая, что во времена слома ценностей, на войне, на улице, лучше быть хорошим человеком, чем хорошим художником. Что, опять-таки, было очень удобно для достижения, через оскорбление великого художника, своих собственных целей. Чтобы потом можно было говорить:
— А вся эта его литература, если хорошенько поразмыслить, так и вообще не Бог весть что.
Так и не добившись ничего ни в жизни ни в литературе, без каких-либо успехов в творчестве, с его переменами, драмами и неожиданными поворотами событий, они запутались в хитросплетениях собственной аморальности, которую они, непонятно почему, назвали моралью. Их творения оценили лишь голодающие сараевские мыши и крысы, привыкшие к грудам нераспроданной объемной писанины, быстро оказывавшейся в подвалах издательств. И эти-то люди, вызывающие интерес только у изголодавшихся мышей, смели называть негодяем нобелевского лауреата! Снова все сводилось к вопросу, заданному пройдохой Керой:
— Где в этой истории место для меня?
Ответ, в случае умников, был простым:
— Нигде!
Пещерный нарциссизм этих людей парализовал всякую возможность межнационального согласия, а их общественная деятельность убивала надежду и веру в будущее.
Когда мы с Джонни покидали квартиру на улице Петра Прерадовича 1, в одном из сундуков я увидел пачку собрания сочинений Андрича. Надеялся я, что там окажутся «Травницкая хроника» и «Мост на Дрине», чтобы подарить их Джонни, но нашел только английский перевод «Барышни» и сказал ему:
— This is not the best what he has done, but anyway — и предложил прочитать ему отрывок. — Вот что мой литературный и философский кумир писал о сараевской черни перед началом первой мировой войны:
— I am afraid this could happen again, — добавил я после минутного молчания.
«… Нужны вот такие дни, чтоб увидеть, кем населен город, рассыпанный, словно горсть зерна, по крутым скатам окрестных гор и в долине около реки. Нужно случиться событию, подобному вчерашнему, или хотя бы и менее значительному, чтоб обнажилось все, что скрыто в людях, которые обычно работают, бездельничают или нищенствуют на крутых и кривых улочках, напоминающих водомоины. Как во всяком восточном городе, в Сараеве была своя нищенствующая голытьба, то есть тот сброд, который, по видимости акклиматизировавшись, десятки лет живет тихо и обособленно, но который при определенных обстоятельствах согласно законам некоей неведомой общественной химии внезапно объединяется и вспыхивает, как затаившийся вулкан, изрыгая пламя и грязную лаву самых низменных страстей и нездоровых желаний. Этот люмпен-пролетариат и голодные городские низы составляют люди, которых отличают друг от друга верования, привычки и одежда, но объединяют врожденная вероломная жестокость, дикие и низменные инстинкты. Приверженцы трех главных религий, они с рождения и до самой смерти живут в постоянной взаимной вражде, вражде безрассудной и глубокой, перенося свою ненависть и в загробный мир, который видится им в блеске собственной победы и славы и постыдного поражения соседей-иноверцев. Они рождаются, растут и умирают с этой ненавистью, с этим чисто физическим отвращением к людям другой веры; но часто жизнь проходит, а им так и не представляется случая излить свою ненависть во всей ее ужасающей силе. Однако стоит какому-нибудь крупному событию поколебать установленный порядок вещей и на несколько часов или несколько дней прекратить действие закона и разума, как этот сброд, вернее, часть его, найдя наконец подходящий повод, заполняет город, известный своей утонченной вежливостью и сладкоречием. Долго сдерживаемая ненависть и затаенное стремление к насилию и разрушению, которые до сих пор владели только чувствами и мыслями, выбиваются на поверхность и, словно огонь, долго тлевший и наконец получивший пищу, завладевают улицами, плюют, измываются, крушат до тех пор, пока их не сломит более мощная сила или пока они не перегорят и не ослабеют от собственного бешенства. Затем они снова уползают, поджав хвосты, как шакалы, в души, дома и улицы, где, притаившись, снова годами живут, прорываясь лишь во взглядах, брани и непристойных жестах»
— Amazing, if this represents the worst, what could be the best?
— This, — показал ему я на «Травницкую хронику», «Мост на Дрине» и «Проклятый двор» на сербском, и добавил, показывая на «Знаки у дороги»:
— But this, if there is another world up there, I would send them this to study. This is the best example of painful history of human kind.
Когда мы выходили в сараевский сумрак, в котором смог овладевает ноздрями, во мне еще звучали эти андричевы слова из «Барышни», и я вдруг испугался, что сила этой толпы из книги, ее разрушительная мощь, овладеет Боснией. Когда я читал Джонни строчки из «Барышни», я не ожидал, что он поймет их. Не знаю, почему. Скорее всего, мною владело укоренившееся провинциальное заблуждение, что иностранцы не могут понять наши проблемы. Между тем иностранцы, как видим мы на примере Джонни, способны оценить гений великого художника. Главное, есть ли иностранцам смысл понимать нас, хочется ли им этого.
В «Барышне» Андрич описал ту самую руку, которая, уже после его физической смерти подымется, чтобы уничтожить его памятник.
Вскоре после насаживания на ручку в «Vox»-е, нобелевский лауреат пострадал и в Вышеграде. Там был разрушен его памятник, стоявший между мостом и городской гимназией. Совершил это некий Мурат Шабанович. Это был тот самый типаж, описанный в «Барышне», возникающий во времена больших боснийских перемен, только одетый по другому. Тут уж и я начал задавать себе вопрос прощелыги Керы:
— И где теперь в этой истории место для меня?
Мертвому Андричу снесли памятник, что же тогда они сделают с живым мной, если я не стану согласовывать свое перо с идеями мусульманских умников? Что бы ни произошло, никогда не отречься мне от далматинского сала, копченого на краинских ветрах. Никогда не позабыть, как добывал я свои лошадиные дозы аминокислот намазывая свиной жир на посыпанную красным перцем горбушку. Даже Андрич в своих произведениях не смог предвидеть все поступки своих героев. Интересно, изменилось бы что-нибудь, прочитай Шабанович сначала «Мост на Дрине», решился бы он тогда разрушить памятник? Может, его б так разозлили содержание книги или стиль автора, что он разрушил бы памятник, чтобы выразить свое несогласие с писателем? Понятия не имею. Может, напротив, решив подождать несколько дней и прочитать сначала роман, он покрыл бы потом бюст писателя лаком? А если он ничего андричевского не читал, стоило б применить к нему такую исправительную меру, как принудительное прочтение избранных произведений Андрича! Как бы это на нем сказалось? Может, уже через несколько страниц пережил бы он нервный срыв, дрогнул, как мост, прогибающийся под давлением, когда рассыхается перенапряженный бетон. Второй день чтения довел бы Шабановича до отчаяния:
— Лучше убейте меня, пока я сам себя не убил, невозможно выносить это издевательство, — закричал бы он в животной тоске. А я, как всегда в том, что касается Андрича, остался бы неумолим и не отпустил пациента с лечения, пока он не прочитает все произведения Иво Андрича до последнего.
Дружеские посиделки в сараевских домах вроде тех, что были у нас на улице Кати Говорушич 9а, являлись заметной частью общественной жизни Боснии. Отцовские партизаны-однополчане, сараевская элита, привносили в атмосферу дома свои остроумие и индивидуальность. Титову власть они воспринимали с иронией. С этой же иронией столкнулся и я в Праге, чтобы потом вернуть ее в Сараево, и с помощью сидрановых диалогов, отражавших стереотипы местной жизни, воссоздать мифологию Сараева. В эту мифологию не вписывались те, чья ограниченность позволила не читавшему «Моста над Дриной» человеку разрушить памятник нобелевскому лауреату. Должно быть, все эти умники роились вокруг Изетбеговича, в ожидании и своих пяти минут. Наверное они, так же, как и мы с Неле и Сидраном, брали за основу драмы отцов и переводили их на свой язык, создавая стихи, романы и фильмы. Когда-то я, в качестве наказания за плохие отметки, вынужден был сидеть в гостиной и слушать, как балагурят старшие — а теперь пытался представить себе, как выглядят посиделки, на которых родилась идея разрушения памятника одному из столпов европейской литературы.
… Приезжают Крешевляковичи на дачу к Изетбеговичу. После освежающих безалкогольных напитков, сыновья градоначальника Сараево принимаются озорничать. Алия:
— Бог ты мой, Мухамед, как же выросли Сенад с Сеадом!
— Ох, лучше не напоминай, не трави душу! — отвечает Мухамед.
— Да ладно тебе прибедняться-то, отличные мальчишки, ты посмотри на них, красавцы прямо!
Младшие Крешевляковичи уступают авторитету дяди Алии.
— Да конечно отличные, хорошие ребята, но только не спит шайтан, Боже упаси от бесовского искушения! Как начнут шалить, никак их не остановишь. Ну-ка, что это ты там говоришь соседу Ковачевичу, когда с ним ругаешься?
— Чтоб тебя мама родная в мясном пироге узнала! — говорит первый младший Крешевлякович, а второй добавляет:
— По глазам!
— А и впрямь, раз может этот Неле Янкович рассмешить целую Югу36, почему б и этим твоим не посмешить Боснию? — добавляет дядюшка Алия.
— Да как же они окажутся на телевидении?
— Ну ладно, не обязательно на телевидении, много есть и других средств информации. Отправь их, как закончат школу, учиться — хватит уже у нас в Боснии этим Янковичам играть мусульман и отпускать на наш счет шуточки!
А Крешевляковича долго упрашивать и не понадобилось.
— Похоже, что у нас тут настоящий шедевр, — подумал президент Изетбегович, будто МакЛарен, услышавший первую песню «Секс Пистолс». Младшие Крешевляковичи встретились с Зорни и выполнили пожелание дядюшки Алии, основав газету «Vox», на чьи страницы они выплеснули тонны грубых рисунков, всякого свинства, которым они еженедельно разрушали мирную совместную жизнь в Боснии. Своими вульгарными остротами они хотели сбросить с трона короля сараевского юмора Доктора Карайлича. Пытались они вместо игры со стереотипами и исполнительского мастерства Неле, утонченностью сравнимого с искусством цирковых гимнастов на трапеции, создать новый тип остроумия. Эта эстетика, возникшая среди интеллигентов-умников, накликала бурю, хотя пока еще не овладела первой линией средств массовой информации. Умники еще не успели закрепиться на телевидении и в популярных газетах.
Хотелось мне, чтобы Джонни познакомился с тайной красотой сараевской жизни. Для этого повел я его в гости к моему приятелю Младену Материчу.
Когда Младен поставил на проигрыватель «Дуал» пластинку Лу Рида, Джонни мог прочитать в моих глазах восхищение и радость, которые, я уверен, ему было трудно связать с Лу Ридом. Ведь для него слушать «Take a walk on a wild side » было делом совершенно обычным. А я все время повторял:
— Did you see it?
Он не понимал, в чем дело.
— What do you mean?
— My friends, they like Lou Reed.
— А что в этом такого? — подумал Джонни и вслух сказал:
— Yes, man, great people.
Не догадывался он, что эти минуты в доме Младена были прекраснейшим, что можно понять о Сараево. Вот это вот непринужденное перетекание Запада и Востока, эта притягательная смесь стремящихся друг к другу сторон света, стирающая грань между ренессансным разумом и меланхоличной восточной духовностью. Эта лирическая волна, различимая в песнях Заима Имамовича, захлестнула и театральные постановки Младена, и мои фильмы, и наши мысли. А склонность к бесконечному распиванию турецкого кофе грозила Младену тем, что он так и встретит свою семидесятую годовщину в этой соблазнительной восточной позе, развалившись на подушках, в кофейне на Авде. Раскурив свернутый Младеном косяк, чувствуешь Сараево местом чистого кайфа. Даже Скерличева улица начинала казаться не таким уж плохим местом. Крутая, зимой опасно скользкая, мрачная, стиснутая жилыми домами средней высоты. Когда выпадал первый снег, асфальт прихватывало ледком, машины начинало заносить и они постоянно бились друг о друга. Водомоина, превращенная в улицу, как сказал бы Андрич.
Форсировали мы этим вечером косяки, как когда-то партизаны поля, чтобы вдарить по гитлеровцам. Заметно было, что Джонни планокур с опытом. Тогда-то я и увидел стремительно завертевшиеся на обледеневшей улице автомобили и потом все время, как на монтажном столе, перематывал их столкновение назад и рассматривал его снова и снова. Пока мы расслаблялись в гашишном тумане, картинка нашего родного города начала растворяться. Мусорные контейнеры под младеновыми окнами дымились от горящего мусора. Если не обращать внимания на неприятный запах, это зрелище было по своему притягательным. В этой дымке возникали киты, дельфины и другие картинки-призраки, порожденные марихуаной. И иногда на поверхность ее вдруг выныривал Младен с рассказом о скитающихся китах, или мне приходило в голову, что брусника произошла от Брюса Ли. Смеялся Джонни, смеялась Веша. А мне было невероятно смешно, ну как это так я не могу объяснить Джонни, что происходит в моем родном городе. И слова были бесполезны. Даже попытка проговорить то, что ждет нас завтра, оканчивалась смехом. Сначала легким, а потом смехом-истерической реакцией на действительность, которая больше напоминала догадку, чем ощутимую ткань жизни. Каждая попытка справиться со смехом и прийти в себя приводила к новым конвульсиям. После долгого, неостановимого клокотания, только одна вещь осталась у меня в памяти. То, как жаль мне было, что я оказался не в состоянии объяснить Джонни, чем же так необычен этот сараевский дом, в котором слушают Лу Рида и Боб Вилсон — общий кумир.
Пока мы спускались по Скерличевой улице, марихуанное блаженство начало отпускать. Теперь уже этот тайный, блуждающий в крови эликсир вместо того, чтобы вызывать спазмы смеха, сдабривал мозг изрядными дозами паранойи. Показал я Джонни на одно окно и сказал:
— Летом в Сараево жарища адская, и улицы вроде этой пустые. Представь, средь бела дня, эту улицу — и ни души. Когда в прошлом году наступила эта июльская предгрозовая жара, кто-то из жильцов выставил на подоконник проигрыватель и колонки. И зазвучала музыка, которой никто не ожидал. Была это моцартовская «Волшебная флейта», чей звук разлился далеко по призрачно пустынной улице. Ведь люди здесь слушают Моцарта редко, разве что на атеистических похоронах. И когда кто-то на пустой улице слушает Моцарта, это означает, что он хочет освободиться от какого-то громадного напряжения; а не отдаться наслаждению гармонии с космическим порядком, подаренному нам Моцартом.
Похоже, наш гость был впечатлён этой аллегорией грядущей войны, потому что уже на следующий день у Джонни поднялась температура и он не смог встать с постели. То ли его продуло в стылом Министерстве культуры республики Босния и Герцеговина, то ли так нахлобучило Моцартом, грохочущим из окна со всей своей чарующей красотой по пустой сараевской улице, накликая войну. Может, холод пробрал уважаемого гостя до костей, когда он принимал участие в протесте моих приятелей, организовавших забастовку, чтобы капиталисты не отобрали у них навсегда кафану, и это подкосило его иммунитет. Сенка смогла сбить ему температуру своим любимым лекарством. Компрессы с ракией и шиповниковый чай совершили чудо, и Джонни потом много раз вспоминал: «Your mother Senka saved my life, great woman ».
В тот день Джонни остался в постели, а я, в который уже раз, через некоего Миру Пуриватру, чья жена была в родстве с Изетбеговичами, получил приглашение встретиться с президентом Боснии и Герцеговины.
Изетбегович был человеком умиротворяющей внешности. Это впечатление усиливали присутствие беременной снохи и рыжеволосого сына Бакира, с которым мы были знакомы еще со школы. Когда за книгу «Исламская декларация» Алия сидел в тюрьме, мы с Добрицей Чосичем организовали петицию за его освобождение. Это благотворно подействовало на состояние духа находившегося в тюрьме бакирова отца.
— А знаешь, Эмир, мы Изетбеговичи в прошлом были записаны как сербы. Нам Белград ближе Загреба, — сказал Алия, пока его сноха подавала нам кофе с рахат-лукумом.
— Нет, не знал, любопытно, — сказал я, и добавил:
— Все мы смеялись над шутками Чкальи, просто обожали его юмор. Про Нелу Ержишника еще моя мать говорила — «Вот ведь умора!»
— Только вот какая штука, когда видишь, как сербы относятся к албанцам, сразу становится ясно, как мы, мусульмане, чувствовали бы себя в едином государстве?!
Этом он имел в виду договор между мусульманами и сербами, который уже подписал Милошевич и хотел подписать Зульфикарпашич, глава умеренной европейской партии.
— Да, но представьте себя на их месте, им же территория важна, монастыри, лазарев завет37, тут дело-то нешуточное? — сказал я скорей как адвокат Югославии, чем сторонник сербов.
— Да чушь все это, Эмир, сербская пропаганда. А то, что их албанцы вытесняют, так это чисто демографический взрыв, никто ничего специально не планировал.
Изетбегович-сын пытался убедить меня поменять мои твердые убеждения. Бакира Изетбеговича я помнил с гимназии. Там он на перемене вытаскивал с гадливостью из булки сосиску и, с соответствующей гримасой и театральным «тьфу, мерзость!», нес ее через всю столовую в помойку.
Когда его из-за желтовато-рыжих волос звали: «Эй, Желтый!» — он пытался острить в ответ:
— Я не желтый, я — зеленый! — утверждая свои неколебимые исламские убеждения.
— Хорошо, но как заставить албанцев в Косово платить за электроэнергию? Кто там будет собирать налоги, например? — спросил я. — Насколько мне известно, там важнейшие заводы, первостатейной важности для государства, не работают со времен Тито. Это же все не Милошевич придумал.
Изетбегович посмотрел на меня свысока и объяснил одну важную вещь:
— Мне кажется, что ты, пойми меня правильно, слишком много рассуждаешь. Все это сейчас уже не важно, мы должны думать об основополагающих вещах, — и президент замолчал, как актер, делающий паузу, как раз такую, как надо, чтобы его следующие слова прозвучали весомо:
— Знаешь, Эмир, у сербов больше не будет столько генералов в Боснии. Стоит им привыкнуть к этому.
Говорил он это, думая, что я все передам Добрице Чосичу. Казалось ему, что у того имеется какое-то влияние на Милошевича — что, как вскоре выяснилось, было неверным. Я же сказал ему, шутя:
— Хорошо, но раз уж Босния светское государство, было б логично, чтобы генералы были хорошими военными специалистами.
Не подал он виду, что понял, в чем шутка, в отличие от юмора «Vox»:
— Конечно, логично. А еще логичней, чтоб они были мусульманами!
Если б я продолжил эту беседу искренне, столкновение было бы неизбежным. Не годится гостю в чужом доме устраивать скандалы — подумал я, и стал говорить о своем страхе перед войной. Изетбегович сказал:
— Ну, там видно будет. Мы попробуем все мирные варианты, но если уж придется воевать, то и повоюем. Знаешь, я б не против договориться с сербами. Например, переселить наших из районов, где мы в меньшинстве, на преимущественно мусульманские территории — и то же самое с сербами. Наши живут с нашими, сербы — с сербами, вот тебе и — мирная Босния!
И как это он так собрался переселять народы, когда у нас обычный школьный автобус не в состоянии выехать на экскурсию без безобразной неразберихи?
Источником вдохновения Изетбеговича была Турция. Думаю, все это ему присоветовал кто-то из историков, по подобию известного события из турецкой истории, депортации народов 1922 года. Турки с восточных греческих островов были переселены в Измир, а местные греки — из Измира. Переселение это было произведено в два дня, и благодаря ему мы теперь знаем подпольную греческую музыку рембетико, возникшую в неволе. Не знаю только, было ли ему известно, что тогда, в 1922 году, за эти два дня пострадало 300 000 греков? Спросил я Изетбеговича, боится ли он войны? Он ответил:
— Я боюсь только Аллаха, и верю, что имеется мирное решение для моего и других народов.
Видимо, эта набожность Изетбеговича внушала доверие, а образ страдальца-узника создавал авторитет, поэтому в конце концов он смог отобрать кормило власти у немощных коммунистов товарища Тито. Дети коммунизма уже много лет напоминали администраторов захудалых гостиниц, совершенно неспособных увлечь за собой народ. Единственным из них, имевшим шансы стать вождем в наступавшие грозные времена, был Фикрет Абдич. Творец экономического чуда в Боснийской Краине, позже за свои успехи осужденный и посаженный боснийскими коммунистами в тюрьму, он в эпоху перемен перешел в СДА, изетбеговичеву партию, не представляя себе, что его в ней ожидает. Скорее всего в первую очередь он мечтал о возрождении «Агрокоммерца» и свое участие в выборах президента Боснии и Герцеговины подчинил этой цели, веря, что если у него все получится, он сможет оживить экономическую жизнь в своей Краине.
На первых демократических президентских выборах у СДА было два кандидата, Изетбегович и Абдич. И смотрите-ка, Абдич убедительно победил, получив на десять тысяч голосов больше Изетбеговича. Таким образом боснийские мусульмане отдали предпочтение человеку, символизировавшему живую связь с тем комфортом и эмансипацией, которыми они пользовались в титовой Югославии. И гораздо меньшей была их поддержка Изетбеговича, представителя клерикальной Боснии. Фактом остается, что Фикрет Абдич мог бы стать президентом Боснии и Герцеговины, но этого не произошло. После победы на выборах, на партийном съезде СДА в Тешнье, Абдич вынужден был во имя партийной дисциплины согласиться с тем, что президентом станет не он, а Алия Изетбегович. Об этом ему сообщил легендарный Ченга, секретарь СДА, а в зале среди первых лиц партии сидели хорошо вооруженные парни, одетые в черное и в темных очках, по этому поводу приехавшие из Санджака38. Боснийцев же заставили поверить, что у Абдича нет времени для исполнения обязанностей президента. Насколько это неверно, стало понятно во время войны в Боснии. Абдич создал свою армию, вступил в военное противостояние с Изетбеговичем и стал его лютым врагом. Он был не единственным, кто хотел любой ценой избежать войны с сербами. Адил Зулфикарпашич, умеренный мусульманский политик, подписал с Милошевичем договор о ненападении между мусульманами и сербами. Этот договор Изетбегович выбросил в корзину.
Мой разговор с президентом все время застревал в мучительных паузах, и тогда присутствующие домочадцы начинали делать все, чтобы разрядить атмосферу. Наверное, меня позвали, чтобы поговорить и привлечь на свою сторону, а не напугать, так объяснил я себе эти попытки Изетбеговичей. Пока Алия, его сын Бакир и беременная сноха рассказывали байки про Хасана Ченгича, секретаря СДА, которого издевательски пародировал Доктор Карайлич, мои мысли потихоньку улетели прочь из квартиры изетбеговичева сына.
Кажется, разгадал я загадку и понял, что президентская стратегия основывается на все том же, Господи прости, двухсотлетнем балканском сценарии. Согласно ему, Младший балканский брат получал гарантии Большого брата откуда-нибудь извне, чаще с запада, что ему помогут, если «его кто-то тронет». Стратегия эта основана на сценарии кафанской драки. Где война между вражескими столами начинается, когда за стол, где сидит группа крепких парней, внезапно подсаживается такой блондинистый пацанчик, берет стакан воды и выплескивает его одному из них в лицо. Облитый не задумываясь отвешивает малому затрещину и подходит к столу, откуда тот пришел. Малой убегает прочь, а в это время облитый и его компания навешивает кренделей парням за провокаторским столом. И, когда уже кажется, что дело закончено, в кафану возвращается малой, ведущий за собой кодлу двухметровых дылд. И они-то уже размазывают тех, кто в этой маленькой кафанской войне уже считал себя победителем, по стенам…
Мирсад Пуриватра был сыном дизайнера мусульманской нации в Боснии. Мощно западал он на «Секс пистолсов» и получил работу в Академии сценического искусства только за то, что для представления Младена Материча «Танец восьмидесятых» раздобыл двадцать метров коаксиального кабеля. Театр «Обала» возник, отвечая возникшим запросам сараевцев на то, чтобы и в нашем городе возникло место, где будут развиваться альтернативное искусство и живой театр, отличающийся от омертвевшего театра традиционного. Мирсад Пуриватра казался подходящим человеком. Его склонность к панк-музыке, европейский прикид и приверженность к черной одежде были решающими для Младена, подумавшего, что этот человек, любитель панка, сможет вписаться в наши ряды. Очень все это сыграло в пользу Мирсада при его зачислении в штат, хотя организатором он был не то чтобы очень хорошим. С приближением войны, он все реже подчеркивал свою принадлежность к панкам и постепенно терял имидж бунтовщика. Младен Материч учил его ценить в изобразительном искусстве Бойса, в театральном — Уилсона, а Весна Байчетич на многочисленных гастролях спектакля «Татуированный театр» обращала на Мирсада свои деликатные ожидания как в области искусства, так и в более общем смысле. Поскольку перед войной выяснилось, что санджакцам не по вкусу Бойс с Уилсоном, он быстренько позабыл этих великанов альтернативной сцены. То же и с художеством. В первые дни войны Мирсад организовывал художественные выставки и сборища, а когда увидел, что кино несет больше практических выгод, перевоплотился в директора кинофестиваля. Непосредственно перед войной он все активнее подключался к дизайнерским проектам своего отца. Младен Материч и Пуриватра на частых гастролях театральной труппы «Обала» из Академии приятельствовали и разговаривали о войне! Младен часто обращал внимание на то, что сербы борются за свою автономию и теперь им ничего не остается, кроме как ввязываться в драку.
— Это же такой малый народ, который за свое существование заплатил миллионами мужских голов. Начиная от освобождения от турок они воюют, любой ценой, чтобы защитить свои национальные интересы. Сербы не признают хозяев.
На великом соборе в Фоче, организованном СДА, где собралось, как писали газеты, более ста тысяч человек, многие грозно махали какими-то саблями. Участники, одетые в форму Ханджар-дивизии, и тем самым напоминавшие о временах, когда боснийские мусульмане отправили дивизию СС в помощь в неудачном походе на Москву, теперь размахивали саблями и угрожали сербам отмщением за мусульман, убитых четниками во время Второй Мировой войны. Похоже, теперь они и сами были готовы убивать.
— Незачем было провоцировать сербов, как пить дать — получите вы пиздюлей, Миро! — говорил Младен Материч Мирсаду Пуриватре.
— А если и получим, так и на сербов найдется управа! — ответил он ему в точности словами из моей кафанской истории!
В пуриватрином распределении ролей, сербам полагалась добрая порция пиздюлей от американцев. Так я в конце концов понял, почему президент Боснии и Герцеговины Алия Изетбегович производил впечатление человека, не боящегося той кучи оружия, которая находилась в распоряжении ЮНА. Уже все кому ни лень начинали бряцать оружием, а президент был непохож на человека, боящегося войны. Тот Омерович копил все больше и больше оружия в своем подвале, и по всем Балканам оружие начало пользоваться повышенным спросом. О том же, что находится на складах у ЮНА, всем было известно очень хорошо.
В конце разговора, я сказал Изетбеговичу, что эти страх и ненависть лучше всего описал Андрич в рассказе «Письма из 1920». Ему были явно неприятны мои слова, упоминание имени Андрича вызвало на его лице едва заметную гримасу. Этим напомнил он мне Даринку, скандальную соседку из Високо. Когда требовалось произнести имя моего отца Мурата, Даринка говорила Майе:
— Когда, Майя, заявится этот, не хочу говорить кто?
Когда я упомянул Андрича, президент Изетбегович повел себя как Даринка, с той разницей, что не сказал вообще ничего. Так же, просто на другой манер. Думаю, в Изетбеговиче, за его благостной маской, таился очень мстительный человек. И только в прихожей, когда мы обувались перед уходом из квартиры его сына, он не смог скрыть своих чувств:
— А ты что, правда, что ли, собрался снимать «Мост на Дрине»?
А я ему говорю:
— Собирался, только средств нету, слишком грандиозный проект.
Он сказал:
— Так ты что творишь-то? У Андрича вся его литература полна ненависти, он же лакейское отродье.
Вышел я тогда из квартиры его сына, зная, что Изетбегович — не мой президент. Не только потому, что никто еще не получал Нобелевской премии, восхваляя ненависть. Просто тот, кто плохо отзывается о моих героях, не может быть моим президентом.
Из Парижа пришло сообщение, что надо съездить в Високо, посмотреть, что там с нашей дачей. Был я рад, что смогу показать Джонни нашу семейную гордость. Представьте себе, Джонни Депп в Високо, какой неожиданный гэг, настоящая концептуальная акция, а?
Эта дача, как и большинство проектов на моей родине, была способом вырваться из привычной среды. Что-то вроде эффекта перевернутого бинокля, когда смотришь через него на вещи, находящиеся на расстоянии вытянутой руки, а кажется, что они очень далеки от тебя. Через такой перевернутый бинокль стоит рассматривать и стиль, в котором сняты мои фильмы, и красоту нашего домика. Ни то ни другое не выросло само, как растет плод из ростка, пробившегося из земли под ногами. Но темы для их развития давала почва. Домик этот выглядел попыткой побега от той среды, в которой признанные стандарты красоты не были в почете. Успех моих фильмов не оказал большого влияния на деятелей искусств, не вызвал какой-то новой волны в киноискусстве. Для того, чтобы это произошло, прошло еще недостаточно времени. Едва добившись успеха, лучшие из боснийцев бежали из привычной среды, чаще всего по политическим причинам. Так Босния стала страной без своего стиля, вроде второразрядного футбольного клуба, из которого постоянно уходят на сторону одаренные игроки. И не столько по финансовым причинам, сколько из-за духа провинциализма и узости взглядов, которыми страдала местная жлобская политика. Потребность в прекрасном была, по меньшей мере, отсюда изгнана. И сделала все это завладевшая моими родными местами деревенщина, впрочем, в поэзии они смогли добиться некоторых успехов. С другой стороны, среднего класса, как потребителя и создателя эстетики и устоявшейся части общества здесь просто не было. На руку это было только умникам, многовековому и губительному боснийскому явлению.
Из-за владеющих головами деревенщины представлений пострадали розы и виноградная лоза семьи Домицель, майиных дедушки и бабушки. Сюда их из Словении, с появлением железной дороги, завезли австрийцы. И доставили в Високо, потому что местное население с сомнением относилось к венским авторитетам. В Вене подозревали, что здесь еще сильно пагубное влияние турков, и старые славянские обычаи являются общепринятым способом измерения времени. А ведь поток времени уже тек иначе, и теперь, когда была построена железная дорога, ориентальные привычки представляли собой проблему, несовместимую с новыми порядками, заведенными в Боснии Австрией. Время и способ его измерения требовали коренных перемен. Привычкам завершать деловые переговоры фразой «Договорим через неделю» пришел конец. Зримым символом этих перемен явилась железная дорога, по которой поезд приходил не «через неделю», а точно в восемь часов, и отправлялся со станции в сторону…. в восемь пятнадцать. Для выполнения этой относительно несложной задачи, диспетчерские обязанности в Боснии выполняли иностранцы. Зажиточный хозяин Митар не был единственным, кто по крестьянскому обыкновению назначал встречи и откладывал дела на «через неделю». Большая часть населения так и не распрощалась со «старославянскими часами», и узнавала время, глядя на небеса, а не на часы. Сосед Митар купил один из трех домов семьи Домицель. Случилось это, когда умерли самые старые члены семьи. Поселился он в доме по соседству с нашим, а розы, виноградную лозу и цветник, за которым ухаживали десятилетиями, сразу же порубил на корню, сказав:
— Бабке моей, Даринке, застит — дороги не видно, — и добавил:
— А ведь сколько картошки можно было насадить вместо этих роз.
Когда майин отец по выходным вскапывал цветник перед нашим домом, Митар, после трудов праведных, пил кофе там, где ему больше не застило. Кричал он иногда Мише через забор:
— Когда б ты, вместо роз, сажал чего потолковей, цены б тебе не было!
Как только мы приехали в Високо, Джонни, едва вылечившийся от гриппа и измученный постоянной сменой впечатлений, сразу же слег в постель. А я поднялся на холм над нашим домом и сорвал с ветки яблоко. Мало где еще в мире земля с небом порождали такие сочные творения. Грыз я это яблоко, смотрел на домик внизу, и неожиданно начал плакать. Не знаю, то ли из-за прожитых лет, то ли из-за того, что готовило мне будущее. Сначала чуть-чуть, но потом потоки слез залили мое лицо. Слезы мешались со вкусом чудеснейшего в мире горько-сладкого яблока и вызывали воспоминания детства. Хотя, если без прикрас, слезы смешивались у меня с землей. И эти слезы, эта внезапная буря в душе, позволили моему тогдашнему помешательству, хотя бы частично, излиться по щекам. Немного позже я понял, что этот долго откладываемый плач был просто предвестием важных и потрясающих событий — а тогда просто оплакивал наш дом. Мой дорогой гость Джонни стал последним, кто спал в нем. Дом этот сгорел сначала во сне у бабки Даринки, жены доброго соседа Митра, скосившего розы и виноград. Горел дом и во сне Давора Дюймовича, исполнителя главной роли «Времени цыган». Стрибору тоже часто снилось, как горит наш домик. Что же еще могло ожидать наш милый, столько раз горевший во сне, домик в наступающих временах?
Слово Санджак врезалась в память Джонни и когда через несколько дней мы ехали из парижского аэропорта в город на такси, он спросил меня, прочитав название капеллы Сен-Жак:
— Is it connected to people from Sandzak?
Расстались мы с ним как друзья. Джонни уехал на съемки «Гилберта Грейпа», а я через два месяца из Парижа, в котором мы тогда жили, полетел в Нью-Йорк, где обязан был еще семестр обучать режиссуре студентов Колумбийского университета. Как всегда, начал я заниматься тремя вещами одновременно, как Софокл, смешивавший в своих драмах несколько жанров, монтировал «Arizona Dream » в Париже, преподавал режиссуру студентам в Нью-Йорке и готовился к съемкам «Андерграунда». Когда самолет прилетел из Парижа в нью-йоркский аэропорт Кеннеди, на телеэкранах я увидел, как начался обстрел Сараево.
После референдума о независимости Боснии и Герцеговины, в котором не принимали участия сербы и который прошел удачно для тех, кто этой независимости жаждал, сербы перегородили город баррикадами. Это было для меня знаком, что пора перевозить Сенку в Херцег-Нови. Приехав в Нью-Йорк, я позвонил родителям и был рад тому, что они вместе. Никакие мои уговоры не смогли бы убедить Сенку уехать из Сараева. Но тут настала череда все более и более серьезных происшествий. Набрал я из Нью-Йорка номер в Херцег-Нови. Сенка подняла трубку и сказала мне:
— Умер Шиба Крвавац.
— Как так, от чего? — говорил я все те бессмысленные глупости, которые говорятся в таких случаях.
— От сердца, — ответила Сенка.
— А как Мурат? — спросил я.
— Плохо, все плачет и плачет, передаю ему трубку.
Отец всхлипывал как ребенок и никак не мог остановиться. С трудом выдавил из себя несвязную фразу:
— Ты знаешь, у меня ведь не было брата… а он для меня был больше, чем брат…!
Успокоил я отца, насколько это было возможно с такого расстояния и по телефону.
После лекций, которые я читал студентам Колумбийского университета, я часто прогуливался по Бродвею. Шел я в сторону городского центра, потому что в противоположном направлении находился Гарлем, в который белым людям, и не без оснований, заходить не рекомендовалось. Когда я направлялся на юг в сторону Колумбус-серкл, скоро уже начинались небоскребы, но задирать голову к драматичному нью-йоркскому небу не хотелось. Хватило одной безуспешной попытки пересчитать этажи, чтобы в следующий раз не поднимать головы. Не хотелось мне видеть, что простора взгляду нет. Шиба Крвавац был спасительным кумиром моих подростковых лет, именно он заразил меня искусством кино. Теперь его смерть переплавилась в нью-йоркский пейзаж. Во время этой прогулки ощущение безнадежности с каждым взглядом на исполинские здания увеличивалось еще сильней. Большие американские города больше напоминают выставку строительных материалов, чем то, что мы в Европе называем городом.
Наконец-то мне показалось, что страданиям этой войны пришел конец. Когда было объявлено, что португальский политик Кутильеро подготовил какой-то свой план, от радости не находил я себе места. Хотелось выбежать на Бродвей, кричать и расцеловывать прохожих из чистенького мира. Все шло к тому, что войны удастся избежать. Но счастье длилось недолго. Сначала Изетбегович подписал европейский план по Боснии и Герцеговине, называвшийся «Лиссабонским договором». Но вскоре, после встречи с американским послом в Белграде господином Циммерманом, президент Боснии отозвал свою подпись. План был отвергнут, чуть погодя, Соединенные Штаты признали независимость Боснии и Герцеговины, и это стало началом войны.
Я все больше и больше ощущал, что оказался в страшном сне о конце времен. Эти сны начали сниться из-за дяди Эдо, рассказавшем мне в раннем детстве историю о конце света. Благодаря своей склонности к сновидчеству, я, во сне, вообразил весь механизм этой катастрофы. Понял я тогда, что важнее всего держаться за собственную семью как за спасительное дерево. Которое теперь было выкорчевано с корнем и унесено буйным половодьем. Рецепт спасения из моего сна наяву означал, что важно держаться всем вместе, а там будь что будет. Земля трескалась у нас под ногами, небеса распахнулись, но до последнего мгновения оставалась еще надежда. Спасение всегда могло прийти, если поступать согласно указаниям из обильной кладовой снов. И, конечно, не терять надежды. Война это еще не конец света. Это доходнейшее предприятие, придуманное человечеством за всю свою историю. Есть способы и из нее выйти победителем, но не во время военных действий. Потому что кроме случаев, когда ты защищаешь свою семью от непосредственной опасности, война — рай для авантюристов, решивших обогатиться, и для художников. Мечты о межнациональном согласии разошлись с реальностью, и это стало величайшей потерей моей жизни.
В тысячу девятьсот девяносто втором, 29 сентября, в Херцег Нови умер мой отец. Скорбную эту новость узнал я странным образом. Мирослав Чиро Мандич, режиссер, некоторое время живший у нас в Париже, разговаривал с Майей. Она позвонила в Нью-Йорк, чтобы сообщить мне скорбную весть, но, не сказав еще «Алло!», не подозревала, что связь уже установлена и я все слышу.
Как раз в тот момент Майя советовалась с Чиро, сообщить ли мне сразу, что Мурат умер, или сделать это по приезду в Париж? Новость эту я переносил, замкнувшись. Сидел до самого рассвета и курил свою последнюю пачку сигарет. Где-то после полуночи ко мне присоединился Момчило Мрдакович. Нервозный любитель и работник кино, мечтавший, уже в преклонном возрасте, снять свой первый игровой фильм. Он идеально подходил к тому, чтобы в тяжелую минуту оказаться под рукой. Принес он с собой бутылку ракии и два стаканчика. Разлили мы ракию и выпили за упокой моего отца. Завтрашние лекции в Университете были отменены и на доске объявлений написано: No class today, Emir`s father passed away.
Когда мы со Стрибором пришли на Норвежскую 8, в дом, где теперь жила одна моя мама, на стеклянных дверях, ведущих во двор, висела смертовница39 с пятиконечной звездой, именем и фотографией Мурата Кустурицы. Это зрелище было только первым шагом к окончательному осознанию смерти моего отца. Когда у тебя умирает близкий человек, время не течет обычным образом. И сам ты, в то самое мгновение, когда слышишь эту новость, немного умираешь. Хуже слышишь, тише говоришь, становишься чем-то вроде едва горящего уличного фонаря, от которого непонятно, есть ли вообще какой-нибудь свет. И только добравшись до места похорон, только тогда ты снова, не желая быть мертвым, полностью оживаешь.
Стрибор посмотрел на фото своего деда и спросил:
— Кончится ли это все когда-нибудь? — имея в виду несчастья, обрушивающиеся на нас одно за другим, а я ему ответил:
— Хоть и кажется что нет, лучше так не думать, ведь это не может продолжаться бесконечно.
Подумал я, как же тяжело приходится Стрибору. Хотелось мне как-то его утешить и развеселить. Так же, как когда-то мой отец успокоил меня, когда я сам впервые увидел мертвеца. Развеял тогда отец страх смерти перед моими глазами с той же легкостью, с какой могучий северный ветер разгоняет на небе облака. Воспоминание об этом потом, когда было необходимо, укрепляло мою раненое сердце. Если про смерть можно сказать, что она «непроверенный слух», то эта лучшая анестезия, обезболивающая ужас конца человеческой жизни.
То, как отец умалил смерть, сведя ее на уровень газетного афоризма, снова и снова приходило мне в голову, вместе с воспоминаниями об отцовском остроумии и его радостном, герцеговинском характере, возвращая мне присутствие духа. Неважно, насколько тяжел свалившийся на тебя груз, главное, не надо тащить его на своих плечах. И хорошо иметь отца, способного объяснить, как совладать с тяжестью постигшего тебя несчастья.
Из какого источника мой, ныне уже покойный, отец черпал теплоту и нежность, откуда родом было его заразительное очарование, благодаря которому в друзьях у него ходила половина Сараево? Как стал он важнейшим столпом, поддерживающим здание моей жизни? Родителей его я едва помнил. Но их история и есть тропинка, ведущая прямиком к источнику и запруде, которые я стремился обнаружить.
Муратов отец Хусейн Кустурица был в Травнике важным судейским чиновником, человеком, который, с отточенным карандашом и в черных нарукавниках каждое утро точно в семь часов отправлялся в суд. И точно в пол-десятого, когда в суде наступал перерыв, возвращался домой и готовил кофе с завтраком для своей эфендиницы40. Это было неслыханным примером мужской эмансипации не только для Травника, но и для Вены. Жили они на одну его зарплату, и жили в достатке, благодаря исключительному трудолюбию чиновника Хусейна. В конце концов из суда он вышел на пенсию. Тщательно ухаживал он за огородиком возле дома в травницкой Потур-махале, видимо, чтобы уменьшить расходы. Была это одна из немногих травницких семей, из которой все младшее поколение ушло в партизаны, а тетка Биба и перед войной была членом СКЮ. Отец в самом начале Второй мировой войны убежал вслед за своей сестрой в лес и присоединился к народно-освободительному движению. Если б он не сделал этого, то пострадал бы от чернорубашечников, из-за которых вынуждена была убежать и тетка. Проводил он свою сестру и стал думать о том, что скоро пора и ему в леса. Ушел в партизаны и стал бойцом Первой краинской народно-освободительной бригады. Мой отец и его сестра прошли в той боснийской провинции сквозь историческое решето. Мало кто готов был встать на сторону «ненормальных сербов, которые опять начали воевать с немцами». В том числе и другая их сестра Лала скептически смотрела на эту их политическую деятельность, но делала все, для того, чтобы об их довоенных революционных акциях, о которых ей было известно, не узнал никто другой. Большинство боснийской райи41 не имело особой склонности к революционным и, тем более, социалистическим идеям. Мурат с Бибой, встав на сторону пострадавших, выразили свою склонность к левым идеям и своим сербским корням. Поэтому-то, принадлежа к армии-победительнице, оба они в конце Второй мировой войны праздновали победу над фашизмом по другому, чем большинство, лишь в конце войны переметнувшееся на сторону победителей. Они-то на этой стороне были всегда. Мурат получил образование в Иисусовой гимназии в Травнике. Там он получил много расширивших его горизонты знаний, но одновременно именно там церковная идеология, посчитавшая усташскую оккупацию исторической закономерностью, полностью отвратила его. Часто Мурат, варя на кухне яйца, читал на латыни: Отче наш, иже си на небеси — и так отсчитывал, короткой или длинной версией «отче наш», будет ли сварено яйцо всмятку или в крутую.
После окончания Второй мировой войны, тетка Биба переселилась в Билград, как называли ее родители столицу ФНР Югославии. Вышла замуж за Славко Комарицу, который вскоре стал послом ФНРЮ в Швейцарии. Тетка была счастлива, что может теперь устраивать незабываемые приемы. Молодая травничанка наслаждалась тем, что в ее квартире собираются теперь важные люди и что она сама, а не только Славко, стала частью такого видного общества. Когда она, в качестве жены посла, переехала в Берн, счастью не было конца. Получила она от государства роскошную шубу и полные карманы денег. Мало того, что она все эти деньги получила, она еще и любила об этом говорить: «Молодец наше государство, все делает, чтобы в мире о нас сложилось хорошее впечатление и никто не мог нас подкупить!»
Когда она развелась и сошлась с Любомиром Райнвайном, тетка с нетерпением и любовью зазывала родителей в Белград, чтобы принять их в своей квартире на Теразие 6. Попытки организовать этот визит были делом непростым. Вроде бы, никаких препятствий не было, потому что видная белградка, работающая в Международном рабочем институте, давно уже послала своим отцу с матерью билеты, купленные со скидкой, благодаря ее почетному ордену. Но эфендиница никак не могла представить себе, как эта она будет ходить по Белграду в старом пальто!? Решить эту, как и все другие в ее жизни, проблему взялся чиновник Хусейн. Он до сих пор с пониманием относился к подобным желаниям жены. Со сбережений, отложенных им на покупку участка на кладбище, о которых жене не было известно, купил он на это пальто сукна. Денег заплатить портному все еще не хватало, и потому было продано радио. Отец прочитал об этом в письме, пришедшем на его сараевский адрес, вместе с посылкой, которую ему ежемесячно высылали мама с папой из Травника. В письме они извинялись, что не могут послать больше одной бутылки оливкового масла, двух килограммов травницкого сыра и двух кило чернослива. Никогда и никому не будет открыта правда о том, как было пошито это пальто и как Кустурицы посетили Белград. Говорят, Кустурица-мать обошла весь дом на Теразие 6, от двери к двери, выпила со всеми соседками по чашечке кофе и совершенно покорила их сердца.
— Настоящей царицей была моя мама! — сказал мне однажды отец. Когда закончилась война, антифашистский женский фронт выдвинул программу борьбы с паранджой и связался с Бибой, ища среди травницких семей поддержку и пригодную для продвижения этой пропагандистской акции женщину. Выбор пал на мать партизан Мурата и Бибы Кустурицы.
Собравшимся женщинам она убедительно поведала все причины, по которым следовало расстаться с мрачным прошлым. Это было несложно, поскольку она происходила из рода Авдичей. Они, как и Кустурицы, были герцеговинцами, и в их среде так же была распространена борьба герцеговинца и человека. После успешного рассказа о необходимости избавления от паранджи, эфендиница стала одной из первых лиц в Травнике, даже в большей степени чем ее дети, и получила много благодарностей.
— Выбрать бы тебя, Кустурица, в градоначальники, вот это было бы дело!
Между тем, уже на следующий день произошло неожиданное. На базар вышла она покрытая паранджой! Когда перепуганная дочка узнала об этом неожиданном повороте событий, послала она брату телеграмму из Белграда. «Что ты наделала, мама?» — спросил отец, который сразу же примчался в Травник. А она ответила:
— Ну, не знаю, по-моему красиво, когда у женщины видны одни глаза.
— Нельзя тебе так, эфендиница, у тебя же партийное задание, — говорил ей мой отец.
— Да ладно тебе, сынок, нельзя же все так сразу! Немножко носишь, немножко не носишь. Вот как это делается!
На самом деле, вела она бои совсем на другом фронте. В ближайшем от нее соседстве находился дом беговской семьи Вехбие Шахинпашича. Принадлежавшая к нему ее соперница была против снимания паранджи и, так как они с ней боролись за престиж в махале42, моя бабушка боялась, что из-за этой истории с паранджой потеряет свое влияние на женщин нашей улицы и, когда они соберутся за кофе, не сможет как раньше держать марку. Отсюда и это компромиссное предложение «немножко носишь, немножко не носишь». Умирая в кошевской больнице, за ночь до смерти, она попросила у отца мою подушку, да так и, опершись на нее, и умерла.
Отец умер вместе с любимой страной. Ушел вовремя, чтобы не видеть, как распадается дом, в который он лично вложил не один кирпич и большую часть своей жизни. Фундамент этого дома давно уже разрушали иностранные разведки, нерешенные исторические споры между сербами и хорватами, да еще и те самые умники. Они свое место элиты народа, к которому принадлежали, уступили специалистам по разрушению общего фундамента, а сами все больше предавались размышлением над вопросом, изложенным в заглавии этой главы.
За полгода до отцовской смерти на учебу в Париж приехал Абдулла Сидран. Он рассказывал о невыносимом состоянии дел в Боснии и о мире, который на территорию Боснии и Герцеговины могут принести, по его мнению, только Объединенные Нации. Партизан Первой краинской бригады сказал ему гневно:
— Во Второй мировой войне я боролся за то, чтобы избавить мою страну от иностранного сапога, а ты мне тут ООН в Боснию зазываешь?
Тогда Сидран стал развивать теории, с которыми его собеседник согласиться не смог:
— Первого марта на референдуме о независимости Боснии фактически начаты военные действия. Если у нас треть населения не принимает участия в референдуме и не хочет выхода из Югославии, будет в Боснии война, — на что Сидран ему ответил:
— И все же на референдуме выражено желание большинства граждан Боснии…. — и Мурат, в конце концов, засадил кулаком по столу и завершил разговор о Боснии и Югославии так:
— В крови создана, в крови Югославия и распадется, запомни мои слова!
Теперь мне надо было взять что-то из своих чувств и воспоминаний, чтобы подбодрить Стрибора и на время преуменьшить тяжесть дедушкиной смерти. И, как часто бывает в жизни, добился я обратного. Четырнадцатилетний Стрибор стал утешать меня. Когда мы поднимались по ступенькам на Норвежской 8, он обнял меня и сказал:
— Это ведь как яблоко. Сначала оно цветет, потом появляется плод, который растет, питается соками земли, становится яблоком, выросшим из маленького зеленого плода, наливается цветом. Солнце его купает, дождь его милует, орошает… И вот проходит лето, а яблоко так и висит на своем черенке. Приходит осень, плод мерзнет, яблоко съеживается и, где-то на пороге зимы, черенок резко рвется, сморщенный плод падает на землю, и нет больше яблока.
Хотел Стрибор объяснить мне, что смерть вещь естественная. И только зайдя в херцегновскую квартирку и обняв Сенку, только тогда я осознал, что никогда больше не увижу отца. Смерть близкого человека превращается в великую скорбь именно тогда, когда подходишь к ближайшему свидетелю его смерти, представляющему собой самую сильную, теперь уже символическую, связь между тобой и покойным. Умирая, отец мой кричал:
— Сенка, Эмир, ухожу я от вас! — и мы были в отчаянии о того, что он больше никогда не вернется!
Стрибор заплакал, когда увидел, как мы с Сенкой оплакиваем Мурата, а я наконец нашел способ успокоить сына:
— Твой дедушка не умер, просто отправился на тот свет, отдохнуть от своей доброты, — сказал я, продолжая плакать.
Теннисный локоть
По горицким холмам, где остались друзья моего детства, волна за волною прокатывались трагедии. Началась новая война. В моем Сараево, в той Горице, которую я знал подошвами. Где на столбах мерцающими отблесками разбитых фонарей еще висит моя тоска, на Черной горе ночными бабочками шелестят мои вздохи, а по крутым ступенькам, на которых я пробовал достичь скорости космонавта и медлительности влюбленного, все так же вприпрыжку скатываются мячи. А я будто и не переставал бегать за ними.
Привычку прогуливаться от Свракина села до городского центра, которой Паша с женой неукоснительно следовали в мирные времена, теперь, во время войны, им пришлось позабыть. Паша был очень огорчен, что больше не удается ему посчитаться с «сексуальными маньяками», жадно пялящимися на задницу его жены, но все ж таки в центр города он выбирался, перебежками, зигзагами, от стены к стене, хоронясь от снайперских пуль. Так добирался он из предместья до центра и Горицы, чтобы поддержать своего друга Ньегу Ачимовича. На сараевских улицах царил хаос, беженцы из Восточной Боснии, изгнанные из своих домов мусульмане Рогатицы и Вышеграда, искали себе новую крышу над головой, в основном, квартиры, чьи хозяева тоже были вынуждены бежать. Часто врывались они и в квартиры тех сербов, кто не успел покинуть город. Быть выставленным на улицу было тем страшнее, что хуже этого была только смерть. Кратчайшей дорогой на тот свет для сараевских сербов могла стать случайная встреча с гармонистом Цацой — музыкантом, убивавшем сербов без помощи нот. Этот убийца имел обыкновение отводить сотни, а очевидцы утверждают, что и тысячи сербов на место казни в Казан-махалу, чтобы отомстить за страдания мусульман на Дрине. Страшные вести доходили даже до Парижа, и я спрашивал себя, знают ли борцы за мультиэтническую Боснию, чем заняты их музыканты в свободное от игры время.
Первые дни войны Ньего Ачимович провел, в страхе забаррикадировавшись в своей квартире на горицкой улице Калемова дом 2. Боялся он любого голоса, доносившегося со двора. Звонить с угрозами и дубасить по ночам в двери вошло в обыкновение у тех, кто хотел вселиться в его квартиру. Знал он, что не поможет ему ни то, что он не ходит в церковь, ни то, что никогда и ничем не подчеркивал он свое происхождение. А помогла ему, в конце концов, искренняя дружба.
Пробираясь под огнем снайперских пуль, Паша ходил к другу и носил ему еду. Ньего считался в компании самым слабым, а Паша — силачом. Их дружба являлась живым примером того, что избегали показывать телеканалы всего мира — с самого начала войны ни на одном из них нельзя было увидеть трогательных историй дружбы сербов и мусульман. Паша появился на Горице, занес сестре Аземине немного еды, и поспешил вниз, на Калемову 2. Подойдя к ньегиному дому, разогнал собравшуюся там шелупонь — просто подошел к самому здоровому из них, молча двинул по зубам, и только потом сказал:
— Не хочешь остаться без зубов — вали отсюда!
Здоровенный увалень в панике собрал манатки и побежал, а Паша кричал ему вслед:
— Еще раз постучишь в дверь, где написано «Ачимович», живьем с тебя кожу сдеру, понял?
Ньего долго не хотел открывать, потому что боялся что слышит подделку под пашин голос. В конце концов, разглядев своего приятеля через дверной глазок, он открыл двери и сразу же почувствовал уверенность, вызванную близостью могучего друга. И чувство это было сильнее голода, мучившего его последние два дня.
— Что, четник, усрался небось, ааа, очко-то играет?! — смеялся Паша, и потом боевые товарищи отправились в магазин за хлебом. Прошли они мимо граждан, стоявших в длинной очереди за продуктами. Увидев, что какой-то неизвестный тип глянул на него исподлобья и фыркнул, Паша сразу влепил ему затрещину и сказал:
— Слышь ты, гандон, хочешь так вмажу, что глаза повыскакивают? Ты зачем стучал в ньегину дверь, а?! — и хорошенько его отметелил.
Так Паша давал знать остальным, что их ожидает, если они посягнут на квартиру или жизнь его друга.
А по другому быть и не могло, потому что связывали их общие прошлое и воспоминания. Не смогли они позабыть как закалялась их дружба на горицком асфальте, как учились они уличным правилам и понятиям. И они знали, что теперь эту связь им надо пронести сквозь испытания войны.
И разве Ньего не сделал бы для Паши того же, окажись Горица на сербской территории?
Потому что их связывали незабываемые и сумасшедшие проделки, к примеру, то, как мы взламывали киоски на Заостроге, а потом продавали украденные бритвенные станки и жвачки по пляжам в Макарске, и на эти деньги жили неделями на море, а море было нашей жизнью! Потому что в их памяти навсегда останутся воспоминания о драках на пляжах и танцах, в которых каждая победа запоминалась сладким чувством превосходства и торжества, так необходимым взрослеющему человеку. Причем, когда они дрались или сами получали по полной, каждый знал, что, что бы ни случилось, оставить товарища в беде нельзя. Выше прочих законов стояла самоотверженность и понятие о том, что нельзя быть «чмошником без характера»!
Должен ли я закончить в Париже «Arizona Dream», продолжая монтировать этот так нелегко дающийся мне фильм, или вернуться в Сараево? В растерянности, днем и ночью я названивал в Сараево. Когда перед зданием Скупщины Боснии и Герцеговины начались беспорядки, мне позвонили, чтобы узнать, что я об этом думаю. Мое идея заключалась в том, что горожанам ни в коем случае не надо воевать с ЮНА, потому что они гораздо слабей и будет много жертв. Я просил передать, что не стоит играть в партизан и немцев, и что ж теперь, при таком разделении ролей, получается, что сербы — это немцы-фашисты, а мусульмане и прочие — партизаны?! Немало народу были тогда были моими словами оскорблены, но я уверен, что многие думали так же, но были вынуждены молчать из-за страха, переживаемого ими в тяжкой реальности осажденного города. На мою пацифистскую идею откликнулся только некий поп-певец, но и он представил дело в соответствии с имеющимся запросом: надо поднять людей на оборону Сараево, точнее, на войну против сербов, а не на мир любой ценой, что имел в виду я.
— Эмир, нам нужен твой крик, а не шепот, — сказал певец и стал городским героем, а автор «Долли Белл» и «Папы в командировке» уже без пяти минут государственным изменником.
И я твердо решил, что должен вмешаться в трагедию родного города. Купил уже себе билет на самолет до Сараево, но это мое намерение было пресечено Зораном Биланом, позвонившем мне в Париж:
— Братишка, не приезжай ни в коем разе, — сказал он. — Ты тут — человек, которого хотят убить.
— Кто хочет меня убить? — спросил я, а он говорит:
— Патриоты!
— За то, что я написал в «Le Monde » что Алия — генерал без армии?!?
— Не знаю за что, но не приезжай!
— Ну так я же, говоря это, и тех, кто обстреливает город тоже не пощадил!
— Не важно, что ты там сказал, ты, братишка, ничего не понял, тут все переменилось. У нас тут слова больше не работают, у всех мозги поотшибало. То же и у сербов. Пойми, тут как в ковбойском фильме. Как Нока наш говорит: «Не знаю, кто хуже, те, кто на меня нападает или защищает!»
— Неужто и впрямь у Алии есть армия? — спросил я братишку, а он говорит:
— Забудь ты про эту хрень, у кого есть армия, у кого нет, главное — не приезжай. Если что изменится, я тебе позвоню!
Разрушитель вышеградского памятника Андричу тоже сыграл в самом начале войны свою роль. Не такую значительную, как собирался, но и ее хватило, чтобы получить свое место в очереди на памятник. Любой, ненавидевший сербов и партизан, приобретал репутацию правозащитника и кандидата на увековечивание. Если бы представился случай провести тот эксперимент по принуждению к прочтению сочинений Андрича, то, я уверен, Шабанович по другому оценил бы предложенную ему умниками роль. А именно: взорвать дамбу вышеградской гидроэлектростанции! Репортеру «Вечерних новостей» Радою Андричу он объяснил это так:
— Затоплю все Сербию от Дединья до самого дома Милошевича.
В разговор с этим человеком вмешался генерал Куканьяц, комендант Сараевского военного округа. Народным языком говорил он с взволнованным Шабановичем, который обещал взорвать дамбу чтобы отомстить за злодеяния аркановых гвардейцев в зворницкой области. В конце объявился и Алия Изетбегович и их разговор показали в теленовостях. Президент говорил с Шабановичем участливым тоном, как с родным сыном. Тот настаивал, что уничтожит все, а президент говорил ему:
— Подожди, Шабанович, брось ты это, прошу тебя, ну, не сейчас же, честное слово…!
А мы, телезрители, понимали, что до затопления дело дойдет обязательно, сейчас или позже ночью. Это было похоже на титры немого фильма, описывающие будущие события.
Несмотря на президентские уговоры «… ну, не сейчас же…» Шабанович спустил часть воды с вышеградской плотины.
И, поскольку дом Шабановича находился в Незуцах, предместье Вышеграда, он ради великой идеи затопления Сербии от Дединья до милошевичева дома затопил и свой собственный дом! Бурный поток перевернул строение и утащил его с собой, причем в общем-целом дом остался невредим и не развалился. С глубочайшей тоской смотрел Шабанович на свой дом, уносимый потоком в Сербию, и уныло вспоминал предвыборные обещания СДА в Фоче, где сторонники Изетбеговича клокотали от ярости и обещали, если дело дойдет до войны, отомстить сербам за каждого убитого на Дрине во времена Второй мировой мусульманина. Те, кто обещал все это Шабановичу, уже сбежали от сербской армии в Сараево, а он остался один и смотрел на речной поток. Молил он о чуде, кланяясь Аллаху и молясь, чтобы какая-нибудь сила повернула течение реки вспять. И если этого не сможет сделать Аллах, то, может, получится у американцев? В конце концов он и сам сбежал от сербов из Вышеграда в Сараево и продолжал там просить чуда.
Молиться, чтобы Дрина потекла назад и его дом вернулся из Сербии в Незуцы.
А я все ждал звонка Зорана Билана из Сараево. Может, что изменилось, думал я? Нет ли каких хороших новостей? Неужто я действительно был так быстро вычеркнут из списка сараевцев?! Но скоро все надежды были похоронены. Телефонная связь с Сараево была прервана, и я, уже без особых сомнений, отказался от возвращения в родные места. Билан так больше и не позвонил, и не только из-за оборванной связи. Как это ни ужасно, но биланова мама Кайя была зарезана на пороге собственного дома в Яйце. Партизанку и ветерана войны, как утверждала ее оставшаяся в Белграде сестра, зарезали члены военного формирования «Белые Орлы». А я и так уже знал, как мало у них общего с гордыми птицами, символом героической борьбы сербского народа за свободу. Тот, кто прирезал тетю Кайю на пороге ее собственного дома, был не орлом, а крысой.
Возвращение в родной город становилось все более проблематичным. И вовсе не из-за страха. Дело было в сложности психологической. Чтобы вернуться в Сараево, я должен был пойти на компромисс, к которому не был готов.
Вместо возвращения в родной город я пытался представить, что будет, если я внезапно в нем окажусь? Пришлось бы мне там нахлобучить себе на плечи новую голову, а эту старую снять, завернуть в газету и выбросить в Миляцку. И той новой головой должен был бы я оплевывать все, что думал, во что верил и что говорил! Все то, что оставил мне в наследство отец! Никогда эта новая голова не прижилась бы ко мне, даже если бы хирургическая операция прошла успешно. Обе головы ругались бы без остановки, и это превратилось бы в настоящий кошмар. Старая упрямо требовала бы от новой своей сестры, чтобы та отринула разжигающие войну суждения, потому что вовсе не была согласна с подобным пониманием вещей. А ведь именно это от нее и потребовалось бы, согласиться, потому что доверять только своим глазам стало непозволительно. Особенно тяжело было с этой старой головой из-за ее упрямства. Она никогда не позволила бы своей сестре позабыть о причинах, приведших к войне, как бы жестока та ни была. И тогда эта новая голова стала бы кричать и говорить то, чего в тяжелую минуту говорить не стоит, вот до чего ее довели. То есть, одна голова страдала бы потому, что ей надо изменить себе, а вторая потому что ее мучает сестра.
Из-за всего этого, а также из-за многих других не упомянутых здесь причин, в Сараево я не поехал. В жизни, как и в кино, я оказался слишком старомоден. Ну не нравилось мне все это международное сообщество с этим его невероятным гуманизмом, что уж говорить о наших простаках. О последних лучше всего свидетельствует протокол, который Сенка раздобыла от нашей родственницы Дуни Нуманкадич. В этой бумаге описывается, как некий высокий чин военной полиции Боснии и Герцеговины, небезызвестный Эдо Лучаревич, вместе с несколькими полицейскими ворвался в квартиру Мурата Кустурицы на улице Кати Говорушич 9а, и нашел в шкафу бомбу, которую спрятал там «террорист», как написано в бумаге, Мурат Кустурица. Протокол был, в качестве понятого, подписан нашей соседкой Родич:
— Что ж они с ней, беднягой, сделали, что ей пришлось подписывать такую ложь.
Кстати, борцы за независимую Боснию, помимо обороны города занимались кое-чем еще:
— Вот ведь паршивцы, в том шкафу я хранила две с половиной тысячи долларов, которые ты отдал нам на хранение, когда мы возвращались из Америки домой, — сказала мне Сенка.
Когда я перевез Сенку из Херцег Нови в Париж, мы поставили себе спутниковую антенну и смотрели новости, освещавшие войну с разных сторон, и в этом была теперь вся наша жизнь. Смотря все эти передачи на разных каналах, наблюдая разницу в толковании одних и тех же событий, понял я, что Гитлеру, для успеха его злодейской политики, не хватало только телевидения. Никто не справился бы с ним, имей он свой телеканал!
На деньги, полученные за «Arizona Dream » купили мы дом в Нормандии. Сомнений больше не оставалось: жизнь в Америке оставили мы в прошлом, с Сараево простились навсегда. Думаю, что это произошло бы, даже не случись войны. Большие свершения влекут за собой перемену образа жизни и привычек, и когда попробуешь уже японской еды, и источники твоих доходов находятся далеко от родного города, то никогда уже запах чевапчича43 не поманит вернуться домой. Наш большой дом в Нормандии был копией домика в Високо, с той разницей, что этот нормандский по сравнению с тем старым был настоящим основательным домом. Будь жив Мурат, он с гордостью показывал бы херцег-новинским пенсионерам фотографии, подтверждающие метраж жилплощади и количество комнат, принадлежащих семье его сына.
Искусство устройства жизненного пространства Майя довела в этом доме до совершенства. Свой стиль она создала, полностью разрушив каноны прочих стилей. Когда Джонни Депп зашел в этот дом, он сказал:
— It feels good, like if I was in Visoko.
Наш нормандский дом стал в конце концов настолько уютным, что можно было просто сидеть и смотреть в окно, не испытывая никакого желания говорить. Полностью погрузиться в возвышенные мечтания. Джонни Депп и это прекрасно почувствовал и, после, в этой тишине сделал своего первого ребенка. В том доме, пока мы были в Черногории, была зачата Лили Роуз, дочь Джонни и Ванессы, девочка, для которой я позже стал вроде крестного отца.
Дом этот был обустроен с невероятной продуманностью. Предметы здесь сочетались между собой как кинокадры у хорошего монтажера, связанные друг с другом так, что ни одного из этой цепочки уже не выкинешь. Расставленные майиными руками, предметы кухонной обстановки по своим цветам, формам и расположению и создавали этот возникающий на наших глазах стиль, разрушающий схемы и стереотипы холодных и отчужденных, хоть и с претензией, гостиничных номеров… в которых я, кстати сказать, провел большую часть своей жизни. Тогда в Белграде идеалом устройства жизненного пространства считался гостиничный номер. Все делалось для того, чтобы гости могли почаще говорить: «Чудесно, чудесно», что особенно действовало мне на нервы.
Тайна майиного стиля состояла в том, что в существующую раму картины, в данном случае дома, ставились неброские предметы, причем не обязательно дорогие, часто даже дешевые. Она умела приправлять всю картину детальками, делающими ее потрясающей. Вопреки забвению меняла Майя наше представление о пространстве. То же происходило у нее и с одеждой. Часто в обычном супермаркете покупала она дешевое платьице, сидевшее на ней как влитое. При этом на ногах ее были дорогие туфли, а на локте висела супер-дорогая сумочка. Потому что так ей нравилось. В точности как и ее отцу. Мишо Мандич был известным в Сараево судьей, говорили даже, что лучшим специалистом по гражданскому праву. Работал он в Окружном суде за не то чтобы очень высокую зарплату, но умудрялся прикапливать на покупку дорогих фотокамер. Особое уважение этот человек испытывал перед тонкими немецкими технологиями. И, хотя перенес усташские нацистские лагеря, никогда не говорил плохо о немцах. Да и усташей предпочитал не поминать.
Вернувшись с учебы в Праге и пропагандируя писателя Богумила Грабала, никак не мог я взять в толк, почему никто не понимает моего литературного героя, сказавшего: «Небеса отнюдь не гуманны, как не гуманен и мыслящий человек: не то чтобы он не хотел, но это несообразно его понятиям». Мишо снял цейсовский объектив со своей «Лейки М2» и сказал:
— Слушай, насчет того, что говорит этот твой Грабал, вот раньше много всякого натерпелись мы от немцев, теперь то же с американцами. Когда немецкий офицер въезжал в недавно завоеванные земли, стоя в открытом мерседесе, с «лейкой» на груди, то при всей ненависти со стороны порабощенных народов, все же были они впечатлены, признавая техническое превосходство. Ничто не могло сравняться с мерседесом, большинство людей мечтало управлять такой машиной. И чем больше они об этом мечтали, тем ясней им становилось, что мечта эта недостижима, и тем сильнее они презирали, нет, не немцев, а своих близких и соседей, тех, кто жил, работал и умирал рядом. Большинство, представив себя за рулем мерседеса, желало попасть в вечное немецкое рабство!
А сегодня американцы создают все эти космические товары. Человек не знает уже куда деваться от количества производимых товаров. Без большинства этих вещей люди могут прожить, но сделать это уже не в силах. Когда-то шли они молиться Богу, глядя в небеса и на иконостасы, сегодня же идут словно коровы за пучком сена в торговые центры. Люди вообще штука непростая. Все меньше беспокоит их настоящее искусство, как сказала бы Милка Бабович, комментаторша фигурного катания на телевидении. Сегодня публику больше занимают эффекты. Люди живут в уверенности, что не смогут обойтись без: соляриумов, музыкальных центров, видео, телефонов, самолетов и морских круизов. И патенты на эти изобретения принадлежат американцам. Сначала людей подсаживают на телерекламу, потом все эти предметы предлагаются уже и в реальности, что, надо признать, полностью всех устраивает. Советский Союз не выдержал этого испытания. Он вполне успешно мог соревноваться с Америкой в вооружениях и тяжелой промышленности, но проиграл соревнование в том, что люди ценят больше всего: не смог организовать рынок, и не имел никакого представления каким образом наполнить его пестротою товаров.
Проблема с американцами в том, что сначала они продают все эти вещи нам задешево, а потом, когда начинают нас бомбить, все это так дорожает, что та дешевизна выходит боком. Бомбы падают с высоты десяти километров. А мы ничего с этим поделать не можем — они нас видят, а мы их нет. Случается это, когда что-то их не устраивает и они хотят переписать историю. Вовсе неплохо то, что получаем мы поначалу, когда наслаждаемся Хичкоком, знаем, что Джон Леннон наш брат, и люди отправляются на Луну. Но никуда не годится, если тебя бомбят, называя бомбы ангелами. Хуже всего, выясняется, что одно с другим связано, будто и то и другое проделывает один человек. Это тот самый герой Грабала, который не может быть гуманным, извиняя себя тем, что небо «тоже негуманно», потому что, как утверждает он, это находится в противоречии со здравым смыслом. Чтобы добраться до тех удивительных вещей и возвышенных материй в науке и культуре, человек забирается к небесам и раю по лестнице, ступени которой — замученные люди, жертвы военной экономики. Таков тайный изъян истории! Хорошо, когда еще получается мечтать, что все может происходить и по-другому! Вопрос в том, стоит ли находящееся там, куда ведет лестница со ступеньками из невинных жертв, стольких страданий?
Когда юный Кустурица пошел во французскую школу, Мишо поначалу переводил Стрибору его учебники на сербский. Причем тот, как все балованные дети, постоянно их терял, и дед переводил их заново, потому что ну что уж тут поделаешь. Стрибор уже вступил в беспокойный переходный возраст. Вернулся он однажды из школы заметно взволнованным. Поначалу не хотел он нам говорить, что же такое произошло, что напомнило мне мои собственные первые шаги на пути взросления. Оказалось, избил он одного француза, школьного хулигана, за то, что тот изводил мальчиков-алжирцев. Тем же летом в Будве выбил зубы одному амбалу, сыну владельца бензозаправки в центре города. Позднее, когда мы вернулись во Францию, Мишо сказал ему:
— Стрибор, а ты понимаешь, что это тяжкие телесные повреждения, уголовное дело?
Тот перепугался. И еще сильней встревожился, когда Мишо добавил:
— За такое я мог бы посадить тебя на два года!
От чего Стрибор просто остолбенел, и после этого предупреждения не дрался целых два месяца.
Спросил я Мишо:
— Что ж мне теперь делать, как с ним справиться?
В ответ он попытался меня успокоить:
— Ничего уж тут не поделаешь. Сколько ни старайся, но когда проснется в нем дед, то и будет как с дедом, и все твои труды насмарку.
А когда догадался, что я уже несколько мгновений понимаю сказанное таким образом, что Стрибор похож на него, поспешно добавил:
— С генетической точки зрения, свойства передаются с разрывом в несколько поколений, так что ребенок может походить на прапрадеда.
Дед Мишо не любил становиться предметом обсуждения в разговоре. К физической расправе, в отличие от меня и Стрибора, он не был склонен совсем, хотя, смотря по телевизору бокс, размахивал руками так, будто находился в центре ринга. Проводя серии ударов, боксеры начинали подпрыгивать быстрее, и Мишо делал то же самое. Перебирал он ногами так споро, что от топота ног по сбившемуся ковру безделушки падали с полок и разбитое стекло разлеталось по комнате. Стекла этого он в запале не замечал и выходил на кухню весь в порезах. Не лучше было, когда в одиночестве в тесной комнатушке на Кошево смотрел он трансляцию футбольного матча, ноги его дергались так, будто это он сам находится на поле. Не пропускал он ни одного удара, не ограничиваясь теми, которыми игрок атаковал ворота противника. Каждый удар, который, как ему казалось, должен был закончиться голом, повторял он в своей комнате, замахиваясь ногой и ударяя изо всех сил. Однажды его дочь Майя делала у себя в комнате уроки и услышала, как Мишо у себя орет. Сначала это было несвязное:
— ГОООООООЛ! — за которым следовала пауза, и вопль:
— Помогите! Ногу сломал!
Мишо со своим чувствительным характером тяжело переживал любые осложнения в отношениях с людьми. Один в один как Стрибор. Даже представить себя участвующим в чем-то подобном он не мог. Так произошло и когда он сдавал экзамен на вождение в Високо. Когда напряжение экзамена стало ему непереносимо, он просто выпустил руль из рук — мотор заглох и экзамен был провален. Потому и большую часть жизни он проводил среди ближайших и преданных друзей. Трудно давались ему незнакомые места и, особенно, неожиданности, которые были возможны от незнакомцев. Зато жена его обожала путешествовать и узнавать новые места, собирать новые знакомства. Против ее склонности к путешествиям он не возражал, хотя и говорил ей:
— Лела, езжай куда хочешь, оставайся сколько хочешь, но когда вернешься, не показывай мне фотографий и не болтай, что ты там видела.
В Нормандии Лела сажала то же самое, что и в Високо. Больше всего мне нравилась редька. Возвращаясь из Нью-Йорка, я перво-наперво шел на ее огород надергать себе этих красных овощей с большим содержанием железа. Свежесобранную редьку я ел немытой, с комьями земли, будто только что вернулся из Эфиопии, а не Америки. За владычество над нормандскими землями Франция и Англия воевали триста лет, но, на мой вкус, в этой земле было слишком много песка. Не было в ней ни глины, ни жирности, как в земле моей родины. Этот вкус часто вспоминался мне, вместе с картинками из прошлого и слезами, которыми я провожал свое детство.
В тысяча девятьсот девяносто четвертом умерла моя тетка Биба. По иронии, свойственной жизни, ее смерть совпала с получением письма от ее бывшего мужа Любомира Райнвайна, адресованного на мой парижский адрес. Мой дядя шел в ногу с техническим прогрессом, поэтому письмо пришло не на почту, а на факс. И, хотя и не знал он еще о смерти своей бывшей жены, удивительно, до какой степени смерть моей тетки удовлетворяла его видению будущего.
«… Дорогой и великий Эмир!
Бессмысленность моей совместной с твоей теткой Бибой жизни дошла до предела! Прежде я пытался джентльменским образом решить вопрос нашего развода, поскольку жить в гармонии мы уже не в состоянии, но, к сожалению, с твоей теткой это оказалось невозможным. Ненависть и нелегкая ее реакция на наш развод взрывала нашу жизнь ежедневно, в будущем грозя еще более тяжелыми переживаниями.
Особенно нелегко мне переносить угрозы, что я буду убит во сне, и если бы мы нам не приходилось жить в одной квартире, всем было бы гораздо легче.
Ты знаешь, дорогой Эмир, что симпатию по отношению к тебе я выражал еще во времена работы в странах Востока, где нас посещали Твой отец, Твоя мама и с ними сам Ты, причем я делал все возможное, чтобы вы чувствовали себя у нас как дома. Там я снова принялся играть в теннис, поскольку, как Тебе известно, Райнвайны родом из Австрии, и в Цетинье, где находились посольства, имелось несколько теннисных кортов. На одном из них мой дед, в то время церемониймейстер при дворе короля Николы, одним из первых на Балканах популяризировал этот спорт! В детстве и я освоил эту игру и в конце концов стал страстным ее ценителем. И теперь, вместо того, чтобы играть в теннис на черногорском побережье, я выслушиваю сплошные оскорбления. Разве это нормально, чтобы женщина после двадцати лет совместной жизни с одним человеком говорила о нем: „С Райнвайном надо держать ухо востро! Даже когда спишь, одним глазом надо поглядывать, и одним ухом прислушиваться!“
Дорогой Эмир, я не немецкое говно, и не курвин сын, я обычный человек с богатым журналистским опытом, человек, желающий жить и спокойно играть в теннис. Что мне для этого нужно? Прошу твоей помощи в решении этой проблемы, которую ты мог бы оказать, выкупив мою долю квартиры. На эти деньги я купил бы квартирку в Херцег Нови, и, что еще важнее, смог бы там вылечить локоть, который постоянно болит, угрожая сделать меня инвалидом. Может, серьезность проблемы тебе не сразу покажется очевидной, ведь речь идет о каком-то локте. Ты знаешь меня как страстного игрока в теннис и можешь подумать, что в нынешние тяжелые времена я предаюсь сплошным удовольствиям, но это, дорогой Эмир, совсем не так. Теннис для меня — вся жизнь, а не просто забава.»
Со смертью Бибы Кустурицы эпоха драматической напряженности, довлевшая над квартирой на Теразие 6, пришла к концу, и Любомир Райнвайн с легкостью продал квартиру в центре Белграда. Славенка Комарица, бибина дочка от первого брака, этой продаже не противилась, и более того, никогда там больше не появлялась. А как ей было еще к этому относиться, если, как сказала ее покойная мама после первой атаки, произведенной Райнвайнами на эту квартиру:
— Даже Славенкину гармошку забрали, черти немецкие!
Когда гармошки уже и след простыл, Славенка сказала своему отчиму:
— Меня все это не интересует. Возьмите все, что считаете своим…
И он забрал все, включая прищепки с веревки, на которой покойница сушила белье. Вскоре в квартиру вселился новый жилец, дядя осуществил свою мечту на южной Адриатике, а тетка осталась жить в моих воспоминаниях. В которых часто возникали картинки прошлой жизни в той квартире, неизвестные новому жильцу, что не означало, что их не существовало вовсе. Были они живы. Жизнь, которую Биба и после смерти вселяла в это пространство, была еще одним подтверждением отцовского утверждения, что смерть — непроверенный слух.
Записки из Андерграунда
В тысячу девятьсот девяносто четвертом году умер Фредерико Феллини. В том же году в столице Соединенных Штатов был подписан Договор о Мусульманско-Хорватской Федерации. Когда я узнал, что ее конституция также была написана в Вашингтоне, я подумал: а вот интересно, будут ли теперь главные законы всех стран писаться в американской столице. Президент США Клинтон по этому случаю процитировал хорватского писателя Фра Ивана Юкича. Он хотел подписание договора о Боснийской Федерации мусульман и хорватов начать с литературной нотки, и вспомнил писателя, писавшего о любви к Боснии. Это было одним из проявлений пробелов, имеющихся у американцев в общем образовании. В Боснии был только один «Фра» и звали его действительно Иво, но вот фамилия его была Андрич, а не Юкич, и, желая разобраться в балканской трагедии, что было целью при подписании договора, без книг Андрича не обойтись.
Скончался мой кино-отец Фредерико Феллини. Это происшествие имело для меня куда большее значение, чем падение берлинской стены для западной цивилизации, хотя объединение Германии и означало распад Югославии. Смерть Феллини для нас, последователей феллиниевской эстетики, означала, что в конце двадцатого века мы остаемся сиротами. Эстетика, унаследованная от нашего отца, находилась в руинах. Ведь как привыкнуть к жизни в эпоху, когда Красота, Добро и Благородство становятся утерянными понятиями, антикварной редкостью? И совершили все это рыночная цивилизация и научная культура, начавшие процесс уничтожения архетипов.
Сенка начала привыкать к жизни в нормандской провинции. Все свою жизнь хотела она иметь собственный очаг и потому, выйдя замуж, не стала жить с сестрами, зятьями, матерью и отцом. Мы всегда жили отдельно, в собственном доме, и Сенка, как и Мишо с Лелой, любила повторять:
— Свой дом, своя свобода!
Ведь дом не только строение, как кажется некоторым. И не просто кубик, как представляется современным архитекторам. Невидимыми узами привязан человек к своему дому. Хотя и не прирастает он к телу, как у улитки или устрицы, но очевидно одно, дом — основа человека. Даже если у него этого дома нет и он погибает, то его гибель тем самым домом, которого у него нет, и измеряется. В этом секрет строительства птичьих гнезд. Когда гнезда еще нет ни в ветвях, ни на крыше, оно существует в птичьей голове. Птица носит его образ в голове и оттого знает, как его строить, ей не приходится этому учиться. Так и у людей, и у счастливчиков, имеющих крышу над головой, и у бездомных. Внимание их всегда было приковано к домам, когда-то пещерам, теперь небоскребам и коттеджам. Так осуществляется древнее предназначение человеческой жизни, семейная преемственность. И для бездомного тоже, только мысленно, тем самым подтверждая значение этой связи.
Узы, связывавшие Сенку, Мишо и Лелу с их домами, были разорваны. Трудно им было справляться с чувством изгнанничества, поскольку пути назад в Сараево для нас не было. Что чувствовали они тогда, какую бурю переживали? Жители Парижа утверждают, что испытывают нешуточный стресс, переселяясь с одной улицы на другую. Мишо вышел из своего дома с блоком сараевской «Дрины», Лела вынесла с собой в пластиковой сумке одну ночную рубашку. Но докторшей Кушец, в отличие от моей мамы, это переносилось легче, не зря она слыла нонконформисткой и своими поступками часто напоминала панкушку из поздних шестидесятых. Когда репортеры одного телеканала спросили, смогла бы она, после разграбления квартиры на Кошево, снова жить в Сараево, она ответила:
— Ну уж нет, пусть с ними живет, кто их не знает!
Забравшись в их кошевскую квартиру, некий Алия из Нахорево, увидев на рабочем столе Милоша Мандича норвежский флаг, сказал:
— Здесь жил четник Милош Мандич, надо тут все раздолбать!
Гораздо сильней беспокоилась о своей херцегновской квартире Сенка, но, в отличие от Лелы, она осталась без мужа.
Сенка так и не смогла смириться с фактом, что уже никогда не увидит своего мужа. Целыми днями напролет убиралась она в доме, в саду и охала, что «как-то ей не по себе». Однажды, принимая душ, она случайно заметила у себя на груди отвердение. Докторша на пенсии Лела Кушец в сомнении покачала головой. Через два дня знаменитый французский онколог диагностировал рак груди. Так, в жизни я встретился с тем, что описывается в классической литературе. В глубоком тылу этой войны мне, особенно сейчас, было тяжелей и мучительней, чем если б я находился в Сараево под бомбами и гранатами.
Сенке сделали операцию и она снова доказала, что главной чертой ее характера является сила. Но на этот раз речь шла уже не о забавах с шипами, приклеенными к лампочке в лифте. Теперь ее ожидал мучительный терновый путь, а не игрушки с лампочками и шипами с иисусова венка. В больничных залах ожидания повторялись сцены моих фильмов. Сколько раз приходилось мне снимать посещения больных, сколько времени провел я в больничных коридорах во время съемок? Теперь я приходил сюда вовсе не ради съемок какого-нибудь больничного сериала.
После операции Сенка спустилась в больничный холл со второго этажа. Я поразился ее храбрости. Сразу же спросила она Майю:
— Нет ли у тебя, милая, сигареты?
Майя сразу же поспешила помочь только что перенесшей операцию свекрови. Прикурила две сигареты и одну дала ей. В запретах на курение Майя видела еще один обман Международного Сообщества.
— Да ну, я тебя умоляю, травят они нас миллионами машин и заводских труб, сбрасывают на нас бомбы, кормят дерьмом вместо еды, и теперь им, видите ли, табачный дым мешает. Какая цивилизация, обман же сплошной?
То, что Сенке захотелось курить, какой бы там вред не приносили сигареты человеку, было хорошим признаком. Позднее, когда она начала облучение и химиотерапию, ей захотелось оставить себе волосы. Не желала она становиться лысой. Каждый раз во время терапии ей клали на голову лед и, таким образом, волосы удалось сохранить. В конце химиотерапии она полюбила прогуливаться по магазинам на окраине Парижа и этим напомнила мне времена, когда мы жили на улице Кати Говорушич 9а. Тогда она, после рабочего дня на Строительном факультете и перед тем, как погрузиться в домашние дела, любила пройтись пешком до Илиджи. То, как далеко она добиралась от центра до окраины, было понятно по тому, как, когда мы попадали в далекую Илиджу, ее все время окликали работники универсамов и магазинчиков:
— Как настроение, соседка?
Вообще-то от центра, где мы жили, до Илиджи одиннадцать километров…
После смерти отца, мама черпала свою энергию уже не из биологических ресурсов организма. И, хотя говорить об этом она избегала, свою любовь и привязанность к мужу понимала она теперь как разделение его взглядов на жизнь. И раньше уважая его проницательность, после его смерти она поняла, что вся его жизнь, включая и политические взгляды, была основой их общей гармонии. И хотя ее раздражало, что Мурат любой разговор сводит к политике, все же она не раз была свидетельницей непогрешимости его оценок и предвидений. Он единственный в семье в точности предвидел развитие событий после смерти Тито и войну в Югославии. Помимо привычки не спать допоздна, когда в мире происходит что-то важное (например, Насер переметнулся с русской стороны на американскую), отец развил в Сенке наблюдательность. Поэтому во время распада Югославии она не забыла, что на самом деле эта уже уходящая в забвение страна была плодом нашей личной семейной борьбы, а также основой весьма удачной служебной карьеры отца. Она выросла в семье, где, после чудесного спасения ее отца, вакуфского полицейского в Королевстве Югославия, политические увлечения были не в чести. Мурат был первым партизаном, встреченным ей в жизни, и она сразу вышла за этого партизана замуж. Такие события не забываются. Поэтому, уже после войны, свой последний разговор с одной из сараевских подруг она прекратила, потому что та не согласилась, что вину за боснийскую войну следует делить на три части. Дозвонившись до Ханумицы Пипич, в чьем саду мы проводили летние сараевские ночи, она сказала ей:
— Ну что же все они натворили-то, а?
а Ханумица ей ответила:
— Ну, постой, все ж таки не все.
— Как так не все, все трое, ни одного невиновного тут нет! — имея в виду Изетбеговича, Караджича и Туджмана. А эта ее приятельница хотела Изетбеговича обелить, а Туджманом не интересовалась вовсе. На что Сенка обиделась и потом часто говорила:
— Бог ты мой, Эмир, совсем мусульмане ума лишились, правильно Мурат говорил!
Вспомнила она, как отец перед первыми еще выборами подчеркивал опасность всех этих сборищ, на которых поклонники изетбеговичевой политики грозили местью за притеснения, которым подвергались мусульмане в разные годы в Королевстве Югославия и во время Второй Мировой. Чтобы не волноваться и не ругаться, решила она не звонить даже родной сестре. С этой сестрой она близка не была, хотя и принимала участие в ее нелегкой судьбе. Когда я сказал ей, что как-то нехорошо не звонить тетке Изе, она ответила:
— Слишком многое произошло, Эмир, неспроста же была задумана эта война, теперь все мы разделены кровью, и дай Бог твоим внукам дожить до времен, когда эти раны затянутся. И хотя я в их страданиях не виновата, не могу сказать, что мне все это легко дается.
— Ну, не все так уж и пострадали, кого-кого задница спасла! — попытался я развеселить ее, и она улыбнулась.
Сенкина сестра Иза после смерти их брата переселилась к дочке Сабине, в чьей квартире на Белявах ее и застала война. Тетя по-прежнему страдала лишним весом, хотя и утверждала, что во время войны по сравнению с мирными временами ест чисто символически. С улыбкой вспомнила Сенка, как когда-то на ул. Кати Говорушич 9А этот чудовищный вес сестры Изы был использован практически. Время от времени Сенка затеивала стирку того самого китайского ковра, пролежавшего свой век под столом в гостиной в рамках программы по спасению дорогих вещей от быстрой порчи, и звала на помощь сестру. Наливала она корыто воды, а тетка Иза залезала на табуретку, ступала в корыто и всем своим весом утаптывала ковер, пока вода не мутнела от порошка и грязи.
В мирное время теткин вес приносил пользу родне, а во время войны спас ей жизнь. Во время одной из тяжелейших бомбардировок Сараево, гранатный осколок залетел в малозаметную улочку на Белявах, где спала тетка. На ее счастье попал он не куда-нибудь, а в задницу… Когда я рассказал об этом Сенке, она была ошарашена:
— То есть, ты хочешь сказать, что жизнь моей сестре спасла задница, да как тебе не стыдно, что тебе в голову такое приходит!
— Так это ж мне Эдо из Сараево рассказал!
Сначала Сенка вдоволь насмеялась, а потом сразу расстроилась, когда удивительная история о человеческой заднице в качестве средства спасения на войне отступила под тяжестью осознания того, что собственную сестру она не видела уже очень долго.
Во время войны старые воспоминания и размышления о своем происхождении обрели для меня особое значение. Из-за них-то я и начал писать рассказы, записывать воспоминания, смягчавшие мои терзания по поводу собственной идентичности. Тетке Изе не понравилась фактография моего рассказа «Земля и слезы», опубликованного в белградском «Нине» и которым начинается эта книга. Написала мне тетка Иза письмо, которое, как мне кажется, стоит привести ради его трогательного стиля и не менее потрясающего содержания. А также подтверждения факта, что задница действительно спасла теткину жизнь. Это письмо я никогда не показывал матери:
Дорогие Сенка и Эмир,
Пользуясь случаем посылаю через Дуню письмо. Во время войны я уже писала Сенке, но ответа не получила.
Слышала я про первую сенкину операцию, а потом, к сожалению, и про вторую. Больше всего меня занимает, как сейчас у Сенки со здоровьем. Часто вижу ее во сне и постоянно о ней думаю. Как твои дела, Эмир, и как все твои. У нас все помаленьку. Война прошлась по всем нам. Миллионы гранат упали на Сараево. Десять тысяч гражданских сараевцев пострадало, из них около 2000 детей. И в меня попала пуля, в 93-м году, в два часа дня. Влетела она через окно, повезло еще, что я лежала на боку, а то б мне конец.
Вот вчера увидела я смертовницу, а там Хидайет Чалкич, и он оказывается умер, как и Владо Бранкович. Мы с Хидайетом ходили в больницу к Сенке и тебе, Эмир, когда ты родился в 1954 году.
В «Днях», нашей сараевской газете, увидела я твою статью «Титаник снова тонет», и сразу же ее прочитала, потому что мне очень интересно все, что написано тобой.
Не согласна я с твоим описанием дедовой женитьбы, по-моему, все было не так. Во-первых, не было у деда никаких братьев, но были сестры, Зейфа и Иза. Моя тетка Иза умерла в детстве, а Зейфа в глубокой старости. Несколько раз говорил мне дед, что у Нуманкадичей всегда рождается только один сын. И дед его был единственным сыном, и отец, и сам он тоже. Это, Эмир, совершенно точно, потому что я хорошо знаю историю нашей семьи, поскольку после замужества жила с ними более десяти лет.
Сама мамуля часто рассказывала мне о своем замужестве, а еще к нам приходила Хатиджа Хаджиахметович, лично участвовавшая в умыкании. Мамуля с дедом любезничали друг с дружкой через окно, причем в женихах у нее недостатка не было, потому что она была красавицей из знатной беговской семьи. Перед свадьбой дедушка сказал ей: «Ханифа, я знаю, женихов у тебя много, но они все торговцы, а торговля занятие ненадежное, можно враз разориться. А же я на государственной службе и зарплата у меня надежная, а если умру раньше тебя, то ты получишь пенсию.»
И действительно, когда дед умер, мамуля получала за него пенсию, она мне все это сама рассказывала.
А теперь немного о Доньем Вакуфе, который тогда был совсем маленьким местечком. Двумя главными махалями была Донья44 махаля и Горная махаля, и еще несколько улиц между ними. Дед жил в Доньей махале и его семья владела двумя домами. Я и сейчас помню еще эти дома. Кроме того, он состоял на службе, поэтому бедность нам не грозила.
Мама же жила в Горней махале и к ней нужно было лезть в гору. У маминой родни там был дом с двором и садом, за которым они все время ухаживали, и летняя кухня, по-нашему «мутвак». А по дороге в сторону Травника большой земельный надел, где росли яблоки, сливы, груши и другие фрукты.
Теперь я перехожу к маминой свадьбе. Они с дедом договорились, что однажды ночью дед приедет за ней, потому что она знала, что именно этой ночью все ее родные уйдут в гости и они останутся с сестрой дома одни. Все свои вещи она собрала заранее, чтобы было легче бежать. В это время дед с Хатиджой ждали, сидя в пролетке под холмом. Сестра пошла молиться, а мамуля этим воспользовалась. Когда сестра закончила намаз, она увидела, что нашей мамы уже нету и заплакала: «Украли мою сестру Ханифу!».
И вот тут, Эмир, не было никаких дедовых братьев, не было и пистолета, о котором ты говоришь. У деда дома и рогатки детской не было, что подтверждает то, что склонностью к оружию он не обладал, да и не стал бы он грозить пистолетом сестре и старой бабке.
В Вакуфе родился в 1920-м году Акиф, а в 1924-м — и я. Деда как государственного служащего послали в Бугойно, где родилась Сенка. Там мы жили до 1939-го, когда деда перевели в Прозор. Брат Акиф учился в Баньей Луке, закончил торговую академию, и, когда в 44-м он получил работу в Сараево, мы все тоже туда переехали, потому что в Сараево безопасней. Остальное ты знаешь. Дорогой Эмир! Не стала бы я тебе всего этого писать, если бы ты сам не затронул эту тему. Если Сенка чувствует себя плохо, порви это письмо, чтобы лишний раз ее не волновать, я просто хотела, чтобы ты все это прочитал, потому что это касается твоих Дедушки и Бабушки.
Кланяюсь всем вашим, с любовью, Иза
Любовь моей тетки Изы к родителям, которую она выразила, написав Дедушка и Бабушка с большой буквы, столь же трогательна, сколь и ее приверженность достоверному изложению событий. Любопытна эта с трудом различаемая граница между тем, что происходило в действительности и тем, чего не было. И все же история об умыкании нашей мамули не порождение моей фантазии. Именно в таком виде услышал я ее в детстве от деда, пока больная мамуля разогревала пирог. Рассказал ли он эту историю именно так, чтобы развеселить больную жену и меня, не знаю. Сама она тоже слушала дедов рассказ, в который были привнесены элементы кино, пистолеты и прочий реквизит. Единственное, что остается мне после теткиного письма думать, это что той загадочной маминой улыбкой и взглядами, посылаемыми ей деду, она хотела сказать, что помнит как было на самом деле, но рада тому, что дедова версия их свадьбы забавляет ее внука.
После смерти их брата Акифа пришел черед сестрам Сенке и Изе обсуждать свои похороны и смерть. Тетка Иза не хотела, чтобы ее похороны ударили по дочкам Аиде и Сабине и опустошили их скудный семейный бюджет. Дядя Акиф был похоронен на семейном участке кладбища в Барах, и Иза предлагала выкопать его оттуда и устроить на этом месте семейный склеп. Так она смогла бы помочь своим детям сэкономить расходы на похороны, распределив их на всех членов семьи. Дуня Нуманкадич сразу же воспротивилась:
— Не надо тревожить моего мертвого отца и выкапывать его из могилы, что еще за ерунда.
Все эти события, вместе с пониманием, что однажды смерть придет и к тетке Изе и заберет причитающееся, сильно ее угнетали. Чтобы помочь сестре и поправить ее финансовое положение, Сенка незадолго до войны отдала ей всю свою заработанную на Строительном факультете пенсию. Как ни была она благодарна за это, Иза все же не смогла удержаться и не заметить:
— Тебя твой Эмир похоронит в золотом ковчеге, а что смогут мои бедные дети?
— Да перестань уже, Иза, похоронят как смогут, давай лучше о чем поинтересней поговорим!
— У меня, Сенка, паника — не могу ночью спать, боюсь червей!
— Каких червей, сестра? — спрашивала ее Сенка.
— Ведь похоронят меня по мусульманскому обряду, потому что это дешевле! Какая разница, пусть так, но я, Сенка, никак не могу ночью заснуть, как представлю себе, что меня замотают в одну только простыню и потом станут есть черви.
В тысячу девятьсот девяносто шестом, в самом конце войны, так и произошло: тетка Иза умерла и ее похоронили именно так, как ей при жизни не хотелось. Ее дети сделали это не вопреки ей, просто это было частью мусульманской веры, обретенной ими во время войны.
В отличие от большинства членов моей семьи, которые были такими домоседами, что осколки попадали в них прямо в кровати, до меня ни одна пуля долететь не могла.
Я постоянно мотался между Нью-Йорком и Парижем, последний семестр обучал студентов в Колумбийском университете и готовил с Душко Ковачевичем «Андерграунд». Майя в эти непростые времена боролась за поддержание семьи как волчица. Сумела даже сдать на права, хотя ранее не подавала никаких признаков наклонности к вождению. Получилось у нее справиться с отцовским смятением и страхом официальности, из-за которых тот так и остался без прав. Растила она детей, возила Дуню и Стрибора в школу, а Сенку на терапию. Я же понял, что единственный способ противостоять войне для меня это продолжить собственную борьбу. А собственная борьба, в моем случае, означала съемки фильма. В который уже раз подумал я об Андриче. Ведь он тоже избежал участия в войне, но самые лучшие вещи написал именно во время Второй мировой.
Для страховых компаний и «film finance» я после скандала с «Arizona Dream» стал одиозной фигурой, а без них невозможны были никакие новые проекты. Это означало, что нужно найти богатого продюсера, такого, чтобы не заставлял залезать в банковские кредиты. Из-за моих побегов со съемочной площадки и значительного перерасхода бюджета в мире кино все уже были уверены, что я на закате своей карьеры. И тогда, как много раз в моей жизни, произошел счастливый поворот событий, или, как сейчас говорят — бинго! Мне позвонил французский строительный магнат Буиг. Этот богатый человек уже однажды, когда мы жили в Нью-Йорке, посылал нам Пьера Эдельмана, парижского красавчика, чтобы сообщить, что этот богатейший из французов хотел бы финансировать мой фильм. Смотрел он, по его словам, с женой «Время цыган» и плакал. «Когда вспомню, как нелегко было снимать этот фильм, мне и самому хочется расплакаться», сказал я старому Буигу в его доме недалеко от президентского дворца в Париже. А Эдельман несколько раз повторил фразу, очень необычно в наши времена звучащую:
— Теперь ты сам все видел и слышал, старик не шутит, снимай что хочешь и сколько хочешь. Он богатый, все у него есть, но хочется еще и «Пальмы» и славы Каннского победителя.
Когда через шесть лет Буиг умер, по телевизору не говорили о его богатстве, никто не сказал, сколько у него там на счету денег. И это мне понравилось. Они сказали:
— Скончался человек, который, помимо прочего, построил атомный реактор в Иране, а дома у него на полке стоит «Золотая Пальма».
Паруса «Андерграунда» наполняли военные ветра. Эхо той войны ежедневно долетало до меня. После открытого перелома души, вирус этого несчастья проник в мое сердце. Главную роль в той войне играли телевизионные программы, подсовывавшие ложь вместо истины. Безудержно ширилась пропасть между реальностью и фикцией, правдой и ложью! Лгали все! Американцы, англичане, немцы, сербы, мусульмане! Через пять дней после начала войны телеканалы быстрей пули из калашникова распространяли новости о двухстах пятидесяти тысячах погибших. Похоже, что кто-то запланировал именно такое количество жертв, а потом делал все, чтобы его достичь. Таких результатов не могла добиться даже гитлеровская Германия. Было это временем расцвета пропаганды.
Опыт жизни при Тито и, в особенности, после его смерти, требовал воплощения в кино. Ведь Иво Андрич тоже лучшие свои произведения создал во время войны, нескромно думал я, хотя, конечно, причиной тому была не только война, беснующаяся перед глазами, разбивая иллюзии. Этот фильм назывался «Андерграунд» и был не титовой биографией, но мощнейшей картиной нашей трагической судьбы. Адресован он был тем, кто верит телевидению, другими словами, это был фильм о пропаганде.
Если скептически рассмотреть историю Тито, то поневоле задашься вопросом, кто же был этот человек, реальное лицо или самозванец вроде Стефана Малого45, и как это удавалось ему решать трагические вопросы, связанные с нашим народом? Все же необычно, что человек, не владеющий языком народа, над которым царит, становится не только предметом всеобщей любви, но достигает статуса божества. И тут кончается история Тито и начинается история всех нас. Не так важно то, кто он и откуда появился, как то, кто такие мы сами? Лично у меня, в отличие от отца, не связано с Тито никаких психологических проблем. Единственная формальная связь между мной и Тито, пионерская организация, была давно разорвана. Поскольку я не был уже пионером, а Союза Коммунистов Югославии мне удалось счастливо избежать, я относился к нему как типичный представитель чешского народа.
Телевизор в нашей гостиной был оплеван из-за отцовской личной нетерпимости к большевистскому монарху товарищу Тито. Но что бы не говорил о нем отец, невозможно забыть о пятидесятилетнем мире в нашей стране. Для Балкан это не так уж и мало. Все титовы уступки и компромиссы, нанесшие сербскому народу такой вред, не могли были быть осуществлены огульно, без нашей поддержки. Включая и Голый остров, и Косово. Критики утверждают, что эти успехи были частью общемирового прогресса и его личное участие не сыграло особой роли. С чем я согласиться не мог, особенно учитывая титово понимание, что экономического успеха невозможно добиться, не ответив на вопрос:
— Где в этой истории место для меня, — тем более в ситуации, когда в мире происходит дележка доходов от военной экономики. Ведь позволили же ему производить и продавать оружие воюющим сторонам в неприсоединившихся странах, в которых он был одним из лидеров!?
Время его правления было единственным в истории наших земель, когда доходы нашего бюджета достигали нескольких миллиардов долларов в год. Благодаря этим доходам и возник средний класс, живущий по-европейски, поддерживающий культурный, спортивный и научный уровень, сравнимый с уровнем стран с западной стороны Альп. Признавая все это, жизнь товарища Тито, к сожалению, была подтверждением того, что не только строители склонны к захвату чужого. Незаконное строительство — вот в чем была суть деятельности Иосипа Броза. На Балканах он появился во время Первой Мировой войны как вражеский солдат. Неважно, родился ли он в Кумровце, Закарпатье или где-то еще, где нам и не снилось. Главное, он был капралом австрийской армии и стрелял в наших патриотов во время войны, в которой мы потеряли два миллиона мужчин. Первую мировую он закончил демобилизованным солдатом проигравшей австро-венгерской армии, а во Второй мировой выступил уже на стороне победителей. Все как в запутанной мыльной опере. К нам он попал через Россию, чтобы организовать отпор немцам. Бывший австрийский капрал отлично умел балансировать между русскими и американцами. Во время войны немцы объявили в розыск не только его, но и Дражу Михайловича46 но потом Тито сумел вырвать портрет Михайловича из учебника истории, и получилось, что сопротивление немцам оказывал он один. Никто так и не смог объяснить, каким это образом четники, объявленные пособниками оккупантов, могли сотрудничать с немцами. Как это так, предатели прячутся по лесам, а не сидят по ресторанам, распивая с оккупантами пиво. В погоне за благосклонностью Черчилля Тито обогнал Дражу Михайловича, у которого англичане нашли в биографии пятно. Верил он в панславизм, состоял членом некоей панславистской организации в Болгарии и симпатизировал русским. Такого англичане простить не могли.
После войны Тито стал первой ласточкой холодной войны. Сразу после освобождения расправился он с Дражей Михайловичем, патриотом, сражавшимся против него в Первой Мировой войне, а во время Второй воевавшем в остатках королевской армии, преданной англичанами. Помимо всего прочего, Тито был символом англо-американского влияния на Балканах и их страха перед приходом русских в Европу. Поняв это, становятся ясны и причины нашего заискивания, то есть, полдела, считай, уже сделано. Что касается пропаганды, которую Тито применил к Югославии, то она была похожа на описанную в фильме «Андерграунд».
Насколько уместно было сравнение титовой жизни с незаконным строительством, лучше всего доказала его смерть. Был он похоронен в чужой земле и тем подтвердил эту свою особенность. Никогда и нигде в новейшей европейской истории не бывало, чтобы похороны президента Республики проводились как акт незаконного земельного захвата. Останки его были закопаны в землевладении господина Ацовича, архитектора и члена Королевского совета. Уход Тито не был путем в историю. Он был просто закопан в чужом дворе, потому что и жизнь свою провел в чужой шкуре. И тем подтвердил, что является лишь олицетворением очередного несчастного события в нашей истории. Олицетворением, которое мы полюбили. Человеком, про которого мы все помним, что он зарабатывал деньги на хозяйство нашей загубленной страны.
Если целый народ был способен верить и следовать за таким человеком, за вождем, мелодия языка которого поражает звучанием недостижимого далека, откуда он и появился, почему бы зрителям не поверить и в сюжет «Андерграунда». Там судьба сыграла злую шутку с людьми, запертыми в подземелье. Чтобы использовать их, им было сказано, что Вторая Мировая война еще не закончилась. Запущена машина пропаганды, сработавшая в закрытом подвале безукоризненно. Подчиненные верят, что снаружи власть в руках у фашистов, но когда-нибудь придет день освобождения. Что, учитывая методы, которые были к ним применены, не так уж далеко от истины. Царит ли фашизм в подвале, где живут люди, верящие, что Вторая мировая война еще продолжается, или снаружи?
Человек не способен распознать большой обман, потому что в организме его отсутствуют антитела ко лжи. И в реальной истории Тито, и в сюжете «Андерграунда», люди лгут, даже говоря истину, и было бы невозможно понять, что такое истина, если бы они не умели лгать. Проблема в том, что сейчас понятие истина никого особенно и не волнует, в мире, в котором инстинкты продолжения рода (по Фрейду) и инстинкты выживания (по Юнгу) заменены деньгами и потреблением, ставшими теми самими искрами, которые движут человеческие машины. Выходит, теперь истина досадна и не нужна большинству жителей этой планеты, да и вообще не особенно важна в человеческой жизни. А в истории и того меньше.
И как же, все таки, стала возможной такая невероятная история, как наша. Благодаря фильму «Андерграунд» и переплетениям его сюжета я заинтересовался еще одним устаревшим понятием из человеческого прошлого. Задумался я о морали! В основном, потому, что основой трагедии «Андерграунда» стала история о людях, закрытых в подвале, и пропагандистском механизме, поддерживавшем в них веру, что Вторая мировая война так и не закончилась, и в этом мне виделось, прежде всего, преступление против морали. Кто они, те перекройщики нашей истории, определявшие нормы морали и практического ее толкования? Когда-то это были толкователи Старого Завета, Марко Милянов, Ньегош. Позже, по свидетельствам современников, вопросами морали стали заниматься литературные кумиры. Но вскоре, помимо этических норм, утверждаемых литературой и кино, начал преобладать другой подход, и моральные нормы, начиная с морали футбольных фанатов и до правительственных органов, определял уже закон, основанный на идее, описанной в популярных журналах для строителей-непрофессионалов. Имеется в виду строительство по принципу «сам себе мастер», только применительно к морали. Этот другой подход постепенно завоевывал новые позиции, потому что прежние, церковные и философские обоснования моральных законов находились вне русла, в котором воспитывалась большая часть населения. В конце концов самая идея моральности стала чем-то вроде изысканного чудачества и моральный императив исчез вместе с идеализмом. Когда идеализм стал считаться пороком для современного человека, пропали и моральные нормы.
Я вырос в квартале, в котором, кроме чиновников государственной службы и военных жила еще и цыганская беднота. В таких условиях, ложь не считалась тяжелым моральным проступком. Но позже я учился в одном из центров среднеевропейской культуры, где подобные представления об истине и лжи были не в ходу. После учебы всю оставшуюся жизнь я пытаюсь разобраться с этими двумя мирами.
Балканцы живут одной ногой на асфальте, а другую пытаются вытащить из сельской грязи. Обзывая кого-то козломордой деревенщиной, они делают это, стоя на одной ноге, городской, конечно. Но это значит, что оскорбление это ушло от них совсем недалеко — и обзывают они сами себя. Потому что эта другая нога, застрявшая в грязи, свидетельствует именно о том, что первая, городская, относится к вопросам морали поверхностно, особенно к их истокам, не понимая, что полученное ею от второй увязшей в сельской грязи ноги становится ее историческим капиталом.
В одной деревушке возле Ужице, селяне на вопрос, что такое мораль, поначалу смотрели в ответ неуверенно. Будто ждали, что кто-то шепнет им правильный ответ. Это травма, оставшаяся от школы, куда их водили насильно. Поскольку ничего похожего не происходило, помолчали они еще секунд десять, а потом один из них громыхнул, будто из пушки:
— Морально, это то, что ты должен делать!47
А когда их спросили, что такое «неморально», они сделали логический вывод:
— Неморально, это то, что ты делать не должен!48
Впрочем, логика тут не играет большой роли. Потому что лучше и не скажешь. Даже самым умным представителям нашего народа нелегко было бы найти такое поразительное определение морали. К тому же немаловажно, что этой логикой руководствуется и самая мощная в мире экономика. И кто бы мог сказать, что около Ужице можно услышать лучшее определение такого непростого понятия, как мораль?
Этот языческий способ определения морали позволил сербскому крестьянину сберечь много трудов и усилий. Так он показал, что его моральные нормы происходит не из книг, начиная со старозаветных и до философских трактатов, а от языческого здравого смысла. У крестьянина из деревушки возле Ужице не было ни своих Канта с Гегелем, ни истории, в ходе которой были разработаны определяющие понятие морали законы, и, в общем-то, своего мнения по этому поводу он и не имел. Спросив себя озадаченно:
— Где в этой истории место для меня? — он остался в стороне от многомудрых толкований и Бога, в котором сомневался, потому что мало в него верил, но ощущал потребность прославлять его свечками и иконками. Что делал он с незапамятных времен, еще до того, когда верующему был оставлен только один Бог, когда богов было не перечесть.
В Америке же пытались убить своего Бога уже давно, и когда это не получилось, ему просто нашли место. Требовал этого, в том числе, и научный прогресс. Потребность в отрицании Бога нарастала вместе с научными достижениями — вопреки факту, что величайшие ученые были людьми религиозными. И для Бога была разработана новая концепция. Этот Бог, отделившись от католического Бога, отплыл от европейских берегов Атлантики, добрался до Америки и обосновался на Восточном побережье. Там, благодаря бурной истории, геноциду индейцев, дикому капитализму и гражданской войне, Богу тоже пришлось нелегко. Сбежал он, в конце концов, в Голливуд, где и доныне живет. Была американскому Богу торжественно вручена роль лучшего актера, то есть величайшей из всех звезд, и был он поставлен на вершину пирамиды, где, как и другие звезды и прочие светила, служит новой цивилизации. Смирился он с тем, что в новые времена научного расцвета возник новый человек, хай-тек-язычник, которому нелегко поверить в классического Бога. Так Господь признал, что теперь он celebrity и перестал задавать вопросы. Стало ему так комфортно, что больше он ни о чем и не беспокоился. И не только в Америке, но и в большей части современного мира.
А что с тем крестьянином из деревушки около Ужице? Как теперь ответил он на вопрос:
— Где в этой истории место для меня?
А он все там же, помалкивает и ведет себя согласно собственной теории. Ничего не известно ему о терновом пути, пройденном страстотерпцем американским Богом, который бежал от инквизиции, спасая знание от костра и пыток. Все это время великий толкователь морали из Ужице не переставал зажигать свечки перед иконками, а про Бога вспоминал лишь по необходимости. Иногда тот появлялся в пределах видимости, иногда его совсем не было. И когда американцы вывели Бога из употребления, ужицкому моралисту изменять своим привычкам не пришлось. Для него уже веками все остается неизменным. Сам того не подозревая, он стал звеном между американским прошлым и настоящим. И это удивительное преображение моральных норм, возврат к пониманию их моралистом из Ужице, вместе с разработкой новых видов этики, ощущается сегодня повсюду. И когда американцы готовят свои очередные бомбардировки, ставшие сейчас чем-то вроде театрального представления, когда вся планета с нетерпением ждет очередного действия, они тоже опираются на мораль. Чтобы защитить комфорт своего голливудского Господа, свои военные акции в Ираке они оправдывают по телевидению в манере крестьянина из окрестностей Ужице. Эти бомбардировки просто «должны быть». И вся военная операция немедленно провозглашается моральной. Значит, то, что «должно быть» — морально, и по всем телеканалам разрушения и бомбардировки представляются способом защиты морали и цивилизации, и тут мы добираемся до того самого вымученного ответа на вопрос что такое мораль. Тогда припертый в угол крестьянин из окрестностей Ужице смущенно пробормотал, что морально — то, что ты должен делать, теперь американские морские пехотинцы этот тезис применяют на практике. Защищая этические нормы своего государства.
И если, взяв за плечи, тряхануть как следует эту голову, подобно крестьянину, стрясывающему с дерева сливы, чтобы гнать из них ракию, вряд ли на стол высыпались бы какие-то особо сложные моральные конструкции, подходящие для фильма «Андерграунд» и ответа на вопрос, чем же так привлекательна для человека жизнь во лжи. Моя мама никогда не хвалила меня так, чтобы это было слышно соседям. Но когда какая-нибудь соседка хотела похвалить своего сына, выразить неприкрытое удовольствие от его поступков во внешнем мире, она говорила это так:
— Этот мой Самир, маленький бандит, вот ведь умница!
Вот как проявляются моральные суждения в жизни, отягощенной вековой бедностью и нелегкой историей, при равнодушном отношении к Богу. В таких условиях мать ласково говорит сыну «бандитик мой маленький» и это никого не удивляет. Этот маленький мамин бандит вполне приемлем для общества. Куда больше, чем образованный и трудолюбивый.
Так что я решил, что этот анекдот о людях, считающих, что Вторая мировая война еще не окончена, на самом деле просто шутка по сравнению с ложью, в которой живет современный мир.
Этот фильм создавался от конца к началу. Чем он закончится я знал сразу, а вот начало пришло потом. Придумал я на речном полуострове, соединенном с берегом небольшим перешейком, устроить свадьбу. Этот праздник стал бы судьбоносным символом, как в кульминации «Алмаза и пепла» Анджея Вайды, и эпилогом фильма «Андерграунд». На этой свадьбе веселились бы воскресшие персонажи фильма, все в стиле моих предыдущих фильмов, но потом я бы резко от этого стиля отошел. Вдруг неожиданно треснула бы земля, и трещина пошла прямо через свадебный стол, речной поток утащил часть земли с гостями вниз по реке, а они так ничего бы и не заметили, и продолжали прыгать по столам, плясать и есть. Отчаливший прочь кусочек дионисийских Балкан.
Такое у меня тогда и было чувство, что сама земля трещит у нас под ногами, и потому сначала я снял этот эпилог. И если бы я снимал продолжение «Андерграунда» сейчас, то, снова, знал бы, чем он закончится. Теперь земля не стала бы трескаться. В конце фильма треснули бы небеса. Такой ход мыслей подводит к пропасти, перед которой человеку, перенесшему столько потерь, так нелегко остановиться, чтобы не погибнуть. Чтобы избежать лишней патетики, я сделал бы, чтоб на расколовшиеся небеса смотрела та самая мышь из моей кроссовки, доставшейся в наследство от офицера в самом начале, оно же и конец, моей спортивной карьеры. Больше не надо было ей бежать почетный круг по кошевскому стадиону. Вместо этого ей досталась бы комментаторская роль хора в древнегреческих трагедиях. В конце истории планеты Земля и фильма «Андерграунд», мышь громко задала бы вопрос:
— Ну и, где в этой истории место для меня? — и разочарованно добавила бы:
— И что это стряслось с людьми, что они так глупо профукали свой единственный шанс? Ну они ладно, они сами все это затеяли, а мы-то, остальные, с какого перепугу страдать должны?!?
Сын отца Диониса
В тысячу девятьсот девяносто пятом в Париже подписан был Дейтонский договор, ставший окончанием войны в Боснии. Милошевич, Туджман и Изетбегович подписали мир. Те самые деятели, которые ввели нас в демократию, а потом сразу же и в войну, теперь повели нас к миру. И я понял, что закончившаяся война подтвердила старый тезис Андрича о том, что войны никогда не решают наших проблем, но создают новые, которые мы должны будем решать опять, новыми войнами.
В том же году «Андерграунд» победил в Каннах, и я получил вторую «Золотую пальму». На этот раз мой фильм выиграл пальму не благодаря западной конъюнктуре тысяча девятьсот восемьдесят пятого года, когда «Папа в командировке» удачно дополнил картинку краха восточноевропейских коммунистических режимов. Если бы я знал, что буду использован как разменная антикоммунистическая карта, этот фильм никогда не был бы снят. Возможно, что-то похожее чувствуют сегодня те, кто эту награду мне тогда присудил, когда видят, куда обернулись мои нынешние политические взгляды. Думаю, запросто могли бы они потребовать эту «Пальму» вернуть.
«Андерграунд» был сделан в другом стиле. На этот раз именно эстетика фильма раздула огонек моей счастливой фестивальной звезды, той самой звездной искорки, которая поначалу была прибита к пасмурному зеницкому небу, а потом просто перемещалась от Венеции до Канн, Берлина и дальше. Думаю, члены каннского жюри склонились на мою сторону во многом благодаря ажиотажу, вызванному показом «Андерграунда» в «Гранд-пале», большом зале Каннского фестиваля. Один кинокритик написал, что я прямой потомок бога Диониса. Это он, конечно, загнул, и кто знает, что сказали бы сегодня эти знатоки. Хотел я поблагодарить за комплимент и выказать свою скромность, но, к сожалению, ляпнул глупость, причем духу признать это у меня не хватило.
Сказал я по-французски:
— На самом деле, я сын отца Диониса.
Он посмотрел на меня с удивлением и спросил:
— Тогда, раз вы не Дионис, получается, вы его брат?
— Нет, — упрямо настаивал я на своем: — Я сын отца Диониса.
Критик посмотрел на меня с удивлением, потом наконец улыбнулся и сказал:
— Ну, ладно, хоть это и бессмысленно, зато звучит хорошо, пусть так и будет! Значит, если я так напишу, вы не возражаете?
Разобраться в этой мысли я больше не пытался. Была она следствием одновременного приема снотворных таблеток и пива. Это сочетание заставляет мозг работать вдвое быстрей, при этом совершенно убивая здравый смысл. Что было единственным способом выжить в фестивальном аду. В конце концов я перестал эту глупость вспоминать и согласился с французским критиком. Звучит неплохо.
Решение о присуждении мне награды выросло из глубочайшей ностальгии членов каннского жюри. Они тосковали, что нету больше ни Бунюэля, ни Феллини, ни Бертолуччи, а я им, в конце двадцатого века, напомнил о прошлом. Сейчас уже понятно, что на мою судьбу повлияли две вещи. В анализ их психологических побуждений я влезать не стану, а то это закончится чем-то в духе Достоевского, а это не fancy 49. Проблема в том, что эти побуждения, в которых специалистом и был Достоевский, больше никому не интересны. Глубины человеческой души, проклятые вопросы человеческого существования, кого это сейчас занимает. Гений Достоевского и в самой России вовсе не так популярен, как мог бы. Там все больше на Толстом и Пушкине подвисают, как и критики журнала «Тайм», поставившие Толстого на первое место, а Достоевского не упомянувшие даже в первой сотне лучших писателей мира. И это не первый раз, когда русские ошибаются вместе с журналом «Тайм».
В моем же случае, похоже, что я исполнил нескромное отцовское желание:
— Не можешь стать Феллини, стань хоть Де Сикой.
Так и получилось, хотя истинной моей целью было просто не стыдиться того, что делаю. И не более того. Судя по всему, для успеха фильма это оказалось определяющим. И в кино, и в жизни мною владело унаследованное сенкино упрямство, выражавшееся в необходимости помешать соседям воровать лампочки в лифте на улице Кати Говорушич 9А. Будто я принимал участие в борьбе из прошлого, когда мама упражнялась в искусстве оклеивания лампочек шипами.
В журнале «Тайм» появилось мое фото, но в заметке критика Ричарда Корлиса писалось не о победе фильма «Андегрунд». Реакция журналиста «Тайм» была похожа на ту, которую произвел фильм «Вспоминаешь ли Долли Белл?», четырнадцатью годами ранее в Венеции. В сентябре тысяча девятьсот восемьдесят первого года, в фестивальных новостях, в том же журнале было написано:
— Победил фильм, пришедший Ниоткуда и снятый Никем…
И точно так же, о самом фильме ничего сказано не было. Такая колониальная шуточка, довольно беззлобная. Только вот колониальная. Это был язык западной «cool»-культуры. Но с течением времени все изменилось и на этот раз в Каннах победил фильм, снятый уже Кем-то. Это чувствовалось по реакции критиков, хотя нашлись среди них и такие, кто этот факт отрицал. К ним относился и я, и сам иногда (к счастью, не так часто) сомневавшийся, что за это время стал Кем-то.
После победы «Андерграунда» о самом фильме газетчикам писать было недосуг, потому что куда интересней была массовая драка на пляже перед отелем «Мартинез». Теперь, значит, этот режиссер празднует победу, участвуя в массовой драке?! Все подчеркивали мой «дикарский характер». Есть такая старая индейская мудрость, когда дерешься кулаком и тупыми предметами, тогда в порядке вещей назвать тебя дикарем и варваром. А когда сбрасываешь тонны бомб, включая атомную, то тут ты, конечно, преподаешь урок цивилизации. Я же тем вечером в 1995-м году преподал урок Диониса. Свой особый норов «Андерграунд» перенес с экрана и из актового зала, где ему была присуждена «Золотая Пальма», на песчаный пляж «Мартинеза».
В «Гранд-пале» блистал мой греческий коллега Тео Ангелопулос. Уверен он был в том, что тем вечером именно ему достанется главный приз фестиваля. И теперь очень по этому поводу переживал. Видел я, как торжественно идет он в луче софитов по красному ковру. Взявшись за руки, он, его актеры и члены съемочной группы торжественно шли к «Золотой Пальме». И непросто было Тео Ангелопулосу смириться с тем, что он получил только Гран-При:
— Я готовил речь к «Золотой Пальме», а не к специальному призу, так что мне нечего вам сказать… — сообщил на церемонии греческий режиссер.
За два дня до того этот мизантроп спрашивал в «Херальд Трибьюн»:
— За что тут, в Каннах, все так любят этого Кустурицу? В его фильмах люди только едят, пьют да пляшут, что это за кинематография? Где тут мысль, рефлексия?
Грек пытался делать фильмы в стиле «cool» и гордился тем, что рожден в Хайдельберге, а не пригородах Афин. Он и кино-то снимал чтобы высказать свою любовь к немецкой классической философии, а не из потребности, чтобы род человеческий ощутил теплоту его творений. Будто не зная, что в Голливуде уже давно доказано, что фильм это больше чем жизнь. Во время торжественной церемонии Дуня Кустурица неожиданно повзрослела. После пресс-конференции, перед фотографированием, она мне тихонечко шепнула:
— Смотри, Эмир, вон тот! — и показала на Ангелопулоса. — Он, при случае, у тебя «Пальму» украдет! Видела я, как он на нее смотрит, пока она стояла на столе.
Твердо держал я в руках золотую штуковину и, подзуженный предупреждением дочери, обнял греческого режиссера и отвел его в сторону. Он удивился, а я без особых угрызений совести сказал ему:
— Тео, одолжу тебе «Пальму», можешь пройтись с ней кружок-другой вокруг «Гранд-пале», но потом сразу отдавай мою игрушку!
Он смотрел на меня взглядом, полным нескрываемой ненависти и сожаления, что не может врезать мне по носу. Что, после всего, в общем-то, можно было понять.
Во всех участниках дионисийского пира прослеживались черты персонажей фильма «Андерграунд». Все, что Ангелопулос ненавидел, надеясь победить в Каннах.
Издали бросалась в глаза Кароль Буке, в своем красном в складку платье, будто явившаяся на пляж «Мартинеза» из прошлого, с какого-нибудь королевского приема. Куда бы ни посмотрел гость приема сына отца Диониса, везде видел он лицо Кароль Буке. То самое невинное, взывающее к мужской защите лицо, благодаря которому и получила Кароль главную роль в фильме Бунюэля «Этот смутный объект желания». Сначала она бродила по песчаному пляжу с бокалом шампанского в руке. Позже вечером разметало ее по пляжу восточными ритмами оркестра трубачей «Салиевич». Скоро она напилась и стала еще ближе дионисийскому идеалу: женщина в ночи, одержимая танцем и алкоголем, не знающая удержу в экспериментах страсти. Сопровождал ее Пьер Эдельман, тот самый костюмер, красавчик и посланник богача, привезший в Нью-Йорк весть, что на съемки «Андерграунда» есть деньги. И этот Эдельман стал одним из триумфаторов вечера. Но задача перед ним стояла непростая. Как наслаждаться победой и удержать красавицу, чья эротичность никогда ранее не казалась вульгарной и броской. Скорей ранимая натура и боль несыгранных ролей заставили ее сегодня напиться до беспамятства, чем эротичность, едва в ней проявленная. Танцевал Пьер непринужденно, пока этот танец был обычным вихлянием. Но и позже, когда Кароль легла на песок, он старательно повторил ее движения и лег рядом, ухмыляясь.
Эти декадентские пляски продолжались до бесконечности, пока на сцене действия, определенно напоминающем фильм «Ночь» Микеланджело Антониони, не появился один, неизбежный в таких обстоятельствах, тип. Тупая и агрессивная деревенщина с гор, он заметил:
— Эээ, братан, чего ждешь, жарь телку! Знаю я таких, с этими курвами надо сразу к делу, вот что… — сказал Печа Ди Бой, некогда популярная звезда рок-н-ролла Югославии. Непонятно как удалось ему пробраться на пир сына отца Диониса. Не знаю, заметила ли Кароль появление этого омерзительного типа, но я всегда презирал невежественность динарцев50, сломя голову бегающих за женщинами, напоминающими им собственных матерей. Ворочающаяся в песке Кароль все больше оправдывала свое решение стать рекламной моделью в парфюмерной индустрии. Вершины своей карьеры она достигла не сыграв свою первую роль в бунюэлевском фильме, ставшую ее высшим художественным достижением, но когда ее лицо появилось на духах «Шанель № 5». Случилось это во времена, когда слава актера или актрисы создавались уже не их великими ролями. Ален Делон играл в сотнях бездарных фильмов, а ведь он же сыграл Рокко в фильме «Рокко и его братья» Висконти. Теперь эти времена остались в далеком прошлом. Из-за того, что ни одну из великих ролей ей больше не довелось сыграть, это ее целомудренное лицо осталось каким-то нетронутым. Красивое, но пресыщенное, и, конечно, манящее. Печа Ди Бой понимал свободу по другому, чем она, и ему хотелось, чтобы это он валялся на песке с пьяной женщиной. Когда он уже в который раз ущипнул ее, Кароль наконец увидела Печу и испугалась его лица. Тогда красавчик Пьер взял бокал шампанского и выплеснул Пече в лицо. Обрызгал он этим шампанским и окружающих, и тогда телохранители Джонни встали на защиту дорогой гостьи Кароль. Драка началась, когда Стрибор и Джордже решили, что любой человек из наших, даже этот отвратительный Печа Ди Бой, должны быть этим вечером под нашей защитой. Не приняв во внимание то, что телохранители Джонни просто хотели по-джентльменски защитить Кароль Буке от Печи Ди Боя. После изрядных оплеух, сцена пляжа из торжественного праздника превратилась в какой-то каламбур. Тут мне сразу вспомнилась картина чешского художника Йозефа Лады, поэтично изображавшего кабацкие драки: в воздух летели столы, стулья, бутылки. Можно ли было без этого обойтись? Конечно, можно, но случилось то, что случилось. Так же, как случилась и война. С той разницей, что здесь никто не получал доходов от военной экономики. Еще бессмысленней спрашивать, обязательно ли было Стрибору и свояку Джордже прыгать на людей, которые собрались по-джентльменски защитить Кароль Буке, которую никто из нас и пальцем не тронул. И более того, были мы с ней старые знакомые, и если б кто другой на нее не так посмотрел, то наверняка Стрибор и свояк Джордже защищали бы ее как родную сестру.
Пир сына отца Диониса судьба срежиссировала как серию эпизодов, мало похожих на классическую трагедию. Актер Лазарь Ристовский одной рукой завалил какого-то типа на пол в точности как в фильме «Андерграунд». Стриборов приятель Мики Хршум только что вернулся с боснийской войны и бил исключительно головой. Когда кто-нибудь приближался к нему, он бил его в лоб головой и говорил:
— Маму тебе выебу, тварь усташская!
Когда к нему, с целью успокоить, подошел сын моей знакомой из Парижа, то Мики и ему, как и остальным, вмазал головой и сказал: «Маму твою выебу усташскую!», хотя мама его была француженкой, а французы с усташским движением не имели ничего общего. Стрибор сражался с тремя типами, которые взялись вообще не пойми откуда. Отметелил их юный Кустурица по самое нехочу, и, когда они разбежались кто куда, появились те самые телохранители и снова поперли на него. В отличие от меня, Майя это увидела. Мать всегда знает, что с ее детьми, даже когда их не видит. Я поначалу растерялся, одурманенный вышеупомянутым коктейлем — апаурином с пивом. Мама Майя побежала за типами, тащившими Стрибора к морю, схватила стул и стала бить им их по спинам и кричать:
— Это мой сын, оставьте его в покое, слышите, вы, идиоты?
И тут на ступенях появились жандармы и женщины, естественно, ждали от них вмешательства и прекращения драки, но этого не произошло, и, когда они уходили, Майя кричала им вслед:
— Вот так вы в Марселе в тридцать четвертом дали этим усташам убить нашего короля Александра!
А я был горд похвалой. Когда тебя собственная жена в тяжелый момент сравнивает с королем, это что-нибудь да значит. Вот чего не знал тот критик из «Тайма», вот о чем не написал он в своей статье! Не будь драки, я уверен, никогда Майя не назвала бы меня королем. Она, в общем-то, была скупа на комплименты в мой адрес. Что для наших с ней отношений было полезно, потому что я с трудом переношу щедрую похвалу. Хуже всего с руками, совершенно не знаю я, куда девать руки, когда меня кто-то слишком захваливает. Гораздо ценней мне скупые слова одобрения, сказанные походя. И в этом сравнении с королем, судьба была ко мне благосклонней, чем к нашему монарху. В отличие от него, я мог защищаться.
Джим Джармуш смотрел на «Золотую пальму», вытаращив глаза, в которых было написано:
— Ну как же можно таким вот образом праздновать победу в Каннах?
Размышления его прервал Мики Манойлович. Джим видел, как Мики схватил «Пальму» и вынес ее под смокингом с пляжа. Сделал он так, испугавшись, что золото может быть украдено. В суматохе я не видел Джонни, но знаю, как увидел он всю эту ситуацию. Не сомневаюсь, что был он ошарашен, но у него хорошее чувство юмора, и, думаю, парочку раз он улыбнулся.
Именно тогда Вилко Филач, человек, державший в своих руках камеру — глаз всех моих фильмов, почувствовал, что устал уже от моей дионисийской натуры. «Слишком много заварух вокруг этого человека», подумал он, уходя с пляжа гостиницы «Мартинез» со своей женой Франьо. И я понял, что совместного со мной будущего он больше не видит. Фильмы, снятые нами вместе, не стали бы тем, чем они стали, будь они сняты другой камерой. Это верно, как верно и то, что на его вкус и для его жизненных целей эта безобразная драка была уже явным перебором. Во время съемок «Андерграунда» он показывал блестящие результаты, но время от времени намекал, что время нашего сотрудничества близится к концу. Не могу сказать о нем ничего плохого, или упрекнуть в чем-то, что могло бы разрушить нашу великую дружбу или умалить наши совместные творческие взлеты. Видя, как Вилко в обнимку с Франьо уходит с пляжа гостиницы «Мартинез», я знал, что он уходит и из моей жизни.
Увидев, как Майя бьет телохранителей стулом по плечам, чтобы заставить их отпустить Стрибора, Дуня заплакала от страха! Я помчался на помощь. Теперь задачей сына отца Диониса было завершить пир. Который закончился, как в классической драме, когда иссякла энергия противоборствующих сторон, или, точнее, кончились силы у всех, потому что в тот вечер трудно было понять кто против кого и где находится враг. Ходили слухи о каких-то провокаторах, которых подослали все это устроить, иностранные спецслужбы и все такое. Я же думаю, что та ночь победителей не состоялась бы, если б заразный катарсис из фильма «Андерграунд» не просочился в жизнь. И еще, уверен, все это случилось, потому что меня пытались убедить, что я брат Диониса, а я не согласился. Мне больше нравилось быть сыном дионисова отца.
Конец второго тайма пира сына дионисова отца наступил, когда какой-то молодой человек вдруг побежал вниз по ступеням каннской набережной к пляжу. Выглядел он как шахид, бегущий к своей жертве, весь обвешанный бомбами. Но даже будь у него какие-нибудь бомбы, он не успел бы их взорвать. Выскочил я на него сбоку и хладнокровно врезал с разбегу в подбородок. Это и стало концом драки, потому что все испугались, что юноша погиб, ударившись головой о мостовую. В который уже в своей жизни раз вспомнил я Достоевского и спросил себя: «Неужто сегодня же вечером за преступлением последует наказание? Неужто окажусь я в тюрьме?». Потерявшего сознание юношу я положил на стол и мы облили его водой. К счастью, скоро он открыл глаза, посмотрел на меня с ужасом и убежал… Был это один из той троицы, что навалилась на Стрибора до того, как Майя заметила, что кто-то ударил ее сына.
Через пять дней после празднования в Каннах, моя мама упала без сознания в своей герцегновской квартире. Совершенно, как утверждали врачи, излеченная от рака груди, теперь она заболела из-за опухоли мозга. Мы с Майей полетели в Рисан и нашли Сенку сидящей с сигаретой. Заплакала она и спросила меня:
— За что мне все эти напасти, Эмир?
Попытался я ее подбодрить:
— Что бы ни было, Сенка, ты от этого не умрешь!
Она расплакалась еще сильнее, но по ее объятиям я ощутил, что поверила. Повезли мы ее в белградский Клинический центр, где ее прооперировал доктор Йоксимович. Опухоль была доброкачественной и Сенка быстро пошла на поправку. Когда к ней на посещение пришел Доктор Неле Карайлич, был он рад найти ее смеющейся. Когда она спросила его:
— Неле, спичек не найдется? — Неле с радостью прикурил ей сигарету и заметил:
— Тебя, Сенка, и топором не возьмешь!
Когда войне пришел войне, тот самый снесший молотом памятник Андричу палач стал жаловаться журналистам, как сильно испакостила война ему жизнь. Не только не поставили ему памятника, но даже ветерана войны не дали. Прогнали его умники, обозвав проходимцем, не помог ни Аллах, ни американцы. Дом его наводнение потопило на пути к Байиной Баште, а из великой мечты затопить Дединье не вышло ничего. Даже вернуться в Незуки он не мог, потому что правосудием Республики Сербской за уничтожение памятника Андричу был приговорен к пяти годам тюрьмы. Шабанович заявил, что сожалеет о сделанном, и что его подговорили умники, Бехмен и Ганич, обещавшие, как утверждал он, ему за это лавку у Дженетича Чикмы на Башчаршии, и, хотя он выполнил обещанное, никакой лавки так и не получил. Самое в этой истории интересное, что теперь он утверждает, что Андрич больше босниец, чем все эти умники, втянувшие его в акт вандализма, вместе взятые.
— Я сделал это потому, что мне сказали, что это приведет нас в Европу, — сказал Шабанович и уехал в Америку. Вспомнил я про воспитательные меры по принуждению ныне обманутого Шабановича к прочтению произведений Андрича. По-прежнему уверен, что подобные меры необходимо применять к людям, склонным к насилию. На них они, может, и подействовали бы, но не на Изетбеговича, который, поддерживаемый силами небесными, был рьяно настроен против нашего нобелевского лауреата. Президент этот, между тем, налаживал для боснийцев мирную жизнь, и я подумал вот что:
— Раз уж он позвал на помощь американцев, чтобы они закончили войну и написали ему Конституцию государства, в котором он президент, мог бы хоть попросить чего-то большего, чем участи протектората!
Очень тяжело было мне думать, что больше никогда не попаду я в родной город. И не из-за чувства вины или какой-то там особой любви к горной расселине, в которой располагается город Сараево.
Просто, даже после всего происшедшего, после бесчисленного скотства, совершенного во время войны, угнетало меня кое-что совсем личное. И главную роль в этом сыграл кофе. Мой родной город остался единственным в мире местом, где существовали необходимые для меня условия проведения важнейшего ритуала кофепития. Одно из самых важных в моей жизни социальных действий было связано с этим восточным пороком. И эта единственная моя серьезная зависимость называлась «кофе с консенсусом»! Кофе, который пьется с единомышленниками, понимающими важность песен «Стоунс». «Start me up!» . Разговоры до рассвета, во время которых собеседники не заостряют различий. Такое кофепитие не назвать демократическим и именно за это я и люблю кофе с консенсусом! Начинающийся без такого кофе день не имеет шансов развиться в правильном направлении. Если пропустишь этот ритуал, день пойдет насмарку, такое вот чистое суеверие. Выслушав эти мои соображения, один добронамеренный человек решил, что это просто ширма, за которой я прячу свое необоримое желание вернуться в родные края. Спросил он меня:
— А тебе снится Сараево?
— Только однажды во сне посетил я Сараево. Это был кошмар, в котором я сидел согнувшись на заднем сиденье автомобиля без номеров, едущего по знакомым улицам, по которым ходили незнакомые люди, и это меня ужаснуло.
Если бы я, каким-то чудом, оказался вдруг в Сараево, то сходил бы ради интереса попить кофе в «Шеталиште». Естественно, и этому кофе потребовался бы консенсус, как я уже объяснял. Но для этого и мне, и тому, с кем я этот кофе пью, нельзя было бы затрагивать практически ни одну из тем. Ситуация держалась бы под контролем, только если бы мы вели общий, гуманистический разговор. Всякое там «люблю все народы, никого не ненавижу, в семье не без урода и т. д.». Но если бы я отважился попробовать, за кофе, упомянуть о страданиях и жертвах другой стороны, сразу пропал бы консенсус, а вместе с ним и кофе. Потому что нет сербам прощения. Мы, сербы, придумали и эту, и все остальные войны. Если бы я зашел еще на одну чашечку в гостиницу «Европа», то там консенсус подразумевал бы, что всех сербов надо «прогнать в Россию». На улице Воеводы Степы выяснилось бы, что Гаврила Принцип был террористом. С подобными высказываниями согласиться я бы не смог. И не только потому, что Гаврила убил престолонаследника не в Вене, а тут на Миляцке, куда тот заявился оккупантом. Но и потому еще, что кофе без консенсуса пить просто невозможно. Когда я сказал это одному приятелю родом из наших мест, он удивился:
— Ну так кто тебя за язык-то тянет обсуждать все эти щекотливые темы, выпей кофейку, промолчи о чем думаешь, и вот тебе и мирная Босния, делай потом, что хочешь!
Не понял этот мой приятель, что, даже когда я сижу и молчу, это на самом деле я так говорю. Ведь я же не часть фонетического закона Вука Караджича, гласящего «пиши как говоришь». Я больше поборник идеи — пиши, как думаешь. Один восточный мыслитель и писатель по этому поводу сказал: «Смирившись со смертью, говори от сердца».
Приношу я Сенке суп в Клинический Центр Белграда, где она поправляется после операции, и говорю о том, как я огорчен, что никогда больше не приеду в Сараево. А ей непонятно — с чего это я, и смотрит она на меня с удивлением, будто думает: «И чего это ему сейчас в голову-то пришло?». Потому что знает, что обычно мне такая чувствительность не свойственна. Дует на ложку, чтобы суп остыл, делает глоточек, и потом пытается меня подбодрить:
— Они, дорогой мой, тебя не заслуживают, ну, а я туда съезжу, когда выйду из больницы. Не хочу, чтоб им наша квартира досталась, пока я жива!
И снова молчит, и смотрит на меня, пытаясь проникнуть в мою печаль.
— Неужто тебе и впрямь сейчас так тяжело? — спрашивает Сенка.
Ну, конечно, что еще может сказать мама, переживающая, как бы сына не затянуло в депрессию.
— Просто подумал, что хотелось бы выпить кофе в «Шеталиште». С Зокой Биланом, Пашей, но опять понимаю, что больше там нету для моего кофе консенсуса.
Услышав слово «консенсус», Сенка застывает над супом:
— Что, опять какая-то политика?
— Ну, своего рода!
— Боже, Эмир, как же ты мне на нервы действуешь. Можешь ты вообще о чем-нибудь говорить, чтобы без политики?
— Могу, — говорю я маме. — Хочешь скажу, что я один в один свой отец?
— Не хочу, потому что ты еще хуже, — говорит Сенка и обнимает меня, а я смеюсь, пряча слезы. Чтобы не огорчать Сенку.
Чей ты человек, сынок?
В Герцег-Нови, у самого моря, там, где когда-то проходила узкоколейка, стоят скамейки. Многие из них разбиты пробовавшими свои едва созревшие силы подростками или пьяными солдатами.
На одной из таких скамеек у входа в туннель сидит моя мама. Закуривает сигарету, смотрит на морской горизонт. И закрывает глаза — что-то снится моей Сенке. Когда прогуливающиеся вдоль набережной знакомые, местные и боснийские беженцы, видят дремлющую на скамейке Сенку, они спрашивают ее:
— Как ты, может, помочь?
Она открывает глаза:
— Ничего-ничего. Присела отдохнуть, сон меня и сморил.
И они продолжают свой путь, местные — по своим домам, беженцы — по чужим. Моя мама закрывает глаза и продолжает смотреть свои сны, может, в них какая тайна?!
Всякий раз, приезжаю в Херцег-Нови, а тут прямо маленькое Сараево. Вокруг одни беженцы, выцветшие старики, молодых немного — те, в основном, сбежали в Канаду.
— Имей в виду, — говорит старый друг. — Что-то часто Сенка сидит на этой скамейке возле причала и спит. Не дай Бог простудится, кончится осложнениями, здоровье ж у нее никудышнее.
Каждый раз, возвращаюсь на нашу херцегновскую базу и радуюсь, может, потому, что все здесь напоминает жизнь на Горице. Нет только того, что ниже ее, и, конечно, моего отца. Стены приглушили звуки соседской жизни, сквозь окно доносятся голоса играющих в футбол детей, на сковородке весело подпрыгивают оладьи, а ты безмятежно спишь. Слышны только шепот и приглушенное поскрипывание лифта фирмы «Давид Пайич» где-то далеко. Сенка возвращается от соседки напротив.
— Спит, ночью поздно из Парижа вернулся.
— А можно я внука приведу, с Эмиром сфотографироваться?
— Можно, но позже, женская твоя голова, дай моему ребенку выспаться!
— Чей ты человек, сынок? — вдруг спрашивает меня мама, когда я пью утренний кофе, а я ей говорю:
— Твой, Сенка, чей же еще? — она улыбается и смотрит на меня с подозрением, будто хочет вытянуть какое-то нелегкое признание. Так, когда-то, выведывала Сенка, кто подговорил меня перейти городскую черту и без разрешения уйти купаться на Илиджу. Как это было давно. На самом деле, моя мама мастер искусных подходов. Причем знаю, что по нраву ей люди сильные и принципиальные, поэтому я не удивляюсь, что разговор этот она начинает именно так. Говорит Сенка:
— Больше всего нравится мне Владо Дапчевич, был такой человек, использованный в качестве прототипа Владо Петровичем, героем кино- и литературного труда. Он всегда говорил, что любит Сталина и за это отсидел двенадцать лет. Недолюбливает его из-за этого самого Сталина моя мама, до сих пор оплакивающая Тито, но уважает за то, что он, как говорит она, «настоящий человек, с принципами». После выхода из тюрьмы журналист титоградской «Победы» спросил, что думает он теперь, а он ответил: «Люблю Сталина». И кто знает, действительно ли он так думал, но принцип есть принцип: от того, что было сказано однажды, не отрекаться никогда.
— Настоящий человек, есть у него принципы, — говорит мама.
— А ты чей человек, ну-ка скажи-ка? — настаивает моя мама, а я смеюсь и отвечаю:
— Твой, сказал ведь уже, будто не знаешь.
Сенка улыбается и говорит:
— Прекрасно понимаешь, о чем я спрашиваю, хватит уже валять дурака!
— Не знаю! — шучу я, Сенка меня целует и говорит:
— Там на столе джем с маслом, там же тосты, а я пойду прогуляюсь, заодно за электричество заплачу.
Все как когда я уходил в школу. С той разницей, что тогда указания где что оставлялись в записочках, потому что ко времени моего завтрака мама уже два часа как вышла из дома и торопливо прошла кошевским спуском вниз, к Строительному факультету… Теперь, едва проснувшись, я смотрел на маму, медленно бредущую в сторону моря, где некогда проходила колея узкоколейки.
Из всех херцегновских знакомцев симпатичней всех был мне доктор Радмило Йованович, психиатр из Сараево, проводивший, как и Сенка, время в ежедневных прогулках по набережной — как любят делать все очутившиеся у моря жители гор. Спас меня этот доктор Йованович от депрессии, в первый раз напавшей на меня двенадцать лет назад, когда я бросил съемки фильма «Папа в командировке» и уехал к доктору в Ягомир. Говорю ему: «Доктор, не могу больше!», а он отвечает: «Сначала присядьте, пожалуйста», а потом спрашивает: «И чем таким невыносимым вы занимаетесь, что больше не можете?». Я отвечаю: «Фильм снимаю, о том, как одна семья пережила тысяча девятьсот сорок восьмой год», и тут доктор разрыдался. Прямо навзрыд, сидит и плачет. Стало мне неприятно, начал я искать кого-нибудь взглядом, потом подумал, может, это психиатрический ритуал или что-то такое. Вскакиваю со стула, оглядываюсь, но не вижу ни одной медсестры, а он плачет, не останавливаясь. У меня всю депрессию как рукой сняло. Подхожу к доктору и спрашиваю:
— Что с вами? — а он, вытирая слезы, отвечает:
— Там, на Голом острове, сломали они нам хребет. Знаете, ведь человечеству несколько миллионов лет понадобилось для развития, а там брат брату так вот просто хребет ломал. И бились мы в муках, как далматинские ящерицы…
Когда я закончил «Папу в командировке», доктор Радмило Йованович присутствовал на первом показе и снова плакал. На этот раз от счастья. Тогда, после смерти Тито, узникам Голого острова было наконец возвращено чувство достоинства. При том что те преступления никогда не попадали в фокус внимания передовой гуманистической мысли. Как-то они с ней не вязались, оставаясь в области причудливых вещей, происходящих у православных русских, сербов и черногорцев. Страдания на Голом острове не смогли обрести мифологических очертаний потому, как кажется мне, что есть такие исторические преступления, в которых колеса универсальной гуманистической мысли завязают словно в грязи. В наше время принимаются во внимание и рассматриваются только преступления, совершаемые в прямой связи с прогрессом. А раз в эту драму замешан еще и Сталин, гуманизм хотел бы всю эту историю с Голым островом стереть из памяти окончательно. Сегодня я горжусь дружбой с доктором Йовановичем, за то, что своими слезами он вылечил меня от депрессии.
С доктором Йовановичем и мамой гуляем мы по набережной. Идем себе помаленьку, а Йованович и говорит:
— Твой отец был остроумным и интеллигентным человеком, но не умел отличать важное от неважного и держать дистанцию со многими вещами. В жизни все-таки необходимо научиться приемам дриблинга51 и уметь их использовать. Не чтоб развлечь публику, а чтобы поведение некоторых людей и непростые ситуации не воспринимать во всей их тяжести.
У моей мамы с возрастом развились способности к пониманию черного юмора.
— Ну вот видишь, говорила ж я тебе, нет толку от политики, этот спорт не для людей со слабыми нервами.
Доктор ушел лечить своих больных, а мы с мамой пошли на Савину, на могилу Мурата. Жалуется мне Сенка, что постоянно находит на отцовой могиле свежие цветы. Стоит ей подготовить цветы, чтобы отнести на могилу мужа, как кто-то ее постоянно опережает.
Стараемся мы с Сенкой скрывать, что слезы застилают наши глаза, чтобы друг друга еще больше не расстраивать. Грустно нам, что отца больше нет с нами. Вообще-то, я всегда думал, что у Сенки такие большие глаза оттого, что она много плачет. Надеюсь, когда-нибудь и мои глаза станут такими большими… Боже ж мой, думаю я, какие реки слез мы Кустурицы за все это время наплакали. Иногда и без особой на то причины. Как было, когда в Гармишпартенкирхене словенский прыгун на лыжах получил медаль, а мы с отцом столько прыгали по тахте, вопили от счастья и плакали, что соседи стали жаловаться на шум, а мама говорила:
— Черт бы вас драл с вашими словенцами, посуда ж со шкафа попадает!
За ужином, когда бутылка вина опрокинулась на тот самый ковер, на который был натянут ею пластиковый чехол, убедились Сенка в правильности своих действий, сэкономивших ей столько труда.
— Видишь, Эмир, а ты смеялся, что я берегу вещи! Вот скажи-ка, что стало бы с китайским ковром после того, как на него столько красного вина разлилось?
— Ничего! — ответил я, а мама обиделась.
— Ну какой ты все же паршивец, как так ничего, я ж целый год горбатилась, чтоб такие деньги заработать?
— Знаю, а ты видела в киоске безногий сидит, киоск у него есть, а ног нету, вот это большая трагедия, а эта твоя больше на мелодраму похожа.
— Ну-ка хватит уже, как тебе не стыдно, ну вылитый свой отец!
Плача, слушали мы наш гимн и после победы баскетболистов на Олимпиаде в Мюнхене, но один из наших плачей был все же особенным. Случился он у нас дома на улице Кати Говорушич 9а, когда в новостях Евровидения на ТВ Сараево сообщили, что «Папа в командировке» победил на Каннском фестивале. Победы и поражения приходят к нам слитые одной слезой, и никак их не разделить. Так было и когда умер Тито. Со стадиона Кошево, с прерванного матча Сараево-Осиек, бежали мы как ошпаренные по домам, чтобы могли найти нас те, кому мы сейчас необходимы, утешить, обнять…
После сообщения, что «Папа в командировке» получил Золотую Пальму, к нам домой примчался мой двоюродный брат Эдо Нуманкадич. Эдушка обнимал Сенку, а она плакала. Если бы Джиму Джармушу довелось увидеть эту сцену через окно, он был бы уверен, что там двое близких людей горюют об усопшем.
— Эдо, мой Эдо, и что же это такое стряслось?
— Счастье, дорогая Сенка, великое счастье! — сказал Эдо и разрыдался еще сильней. Как и при любом балканском переживании, в этом плаче не было ни чистой радости, ни чистого горя. Поэтому и в искусстве не бывает у нас чистых жанров, перетекает один в другой, и люди уже привыкли, что большие события приносят у нас большие испытания и потому все чаще пытаются этих великих событий избегать. Все великое замутняет их зрение и несет тревогу. А когда большие события приходят, чаще всего нежеланными, они меняют их жизнь с самого основания, причем сильней всего от этого страдают принципиальные люди. Последовательность дается на Балканах нелегко, потому что правила и устои нашей жизни привнесены к нам извне, с Запада и Востока, и когда происходят неожиданные перемены, нас о них в известность никто заранее не ставит, и мы либо начинаем дурить, либо ведем себя как свиньи. Оставляем свои старые убеждения в ночи, во имя новых, лучших, жены отрекаются от мужей, что и произошло, когда однажды Тито сообщил нам, что Сталин теперь нехорош, а ведь совсем недавно именно он учил нас его любить и умирать с его именем на устах. Поэтому моя мама знала, о чем говорит, сказав:
— Этот Дапчевич человек с принципами!
Хотя сама Сталина не любила, а Тито уважала.
На Савине нет глины, как на боснийских кладбищах. Там можно сидеть, смотреть на море, вдыхать запах сосен, а когда соберешься домой, не надо счищать глину с ботинок. По дороге на кладбище мы с Сенкой садимся передохнуть на террасе «Бельведера», смотрим на море, Сенка курит «югославию», я кубинскую сигару. Молчим, и вдруг Сенка смеется:
— Ну давай же! Скажи наконец, только честно, чей ты человек, может, правда, что о тебе говорят?
— Прямо вот сплю и вижу я стать чьим-то! И страдать за кого-то другого, как этот твой Дапчевич за Сталина.
— Он не мой, а просто человек, достойный уважения.
— Так я о чем: вот пострадаю, и про меня будут говорить — достоин уважения!
— И чего ты все так переворачиваешь, дурень ты эдакий!
— Но, Сенка, нету ведь сейчас достойных персонажей. Хотелось бы и мне сделать чью-нибудь татуировку, как Марадона Фиделя Кастро, да некого.
— Хватит меня дурить, просто скажи, чей ты человек? Соседки говорят: «Твой Эмир, без сомнения, человек Милошевича!», это правда?
— Хочешь, скажу тебе честно?
— Хочу, конечно!
— Хотел бы я, Сенка, порадовать тебя, да и себя, и сказать: так и есть! Ведь, когда он пришел к власти, я неправильно определил сторону света.
— Как это так? — спрашивает мама.
— Вляпался я во все это потому, что ввязался в споры о правде, а она была в том, что Запад тогда начал расширяться на Восток, в чем в общем-то ничего нового не было, потому что Восток никогда не расширялся на Запад.
— А что ж тогда не промолчал? Всего-то и надо было, что промолчать.
— А это потому что идиот, — а Сенка рассмеялась и говорит:
— В политическом смысле? — а я подтверждаю:
— Точно!
— Боже мой, Эмир, а я-то всегда думала, что ты такой разумный!
— Разве что на плече я его не вытатуировал как Марадона. И вдруг появляется его жена, и тут-то у многих открылись глаза. А он, такой, вернулся из Дейтона и начал изображать обычного человека. Фирму «Тимберленд» открыл — хочу, говорит, купить сыну хорошие ботинки!
Когда мы подошли к отцовской могиле, у изголовья ее стояли свежие гладиолусы.
— Должно быть, какая-то из его шлюх?! Знала бы кто, шею ей свернула, — говорит моя мама.
Положила цветы около отцовской фотографии, добрела до фонтанчика, налила воды и вернулась назад. Теперь мы вместе приводим в порядок муратово надгробье, отскребаем камень щетками. А я почему-то вспоминаю, как Сенка хозяйственным мылом оттирала мои плечи — в день, когда я впервые пошел в школу, и во все прочие, когда я, мальчишкой, возвращался с футбола. В конце концов мы вдвоем тщательно очистили гранит на отцовской могиле. Теперь Сенка достает сигарету. Это настоящий ритуал. Прикуривает Сенка сигарету, передает ее мне, а я кладу ее на край могильной плиты, чтобы и Мурат покурил с нами. Сигарета горит, мы молчим, и только когда пепел отцовой сигареты дотягивается до фильтра, встаем и идем к выходу за ворота савинского кладбища. А я снова думаю о преимуществах Средиземноморья, любой его части — не надо чистить обувь, потому что нет глины. Доходим до площади. Там, на площади, на ступеньках под часами, мы с Сенкой расстаемся. Она говорит:
— Пойду-ка я по набережной до дома пройдусь, возьми ключ на всякий случай, вдруг поздно вернешься, а я засну.
Оставил я ее спускаться по ступеням вниз к морю, а сам потихонечку, мимо херцегновской почты, пошел туда, где буду для нее невидим, смотреть на нее, сидящую на скамейке около туннеля.
На сломанной скамейке, там, где проходила узкоколейка, сидели когда-то мои отец с мамой. Она курила «югославию» с фильтром, отец смотрел на горизонт, так и сидели они, подавленные великой бедой войны. Не обделила их жизнь и другими горестями, но эта, из-за войны, была сильней прочих. Теперь на скамейке сидит одна мама. Прикрыла глаза и грезит о чем-то своем, тайном. О чем же мечтает моя мама, думаю я, наблюдая издалека за ней, не подозревающей, что я здесь и смотрю на нее. И вовсе Сенка не спит, как утверждает мой старый приятель, она курит, потом закрывает глаза. Зажмуривает их, но не спит. Будто продолжает свой вечный тайный разговор. Будто с кем-то разговаривает. Как бы не сойти ей так с ума, думаю я, глядя как она с закрытыми глазами шевелит губами. Как бы не связалась с какой-нибудь сектой, вот даже какая ерунда приходит мне в голову. Поговорит она так тихонечко, встанет со скамейки и отправится домой.
Сидим мы с мамой, печем пончики и смотрим вечерние новости. По телевизору все как обычно. Двухсторонние отношения, санкции, отключения света и воды в Черногории. Необходимость сокращения ядерных вооружений. Сенка твердо намерена выяснить вопрос о моей принадлежности. Хоть и делает это деликатно:
— Ну давай же, скажи маме, признавайся, знаешь, как говорится, признание — уже пол-прощения: чей ты человек? Может, правда, что соседка с одиннадцатого этажа (хоть и дура) говорит, что ты ведешь бизнес Милошевича на Западе?
Искренне рассмеялся я над этой ерундой, но не хотел заканчивать столь чудесный разговор под рабочим названием «Чей ты человек, сынок?»
— Я, Сенка, как и ты, люблю принципиальных и сильных людей.
— Да ладно, с чего это ты так уверен, что он сильный? Сильные — это президенты Америки, России, Китая, а не Югославии.
— Сначала познакомился я с ним по телефону, в 1988-м, перед премьерой «Времени цыган». К этому разговору подтолкнул меня эгоизм. Да-да, в том, что касается кино, я именно такой, без сомнения. Директор «Белград-фильма» Мунир Ласич не разрешал премьеру фильма в «Сава-центре», а все остальные подходящие кинозалы Белграда были уже зарезервированы. Он прямо повернулся на идее, что премьеру нужно делать в кинотеатре «Козара». Оля Варагич, директор «Времени цыган», знала, что только новый шеф ЦК Сербии может укротить этого Ласича и решить проблему. «Слышал я, что вам необходима помощь», сказал он по телефону звучным голосом. Звонил он мне в Нью-Йорк и я, еще не проснувшись и нервничая, объяснил ему, что «Сава-центр» единственное место, в котором у этого фильма получится достойная премьера. Премьера состоялась в «Сава-центре».
— Хорошо, а почему то, где будет премьера, должен решать Первый человек? — наивно спрашивает Сенка.
— Да потому что второго никто слушать не станет! Тут в цене слова только первого.
Сенка смеется, а я вспоминаю фильм «Папа в командировке». Если б не Мира Ступица, убедившая своего мужа и тогдашнего президента Цвиетина Миятовича, что совершенно непростительно, если такой фильм не будет снят, «Папы в командировке» вообще бы не было.
— Так чей ты человек — не меняй тему!
— Когда Милошевич появился, первыми бучу подняли словенцы, заявившие, что на Балканах появился новый Гитлер!
— Точно, — сказала Сенка.
— Я, Сенка, что-то никак не мог сообразить, как это словенцы называют Милошевича Гитлером, имея в виду что-то нехорошее. Ведь видел же я в старых киножурналах, что Гитлер вошел в Марибор как великий полководец. Встречали его так, как потом они же встречали Тито, которого потом они же топтали ногами, когда захотелось им в Европу, и чтобы продвинуться на этом пути, понадобилось померяться силами с византийским Белградом. Слегка окропив этот свой путь в Европу кровью. Десяток сгоревших коров по CNN, три-четыре сгоревших автомобиля. Тогда во мне и стал пробуждаться идиот.
— Это в политическом смысле, или как? — смеется Сенка, и я ничего против этой ее шутки не имею:
— Точно. Отец говорил о Тито: когда бы не он, у нас в партизаны записывались бы прямо на улице.
— А мне нравилось, что он считал себя югославом, — говорит Сенка.
— Вот так и мне симпатичен Милошевич.
— Скажи честно, ты ему чем-нибудь обязан?
— Гражданством обязан, а это немало!
— Да ладно тебе, вон, смотри сколько людей в Белграде тебя любят, причем тут вообще он?
— Если б он об этом не знал, то и не получил бы я паспорта.
— Нет такой страны, что не дала б тебе паспорт. Так что можешь его запросто вернуть.
— Могу, Сенка, но не хочу. Хочется и мне быть немного как этот твой Владо.
— Во-первых, не мой. А во-вторых, ты, парень, завязывай придуриваться!
— Все это, Сенка, как выяснилось, одна сплошная придурь и есть!
— Прямо-таки придурь, — смеется она.
— Так время же показало, что все не так, как выглядело поначалу. Похож он был на человека, у которого есть свое видение, а оказалось, просто зануда.
— Кто-то вроде твоего дяди Любо Райнвайна, бибина мужа, только без усов?
— Что-то вроде. Когда я понял, что ну вот нету у человека своего видения, тогда во мне и родился этот самый Владо, принципиальный человек. Никогда не откажусь от слов, которые когда-то говорил, ни за какие деньги.
— А что ты такое говорил?
— Что он достойный человек.
— А он достойный?
— Один день казался достойным, на другой день вроде нет, а все равно надо держаться своих слов, неважно, что там на самом деле. Все это метания, без которых нет ни политиков, ни политики, не имеют они значения. Больше не важен он, но важен ты сам. Такое есть даже у Андрича. Он тоже связывал себя с этой стороной, с восточной. Она перенесла страданий больше остальных, а когда человек выбирает с кем ему быть, то естественно выбрать тех, кому тяжелей. Он здесь остался один, никто его не поддерживал, и это мне нравилось. А если посмотреть по-другому, вот не было Милошевича в 1914-м и случилось черт-те что, не было его и в 1941-м, а происходило такое, чего хуже и быть не может!
— Эмир, вот это, что ты говоришь, это не политика, а как ты сам выражаешься, рассуждения политического идиота!
Так урезонивает меня моя Сенка, а я продолжаю:
— Дома он робко расчесывал жене волосы, когда она ему разрешала, конечно, а в резиденции костерил послов иностранных государств, будто у него в кармане две атомные бомбы припрятаны.
— А тебе это и нравилось?
— Да, это нравилось.
— А это означает, дорогой мой, что никогда не вышло бы из тебя политика!
После «Андеграунда» и победы в Каннах пригласили меня к президенту в его кабинет. Был он уже в подпитии и размахивал книгой своей жены Мирьяны Маркович «Дни и ночи». Цитировал мне ее на английском «All this guys are nationalists!», имея в виду Караджича и боснийских сербов. Пока он зачитывал эти цитаты, телефон его звонил не переставая. Он не брал трубки, а я все пытался как-то обратить его внимание на этот факт. Президент отмахивался от него рукой. Цитировал мысли своей жены, пил виски из большого стакана, и к концу оказался совершенно пьян. Кого бы я за тем ужином не упомянул, он говорил:
— Да ну его, мудака!
Не нравилось мне, что президент так много ругается и, в особенности, что все у него оказываются мудаками, за исключением собственной жены, которая тщетно пыталась тем вечером перед белградской премьерой «Андегрунда» до него дозвониться. Думаю, он не хотел отвечать, считая меня недостойной Мирьяны Маркович и своего сына Марко компанией.
Гуляем мы с Сенкой в жаркий денек в сторону скамейки у туннеля. Октябрьское солнце жжет как августовское. Глобальное потепление в действии, озоновые дыры в небесах. Теперь Сенка уверена, что ответ на вопрос чей я человек ясен как день и она с облегчением спрашивает:
— Ну и чей ты человек, скажи своей маме? — говорит Сенка с улыбкой, и я отвечаю:
— Ничей!
Сенка останавливается, в изумлении:
— Как так ничей, разве не мой? — и я поддерживаю шутку:
— Так вроде же Милошевича?
— Какой же ты балбес, Боже правый, только-только вроде разобрались, и ты опять со своей путаницей. Тебя вообще хоть что-то кроме политики интересует?
— Ну, раз Мурата не интересовало, не интересует и меня! — и мама стоит, слегка всхлипывает, потом улыбается и целует меня.
И мы расстаемся, меня везут в аэропорт, а Сенка машет на прощанье и ковыляет к сломанной скамейке, где они с Муратом сидели и коротали свои беженские дни.
Она курила «югославию», а он озабоченно смотрел вдаль и боялся третьего инфаркта, который означал его конец. К сожалению, очень скоро произошло именно то, чего все мы так боялись. Умер он от третьего инфаркта, в самом начале боснийской войны, а Сенка осталась верна их старой привычке и продолжала приходить на то же место, садиться на скамейку и сразу же закрывать глаза.
Перед глазами моей мамы появляется отец:
— Сколько будет еще этот Ельцин гробить самую сильную армию мира, есть ли у этого человека совесть, да и вообще он что, ненормальный, что ли?
— Бог с тобой, Мурат, мне-то откуда знать?
— Так нечего тут, Сенка, знать, все видно даже женским невооруженным глазом!
— Найдутся у меня дела поважнее, чем смотреть, как Ельцин гробит Россию!
— Ничего ты, Сенка, не понимаешь, если такая великая сила исчезнет, все полетит к чертовой бабушке, нельзя русским погибать!
— А что поделаешь, когда тобой правит пьяница типа этого Ельцина, то ничего другого и не остается, кроме как пропасть!
— Да чего ты заладила: пьяница да пьяница, на что это ты все намекаешь, хватит уже меня оскорблять?!
— Кто это тебя оскорбляет?
— Ты, тем что все время талдычишь про алкоголь!
— Ты, Мурат, кабы не алкоголь, сидел бы сейчас со мной.
— Смотрю я, Сенка, никогда не понять тебе значения политики!
— И слава Богу, что не понять.
— А Эмир где? — спрашивает мой отец примирительно, а Сенка говорит:
— Мотается со Стрибором, играют где-то.
— Стоит ли ему на этой гитаре бренчать, уже ведь не мальчик!
— Слушай, не так уж это и глупо. Так у него Стрибор всегда под присмотром, знаешь, какая сейчас молодежь, а Стрибор весь в тебя, непоседа!
— А Майя приезжает?
— Навещала на Новый Год, всю жизнь отдала детям, растит Дуню как принцессу!
— Правильно Мишо про Дуню сказал, слава Богу, что в семье родилась настоящая барышня! Чудно все таки, когда в семье есть барышня! Барышни, они же матом не ругаются, ботинок не носят и, ясное дело, не пьют пива! Неужто прямо вот такая?
— Еще краше, на французском болтает, как на сербском! Эмир говорит, книжки пишет, как настоящий писатель!
— Ну, слава Богу. А как Мишо?
— Хорошо, все рыбачит целыми днями на Дунае, а Лела, как обычно, путешествует, вот ведь неугомонная, и как у нее подошвы не сотрутся?
Отец внезапно замолкает и Сенка тревожно спрашивает:
— Ты здесь еще, Мурат?
— Здесь я, моя милая. Осточертело мне тут совсем, прямо каторга.
— Слушай, Мурат, что расскажу. Сегодня ночью заснула я пораньше, а ты являешься и зовешь меня к себе.
— А ты, что ты мне ответила?
— Что не готова еще отправиться к тебе, но уж когда до тебя доберусь, никогда тебя больше не оставлю! Дорогой ты мой, ты потерпи еще, кончится когда-нибудь и это!
— Думаешь, так?
— Должно быть так, ни одна каторга не длится вечно!
— Но смерть длится, моя Сенка!
— Ничто не вечно, ты просто потерпи.
Сказав отцу эти слова утешения, моя мама подбирает со скамейки свой инвентарь курильщика, засовывает все это в сумку и идет к туннелю, по которому когда-то пролегала колея узкоколейки. Солнце, которое я видел из окна боинга компании JAT, следовавшего по маршруту Белград-Париж, тепло его, которое я чувствовал в самолете, согревало и туннель, по которому, на пути домой на Норвежскую 8 пробиралась Сенка. Тень ее увеличивалась, пока совсем не растворилась во тьме туннеля, и старушка начала приближаться к выходу с другой стороны, где какие-то дети, с милым гомоном, гоняли мяч, поднимая облачка пыли. Я же, летя на высоте десяти тысяч метров, чувствовал тепло солнца и думал о том, как все же вдохновенно мой отец выразился о смерти, сказав:
«Смерть, сынок — это непроверенный слух!»
1 «Полуторакомнатной» в Югославии называлась квартира с одной спальной комнатой, и кухней-гостиной, где тоже обычно хватало места для тахты или диванчика.
2 Усташ — член организации усташей, хорватских фашистов, в годы Второй Мировой войны союзников немцев.
3 Скорей всего боснийская трехногая табуретка — это намек на три населяющих Боснию народа, сербов, хорватов и мусульман-бошняков — выдерни одну ножку, равновесие рушится.
4 Кафана — трактир, пивная, ресторан, кафе.
5 Тут без исторической справки не обойтись: первые пару лет после освобождения Югославии, по большей части партизанской армией Тито, при помощи Красной Армии, Югославия была одним из обычных восточноевропейских сателлитов СССР — пока в 1948-м году отношения Тито со Сталиным не испортились, и Югославия не стала проводить самостоятельную политику. Это привело к полному разрыву отношений и взаимным обвинениям. В самой Югославии симпатии к Сталину, и к России вообще (сильные, благодаря традиционной сербской русофилии) стали считаться крамольными, и не пожелавшие отказаться от своих убеждений югославы подверглись репрессиям. Самым известным был лагерь на Голом Отоке (острове), через который прошли многие русофилы и сталинисты. Впрочем, длились эти репрессии не особо долго по сравнению с советскими, и после 1956 года и восстановления отношений с СССР были прекращены.
6 Резолюция ИБ (Информюро) — имеется ввиду резолюция 1948 г. Информбюро Коммунистических и рабочих партий об отходе КПЮ от марксизма, которой началась острая фаза разлада Тито со Сталиным. Следующая (1949 г.) резолюция уже гласила: «Югославская компартия во власти убийц и шпионов»
7 Австрийский эрцгерцог Франц-Фердинанд, убитый в Сараево — с чего и началась Первая Мировая Война.
8 Фольксваген.
9 В 1914 году сербский студент Гаврило Принцип застрелил австрийского престолонаследника Франца-Фердинанда. Сейчас на том месте мемориальная табличка и вылитые в бронзе «следы Принципа».
10 Папучар — одно из значений «подкаблучник».
11 В Пионерской долине — район Сараево, где находится зоопарк.
12 Чаршия — в Сараево и других боснийских городах старый торговый турецкий квартал.
13 Ф.И.С. (от Federation Internationale de Ski , Международная Лыжная Федерация) — комплекс спортивных и культурных объектов в Сараево, включает трамплин, стадион, концертный зал.
14 Тут только я и догадался, что это кличка, и начал искать ее значение в интернете; и нашел: Пимпек — «то же самое, что и пенис, но значительно меньше и мягче!» (Isto što i penis ali znatno manje i mekše!)
15 Шприцер — смесь белого вина и газировки.
16 Усташи — хорватские националисты, в фашистской Хорватии (союзнике гитлеровской Германии), усташи — военные отряды хорватской молодежи.
17 Четники — во время Второй Мировой войны бойцы отрядов (чет) сербских монархистов, воевали как с усташами и немцами, так и с коммунистическими партизанами Тито.
18 Образовано от турецкого «эфенди», господин — получилась славянизированная «эфендиница». В сербско-хорватском и так довольно много турцизмов, и в речи боснийских мусульман в особенности, некоторые турецкие слова подчеркнуто используются ими, чтоб подчеркнуть свою идентичность.
19 Сахат-кула (часовая башня), характерный элемент османской архитектуры в европейской части империи, башня с часами. Особенно много их было построено в Боснии, но есть и и в Черногории, Сербии и Болгарии.
20 Поэтическая вольность.
21 Яхорина — горнолыжный курорт неподалеку от Сараево.
22 Выражение «Главное, чтоб голова не в мешке» пошло от обычая надевать казнимому перед повешением мешок на голову.
23 На острове Млет есть заповедник с двумя внутренними озерами с соленой водой, Большим (Veliko Jezero) и Малым (Malo Jezero).
24 Бег: дворянское звание в Османской империи, которого могли удостоиться и перешедшие в ислам боснийские сербы.
25 Народный танец.
26 Сараевская награда в честь даты освобождения от немецкой оккупации.
27 Голос за кадром.
28 От УГБ, Управление Государственной Безопасности, югославский аналог КГБ.
29 Компания ПТТ — Почта, Телеграф, Телефон.
30 НИН — популярная югославская газета.
31 Аферим — турецкое заимствование, одно из тех, что часто встречаются в Боснии, значит одобрение, вроде: Молодец! отлично!
32 «Хајдучка чесма» — первый концертный альбом группы «Биjело Дугме» («Белые Пуговицы»), ставший очень популярным.
33 Запретное курение.
34 Вилайет — административная единица Османской империи.
35 Союзный Исполнительный Совет (Савезно извршно веће).
36 Юга = Югославия.
37 Завет святого князя Лазаря, погибшего в битве с турками на Косовом Поле.
38 Санджак — мусульманский анклав в Сербии.
39 Смертовница — на Балканах после смерти родственника семья вывешивает специальные маленькие плакатики-«смертовницы», с коротким текстом и символом креста, полумесяца, или красной звезды, в зависимости от веры и убеждений покойного.
40 Эфендиница — жена, госпожа, от турецкого «эфенди».
41 Райя — исторически боснийские христиане, подданные Турции, платившие дань.
42 Махаля — квартал, часть города, села.
43 Чевапчичи — жареные колбаски.
44 Донья (Donja) — нижняя, долинная.
45 Стефан Малый (серб. Шћепан Мали, настоящее имя неизвестно,? — 1773) — самозванец, выдававший себя за русского императора Петра III. Царь Черногории, успешно боровшийся с турецкой и венецианской экспансиями.
46 Дража Михайлович — лидер сербских четников во время Второй Мировой войны.
47 «Морал је оно што се мора!» — непереводимо, крестьянин просто думал, что слово «мораль» объясняется однокоренным словом «морати» (должен)
48 Соответственно: «Неморално је оно што се не мора»
49 fancy (англ.) — модно, современно, прилично.
50 Динарцы, жители Динары, горной области на границе между Боснией и Хорватией.
51 Дриблинг (спорт.) технический приём нападения в игровых видах спорта (футболе, баскетболе, хоккее и т. п.), состоящий в искусном ведении игроком мяча или шайбы с целью обойти игроков соперника.
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
kak eto bylo obedinenie germanii
smert ioanna groznogo
ejnshtejn zhizn smert bessmertie
kak ja stal perevodchikom stalina
kommunizm kak realnost
kak zovut vashego boga velikie afery xx veka
Baskina Skazhite chi i iz Kak zhivut sovremennyie amerikantsyi 141208
Krivickiy Yagoda Smert glavnogo chekista sbornik 440775
Cherchill Kak ya voeval s Rossiey 247814
Kak ubiv
2012 KAK Materialy pomocnicze I Nieznany
lozh novyh hronologij kak vojujut s hristianstvom a t
kak v kino ne budet
zhivi kak hochesh
cru kak mifologema
Chernitskiy Kak spasti zalozhnika ili znamenityih osvobozhdeniy 222740
Razzakov F Kak Uhodili Kumiriy Posle
Hoffman Sopri etu knigu Kak vyizhivat i srazhatsya v strane politseyskoy?mokratii 259766