Александр Каревин
Исторические шахматы Украины
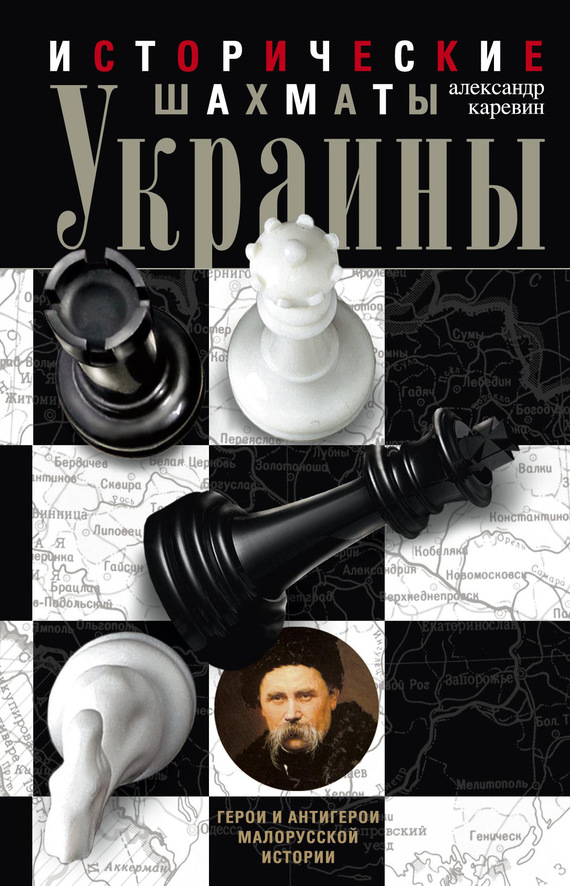
Аннотация
Книга представляет собой галерею исторических портретов различных украинских (малорусских) деятелей, а также уроженцев Украины (Малороссии), прославившихся за ее пределами. Некоторые из этих фигур прошлого практически неизвестны широкой публике. Другие, наоборот, хорошо известны, однако показаны в книге с неожиданной стороны. Вопреки ставшему популярным в последнее время тезису о непригодности черно-белого измерения исторических персонажей автор показывает, что имеются в истории личности, всей своей жизнью окрасившие себя в однозначно черный или однозначно белый цвета. Хотя, конечно, бывают в исторических шахматах (в отличие от шахмат классических) и пестрые фигуры. Таковые тоже представлены в книге. Гетманы и религиозные фанатики, общественные и революционные деятели, украинские (малорусские) политики, ученые, литераторы… О них пойдет речь в книге.
Александр Каревин
Исторические шахматы Украины. Герои и антигерои малорусской истории
От автора
Помнится, со времен приснопамятной перестройки в нашей (тогда еще общей для России и Украины) стране стало модным утверждение о непригодности для истории черно-белого измерения. Разными словами этот тезис повторяли ученые, писатели, журналисты. Все они указывали на то, что нельзя исторических персонажей изображать однозначно белыми (ах какими хорошими!) либо однозначно черными (ух какими плохими!). Нельзя, ибо не бывает людей совсем без недостатков или совсем без достоинств. Добро и зло содержится внутри каждого человека, хотя, конечно, в разных пропорциях. Поэтому, дескать, не следует при описании исторических событий и личностей ограничиваться только двумя цветами (белым и черным). История – наука красочная. Цветов и оттенков у нее много, задействовать надо все.
Утверждение в целом верное. Но недаром говорится, что нет правил без исключений. Некоторые фигуры прошлого сами окрасили себя в один определенный цвет. Окрасили своими поступками. Причем так густо, что, сколько ни ищи там других цветов, сколько ни пытайся добавить другие оттенки, сделать этого не получится. Выискивать белое в черном, а черное в белом можно, но толку-то?
Например, Адольф Гитлер в молодости был, говорят, неплохим художником. Ну и что? В историю он вошел не как художник. И какими бы замечательными ни являлись написанные им картины, сей персонаж не станет от этого менее черным.
Или другой пример – Александр Пушкин. Если подходить к нему с мерками пуританской морали, то, наверное, можно найти повод для обвинений в «безнравственности» (ну любил Александр Сергеевич женский пол!). Только опять же что из того? Пушкина мы оцениваем не как моралиста (каковым он и не являлся), а как поэта. Поэтом же он был великим. И, будучи таковым, безусловно, окрасил себя в белый цвет. Тут важно лишь не путать грешное с праведным, не распространять величие Пушкина-поэта на абсолютно все, совершенное им в жизни. Иными словами, не обожествлять пусть и выдающегося, но грешного человека, как это произошло в Украине с другим поэтом, одним из персонажей данной книги.
Книга эта представляет собой сборник исторических портретов разных личностей, живших в различные эпохи и занятых в разнообразных сферах деятельности. Объединяет их всех то, что так или иначе все они связаны с Украиной. Связаны происхождением, деятельностью или хотя бы местом рождения.
А еще герои книги объединены тем, что по крайней мере к большинству из них черно-белое измерение вполне подходит. Большую часть персонажей, о которых пойдет речь, однозначно следует охарактеризовать как «белых» или как «черных». Собственно, потому книга и получила название «Исторические шахматы Украины». Здесь, как в шахматах, тоже есть белые и черные фигуры.
Черных, надо признать, больше. Таким образом, нарушен паритет. Дело, однако, в том, что на протяжении всей украинской (или, правильнее сказать, малорусской) истории черные были заметнее. И внимания к ним, соответственно, должно быть больше. В современной же Украине фигуры этого цвета явно имеют численный перевес. Так, кстати, бывает и в классических шахматах. Только вот количественное преобладание не всегда гарантирует окончательную победу в шахматной игре. Особенно в исторических шахматах, где партия длится гораздо дольше.
Кроме того, в исторических шахматах, помимо белых и черных фигур, есть и иные – пестрые. Они тоже представлены в книге, хотя и в меньшем количестве, чем фигуры однотонной расцветки.
Разумеется, нельзя объять необъятное. Далеко не обо всех значительных исторических персонажах рассказано в данном повествовании. Чтобы охватить всех, понадобилось бы многотомное издание. А пока бы писались и выходили очередные тома, появились бы новые фигуры, требующие к себе внимания. Этот процесс будет продолжаться, покуда продолжается сама история.
Очень рассчитываю, что и мне удастся продолжить работу над «Историческими шахматами». Только вот ситуация в моей стране ныне такова, что невозможно загадывать не то что на день, а и на час вперед. Всякое может произойти. По этой причине выношу на суд читателей то, что есть на данный момент.
Александр Каревин
Март 2015 года
«Святой» душехват Иосафат Кунцевич
«История христианской церкви». Так назывался специальный проект Украинского радио – цикл передач, транслировавшихся на Первом канале. Вел их Роман Коляда, известный радиожурналист и по совместительству диакон «Киевского патриархата» (псевдорелигиозной политической организации, пытающейся подменить собой православную церковь в Украине).
Передачи, надо признать, получались довольно интересными. Наверное, не в последнюю очередь потому, что являлись не сугубо религиозными, а скорее историко-просветительными, рассчитанными на светскую аудиторию. И к тому же посвящены они были теме, с которой плохо знакома широкая публика. Следовательно, у радиослушателей появлялась возможность узнать что-то для себя новое.
Поначалу впечатление от радиоцикла портили лишь отдельные ошибки, допускаемые авторами. Скажем, курьезно звучало сообщение о печенегах, якобы враждовавших в I веке со скифами в причерноморских степях, тогда как сам союз тюркских племен, известных нам как печенеги, сложился в VIII веке далеко от Причерноморья (там они появились только в конце IX века).
Однако ошибки такие были нечастыми и вряд ли обуславливались злым умыслом. Так, повторюсь, было вначале, пока речь шла о древнейшей истории, говорилось о событиях, споров, как правило, не вызывающих. Но чем ближе подходили авторы к страницам прошлого, напрямую связанным с нашей эпохой, тем больше погрешностей обнаруживалось в радиопередачах. И причина здесь, вероятно, уже не только в недостаточной образованности журналистов, но и в их нежелании быть объективными.
Наглядный пример – выпуск программы, озаглавленный: «Становление Украинской греко-католической церкви». Разговор повелся об униатском архиерее Иосафате Кунцевиче, названном в передаче «образцом чистого служения Господу». Утверждалось, что Кунцевич, живший в «эпоху, менявшую ориентацию украинского общества с восточного направления на западное», совершил «духовный подвиг», показывая «талант любви к Богу в каждом помысле и деянии». Процитировали авторы и римского папу Иоанна Павла II, объявившего упомянутого униата «апостолом национального единства».
Поскольку сей исторический персонаж известен сегодня далеко не всем, видимо, имеет смысл рассказать о нем подробнее.
Он родился в 1580 году во Владимире-Волынском в православной семье. Отец его занимался сапожным ремеслом. Сына своего он обучил русской и польской грамоте, а когда тот подрос, отдал в услужение богатому купцу из Вильно (так тогда назывался Вильнюс), куда и переехал Кунцевич-младший, заняв должность приказчика.
То было время начала унии…
Жил приказчик неподалеку от Свято-Троицкого православного монастыря и регулярно ходил в монастырскую церковь на богослужения. Постепенно он сдружился с монахами, любил беседовать с ними на религиозные темы. Когда же монастырь в приказном порядке обратили в униатский, Кунцевич, по примеру большинства тамошних монахов, безропотно подчинился и тоже стал униатом.
Вскоре он оставил работу у купца, перешел жить в монастырь и начал усиленно посещать занятия в иезуитском коллегиуме. «Здесь-то, – напишет потом православный биограф Кунцевича, – ему и была внушена непримиримая ненависть к вере его предков».
В 1604 году Кунцевич постригся в монахи под именем Иосафата, после чего принялся ревностно проповедовать унию. Очевидно, он умел убеждать, поскольку смог увлечь многих. Православные называли его душехватом. Кто-то даже нарисовал огромного размера картину, где Иосафат изображался в виде дьявола, с рогами и с зажатым в руке крюком, которым тащил к себе людские души.
За проявленное усердие глава греко-католической (униатской) церкви митрополит Ипатий Поцей сделал Кунцевича настоятелем одного из монастырей. Когда же после смерти Поцея новым митрополитом стал Иосиф Рутский, то, рассчитывая на способности Иосафата, взял его с собой в Киев для пропаганды унии.
Правда, там Кунцевичу не повезло. Он додумался явиться в Киево-Печерский монастырь и принялся громогласно насмехаться над православными. Таким способом Иосафат собирался вызвать местных богословов на публичный диспут.
Но слишком уж нагло вел себя пришелец. Дискутировать с ним не стали. Просто вытолкали за ворота, надавав тумаков. На этом деятельность униатского пропагандиста в Киеве закончилась. Сконфуженный, он быстро убрался из города.
Впрочем, карьере Иосафата неудача не повредила. Рутский назначил его архимандритом Виленского Троицкого монастыря (того самого, где он раньше жил). А в 1618 году Кунцевич становится архиепископом Полоцким, получив церковную власть над значительной территорией Белоруссии.
Первое время на новой должности он вел себя смирно, возможно памятуя урок, полученный в Киеве. Обитатели Полоцка даже думали, что их архиерей в душе остается православным, а унию принял притворно, под давлением (так тогда поступали многие). Когда в 1620 году через западнорусские земли проезжал православный иерусалимский патриарх Феофан, полочане собрались послать к нему делегацию, предложив возглавить ее Иосафату.
Сколько мог, архиепископ тянул время, но в конце концов ехать отказался. Это открыло людям глаза на Кунцевича. Удостоверившись, что он настоящий униат, горожане перестали уважать архиерея.
А затем ему пришлось выдержать жесткую борьбу за власть в епархии. Патриарх Феофан, остановившись в Киеве, восстановил на Западной Руси православную иерархию.
Как известно, на Брестском соборе 1596 года большинство архиереев изменили православной вере и перешли в унию. Избирать же вместо предателей новых церковных владык запретил польский король. В Речи Посполитой оставалось лишь два православных епископа – львовский и перемышльский. С их смертью церковь осталась без иерархов. Некому было не только управлять – невозможным стало рукополагать новых священников (это могли делать только архиереи). Поляки, а вместе с ними и униаты, надеялись, что через какое-то время православие в стране просто исчезнет.
Однако патриарх Феофан, невзирая на королевское запрещение, возвел в архиерейский сан нескольких духовных лиц. В частности, полоцким православным архиепископом стал Мелетий Смотрицкий. И хотя открыто появиться в Полоцке новый архиерей не мог (польское правительство приказало его арестовать), он рассылал по епархии свои послания, в которых, помимо прочего, обвинял Кунцевича в вероотступничестве.
Огромное большинство народа тут же признало православного владыку и отказалось подчиняться униату. Греко-католические церкви моментально опустели. Вдобавок ко всему новый противник Иосафата был прекрасно образован, обладал даром красноречия. Конкурировать с ним в этом отношении Кунцевич не мог.
Тем сильнее распалялся униат злобой. Пользуясь поддержкой польской власти, он вытребовал себе в помощь вооруженный отряд и принялся подавлять сопротивление. Храмы закрывали перед ним двери, но Иосафат приказывал солдатам вламываться туда силой. Монастыри брались штурмом. Иногда производились форменные боевые действия. Так, полоцкий Борисоглебский монастырь (построенный еще в начале XIII века) был взят после одиннадцатидневной осады, в ходе которой подвергался пушечному обстрелу и оказался наполовину разрушен.
Примечательно, что Кунцевича заботили не только храмы. Он стремился захватить и монастырские угодья, за которые тоже вел борьбу, наполняя собственные карманы.
Один за другим занимал униатский карательный отряд города – Могилев, Оршу, Мстиславль. Всюду по приказу Иосафата закрывали православные церкви, заключали в тюрьмы и истязали там православных священников. Народ оставался без духовных пастырей. Нельзя было ни крестить младенца, ни повенчать молодоженов, ни отпеть покойника.
Кунцевич не щадил даже мертвых. Нередки были случаи, когда по его распоряжению тела недавно умерших людей вырывали из могил и бросали на съедение псам. По-видимому, именно такие «деяния» Иосафата Украинское радио считает сегодня «образцом чистого служения Господу».
Разумеется, происходившее вызывало возмущение населения, что, в свою очередь, немало тревожило светские власти. «Признаюсь, что и я заботился о деле унии, что было бы неблагоразумно оставить это дело, – писал Кунцевичу литовский канцлер Лев Сапега в марте 1622 года. – Но мне никогда и на ум не приходило, что ваше преосвященство будете присоединять к ней столь насильственными мерами… Безрассудно было бы пагубным насилием нарушать вожделенное согласие и подобающее королю повиновение. Руководствуясь не столько любовью к ближнему, сколько суетою и личными выгодами, вы злоупотреблением своей власти, своими поступками, противными священной воле и приказаниям Речи Посполитой, зажгли те опасные искры, которые всем нам угрожают пагубным и всеистребительным пожаром. Если – избави Бог – отчизна наша потрясется (вы своею суровостью пролагаете к тому торную дорогу), что тогда будет с вашею униею?»
Но Иосафат предостережений слушать не желал. Он продолжал разъезжать по епархии с карательной экспедицией. В конце октября 1623 года униатский архиепископ прибыл в Витебск и тут же закрыл все православные храмы. Чтобы не остаться без богослужения, народ собирался за пределами города. Церковные службы проводились в специально сооруженных шалашах. Кунцевич знал об этом и посылал своих подручных разгонять собравшихся. Шалаши разрушали, верующих разгоняли, но они собирались вновь и строили новые шалаши. Иосафат злился и свирепствовал еще больше. Наконец терпение людей лопнуло.
В одно из воскресений слуги архиепископа перехватили православного священника, направлявшегося за город для богослужения. Батюшку избили прямо на улице и заперли в подвале архиерейского дома. Это и стало последней каплей.
Жители города ударили в набат. Вооружаясь на ходу кто чем мог, люди двинулись к резиденции Кунцевича. Сломив сопротивление стражи, они ворвались в дом с криками: «Бей папежника-душехвата!», вытащили Иосафата из покоев и забили насмерть. Тело протащили по улицам и бросили в реку. Таков был бесславный конец униата.
«Жизнь этого человека, начатая изменой правой вере, продолжившаяся рядом насилий и жестокостей, кончилась казнью», – напишет потом православный историк унии. Естественно, случившееся безнаказанным не осталось. Месть католиков была страшна. Узнав о происшествии, римский папа Урбан VIII писал польскому королю Сигизмунду III: «Там, где столь жестокое злодеяние требует бичей мщения Божия, да проклят будет тот, кто удержит меч свой от крови. И так, державный король, ты не должен удержаться от меча и огня. Пусть ересь чувствует, что жестоким преступлениям нет пощады».
Король снарядил в Витебск специальную следственную комиссию. Расследование длилось недолго. Непосредственные участники убийства скрылись, но, так как все равно требовалось кого-то наказать, виновными назначили других. Двадцать человек казнили. Еще сто приговорили к смертной казни заочно (они успели бежать). Многих горожан заключили в тюрьму, некоторых сослали.
У Витебска были отняты все ранее данные ему привилегии, ликвидировалось городское самоуправление. Здание ратуши буквально стерли с лица земли, также как и два православных храма. Другие православные храмы были закрыты, и само православие запрещено, сначала – в Витебске, а затем во всех городах епархии. «Твердыня, защищающая русских от унии, разрушилась», – удовлетворенно отмечал Урбан VIII.
Ну а покойного Кунцевича объявили блаженным. По прошествии более чем двух веков – в 1867 году – его причислили к лику святых.
«В римской церкви для канонизации во святые требуются не богоугодные подвиги христианской любви и благочестия, а хотя бы и кровавые, но блестящие подвиги на пользу и распространение папского владычества, – прокомментировал сей факт видный украинский богослов, протоиерей Андрей Хойнацкий (1836–1888). – Зато и память подобного рода святых при первом удобном случае падает с шумом, как воочию нашею погибла память Иосафата в Литве и на Волыни и как теперь погибает она со всею очевидностью в Холмщине и Галиции».
В самом деле, до недавнего времени если и помнили об Иосафате Кунцевиче, то не как о «святом» и тем более не как об «апостоле национального единства», а как о жестоком гонителе православия. С реанимацией униатства началась и реабилитация таких вот «святых». А кое-кто, если судить по передачам Украинского радио, уже готов делать из Кунцевича национального героя. Что, конечно, лишний раз характеризует тех, кто заправляет сегодня на Украинском радио.
Забытый герой Яким Сомко
Лучше с добрыми делами умереть, нежели дурно жить.
Яким Сомко
Якима Семеновича Сомко по праву следует назвать героем. Смелый, закаленный в сражениях воин. Талантливый полководец. Мудрый правитель. Украина могла бы гордиться таким своим сыном.
Между тем большинству современных украинцев его имя неизвестно. Вниманием историков и вообще тех, кто пишет на исторические темы, он тоже обделен. Далеко не в каждой книге, посвященной выдающимся деятелям казацкой эпохи, можно встретить хотя бы краткий рассказ о нем. Не говоря уже о подробной биографии, которую специалисты по истории Украины до сих пор написать не удосужились. Несколько небольших статей в малотиражных изданиях, короткие биографические справки в энциклопедиях – вот, собственно, и все, что создала украинская историография о некогда славном казацком вожде.
И это неудивительно. Среди «национально сознательных» сочинителей Сомко не популярен, ибо «привел Левобережную Украину под власть Москвы». Неудобен Яким Семенович и авторам противоположной идеологической направленности, поскольку ответственность за его гибель целиком лежит на тогдашней российской власти. В результате и те и другие говорят о нем нехотя, а то и вовсе молчат. Кстати сказать, изображение Сомко, которое можно найти в Интернете, скорее всего, недостоверно и, по-видимому, дает представление о фантазии живописца, а не о подлинном лике исторического деятеля.
Совсем недавно исполнилось триста пятьдесят лет со дня смерти героя. И опять же памятная дата прошла практически незамеченной. А отметить ее нужно было бы уже потому, что дата рождения этого выдающегося человека неизвестна. Лишь приблизительно можно определить, что родился он где-то между 1615 и 1620 годами. Примечательное обстоятельство: происходил будущий казацкий лидер не из казаков, а из переяславских мещан. Правда, семья его впоследствии породнилась с казаком. Да еще с каким! Старшая сестра Якима – Ганна – вышла замуж за Богдана Хмельницкого.
Впрочем, и без того род Сомко был весьма авторитетен. Достаточно указать на факт участия Семена Сома (отца Ганны и Якима) в одном из посольств, направленном малорусским населением в Москву.
И конечно, не стоит объяснять успешную казацкую карьеру Якима Семеновича одним лишь замужеством сестры. В конце концов, Ганна умерла до известных событий 1648 года, то есть до возвышения Хмельницкого. В жизнь тогда еще не великого гетмана, а чигиринского сотника вошла другая женщина. И если, получив булаву, он все же приблизил к себе брата первой, уже покойной жены, значит, были к тому иные основания, помимо семейно-родственных.
С началом Освободительной войны 1648–1654 годов Сомко поступает на службу в Переяславский полк. В начале 1650-х годов – он переяславский сотник, периодически занимающий должность наказного (то есть временно исполняющего обязанности) полковника.
Яким Семенович принимает участие в Переяславской Раде, постановившей воссоединить Малую Русь с Великой, чтобы «вовеки вси едино было». Тогда же присягает он на верность русскому царю и, в отличие от многих других казацких деятелей, остается верным этой присяге до конца жизни.
В сентябре 1654 года Богдан Хмельницкий направляет Сомко с письмом в царскую ставку, что указывает на большое доверие к нему гетмана. Ответственные поручения Яким Семенович выполнял еще не раз. Уже в то время он пользовался немалым влиянием. Неоднократно участвовал в совещаниях казацкой старшины, собиравшейся для обсуждения важнейших вопросов.
Однако в 1657 году, после смерти великого Богдана, положение Сомко пошатнулось. Видимо, хорошо зная, что собой представляет новый гетман – Иван Выговский, Яким Семенович отнесся к его избранию отрицательно. Но выступить открыто не мог – Выговскому верили в Москве и всех его противников считали бунтовщиками. Воспользовавшись этим, новоявленный обладатель гетманской булавы приступил к расправе над недовольными.
Опасаясь за свою жизнь, Сомко вынужден был бежать на Дон. Около года провел он в изгнании. Когда же Выговский открыто объявил об отделении от России и присоединении Малороссии к Польше, Яким Семенович вернулся, чтобы вступить в борьбу с предателем.
Гетман пытался заручиться поддержкой казацкой старшины. Любопытно, что в перечне лиц, которым он выхлопотал у польского короля шляхетское достоинство, есть и фамилия Сомко: Выговский старался подкупить противника. Но казак не продался за дворянское звание. Он становится одним из руководителей антигетманского восстания. Осенью 1659 года изменнику пришлось отречься от власти и бежать.
Теперь булаву получил Юрий (Юрась) Хмельницкий, сын Богдана и племянник Сомко. Яким Семенович оказывается чуть ли не самым приближенным к новому гетману человеком. С триумфом приехал он в родной Переяслав. И вряд ли предполагал, что вскоре будет воевать с близким родственником.
В августе 1660 года Юрась вслед за великорусской армией воеводы Василия Шереметева выступил в поход на поляков. На время своего отсутствия наказным гетманом он назначил дядю. Сомко должен был поддерживать порядок в тылу и готовить подкрепление для войска. Только вот очень скоро тыл превратился в арену боевых действий.
Поход Шереметева закончился катастрофой. В октябре окруженная врагами под небольшим городком Чуднов армия после отчаянного сопротивления капитулировала. А еще до того слабовольный Юрась Хмельницкий, видя трудное положение воеводы, предпочел сдаться, вновь признав над Малороссией власть польского короля. И малорусы… подчинились в большинстве своем этому решению.
Не надо думать, что все они враз стали предателями. Готовность сменить подданство объяснялась другим. Жители со страхом ожидали нашествия поляков и союзной им татарской орды. Призванное защищать край великорусское войско больше не существовало (поражение под Чудновом было пострашнее Конотопского). В возможность отбиться от врагов самостоятельно население не верило. И сочло за благо покориться Польше, надеясь, что заключивший с ней договор Юрась убережет народ от насилия.
Сомко считал по-иному. Он ясно сознавал, что покупать призрачное спокойствие ценой клятвопреступления (нарушения присяги) и бесчестно, и очень ненадежно. «Удивляюсь, что ваша милость, веры своей не поддержав, разрывает свойство наше с православием… – писал Яким Семенович племяннику в ответ на уговоры перейти к полякам. – Не хочу ляхам сдаться; я знаю и вижу приязнь ляцкую и татарскую. Ваша милость человек еще молодой, не знает, что делалось в прошлых годах над казацкими головами; а царское величество никаких поборов не требует и, начавши войну с королем, здоровья своего не жалеет».
Забегая вперед, нужно сказать, что будущее полностью подтвердило правоту Сомко. Поляки, не сумев победить непокорных малорусов, срывали зло на покорных. Татары, не захватив добычи в защищаемых своими жителями городах, грабили и угоняли в рабство обитателей тех населенных пунктов, которые сдались без сопротивления. А гетманы-предатели не могли, да и не хотели защитить своих подданных. Так было при Юрасе Хмельницком. Так было и позднее – при Павле Тетере, Петре Дорошенко, Филиппе Орлике.
Разумеется, Яким Сомко не прозревал грядущее, не выступал в роли пророка. Он всего лишь не хотел быть изменником. «Лучше с добрыми делами умереть, нежели дурно жить, – отмечал он в цитированном письме Юрасю. – Пишите, что царское величество никакой помощи к нам не присылает: верь, ваша милость, что есть у нас царские люди и будут; а если б даже их и не было, то его воля государева, а мы будем обороняться от наступающих на нас врагов, пока сил станет».
Весть об измене племянника застала Якима Семеновича в Белой Церкви. Срочно вернувшись в Переяслав, Сомко собрал возле соборной церкви духовенство, казаков, мещан и заявил, что остается верным царю. Переяславцы поддержали его, избрав своим полковником вместо перебежавшего к врагам Тимофея Цецюры.
Ситуация тем временем становилась угрожающей. За Юрасем под польское ярмо последовала Правобережная Малороссия (за исключением Киева, где находился великорусский гарнизон) и большая часть Левобережной. Кроме Переяславского полка верными Москве остались полк Нежинский во главе с Василием Золотаренко и Черниговский с полковником Иоанникием Силичем. Но Нежин и Чернигов находились дальше от врагов и могли рассчитывать на помощь великорусских отрядов.
Сомко же и его полк на первом этапе военных действий самостоятельно противостояли численно превосходящему противнику. Тут Якиму Семеновичу пригодился прежний боевой опыт. Он лично участвовал в битвах и не только отразил все нападения на Переяслав, но и начал усмирять отпавшее было Левобережье.
Один за другим подчинялись наказному гетману полки и города. Когда же наконец подоспела помощь из Великороссии, чаша весов в борьбе с племянником окончательно склонилась на его сторону.
Несколько раз еще ходил Юрась в походы на левый берег Днепра с поляками и татарами, но постоянно терпел поражения и отступал. Сомко же, утвердившись в Левобережной Малороссии, приступил к отвоеванию Правобережной. В очередной раз разбив войска племянника, он взял Канев и продолжал расширять подконтрольную территорию.
Однако непобедимый на ратном поле, Яким Семенович не был столь же успешен в противоборстве иного рода. Он по-прежнему оставался только наказным гетманом, не являясь полноправным обладателем булавы. Большинство полковников поддерживали стремление Сомко к полноценной власти. В самом деле, не было тогда в Малороссии более достойного кандидата в гетманы. Но…
Свои претензии на булаву выдвигал также нежинский полковник Василий Золотаренко и кошевой Запорожской Сечи Иван Брюховецкий. Оба они засыпали Москву и великорусских воевод в Малороссии доносами, обвиняя Якима Семеновича в измене, тайном сговоре с Юрасем, намерении продаться то польскому королю, то крымскому хану.
А главное – против Сомко усиленно интриговал местоблюститель киевской митрополичьей кафедры епископ Мефодий. Последний представлял собой наглядный пример того, как иногда хождение во власть портит человека.
Ранее, будучи нежинским протоиереем, еще не Мефодий (это монашеское имя), а Максим Филимонович много потрудился для соединения Малой и Великой Руси. Получив же архиерейский сан и должность местоблюстителя, он возмечтал стать киевским митрополитом (то есть главным церковным иерархом в Западной Руси).
С этой целью Мефодий считал нужным иметь под рукой полностью послушного себе гетмана. Таким казался ему Брюховецкий, в меньшей степени – Золотаренко. И уж совсем не годился на роль марионетки Сомко. Поэтому, обещая свою поддержку двум конкурентам Якима Семеновича (причем первому из названных втайне от второго), Мефодий, в свою очередь, слал доносы на наказного гетмана.
Не сложились у Сомко отношения и с великорусскими воеводами. Возможно, кто-то из них завидовал его военной славе. Кто-то был падок на подарки, полученные от конкурентов Якима Семеновича. Кто-то слишком уж доверял доносам (особенно епископским). Как бы то ни было, факт остается фактом: воеводы отзывались о казацком вожде неблагоприятно, также подозревая его в склонности к измене.
Вдобавок ко всему положение осложнялось тяжелым состоянием финансов Русского государства. Сказывались последствия долговременной войны. Денег в казне катастрофически не хватало. Чтобы поправить дела в Москве, не придумали ничего лучшего, чем чеканить медные рубли, требуя от населения принимать их наравне с серебряными.
Понятно, что распоряжение правительства вызвало недовольство, даже волнения. В столице страны вспыхнул бунт, названный потом Медным. Тем более не хотели принимать медь за серебро в Малороссии. И вышло так, что жалованье солдатам великорусских гарнизонов платили медными рублями, а купить что-либо за такие деньги они не могли. Чтобы не умереть с голоду, солдатам приходилось воровать, а то и грабить население. Надо ли пояснять, сколь вредило это единению великорусов и малорусов?
Сомко пытался объясниться с воеводами. Те злились, требовали обеспечить хождение медного рубля наравне с серебряным. Яким Семенович нашел выход.
Из личных средств он одолжил войскам крупную сумму на раздачу жалованья. А затем, по настоятельным просьбам наказного гетмана, правительство стало присылать серебряные деньги. Проблема была решена. Но недовольство «строптивым» казацким вождем нарастало.
В апреле 1662 года на Казацкой раде в Козельце его все-таки избрали полноправным гетманом. Однако стараниями Мефодия, воевод и конкурентов Москва избрание не утвердила. Придрались к формальному поводу: на раде отсутствовал официальный представитель правительства.
Отказ в утверждении очень огорчил Сомко. И все же он продолжал хранить верность присяге.
В связи с происходившим можно только подивиться недальновидности московских бояр, курировавших малорусские дела. Их сомнения в наказном гетмане были бы объяснимы, если бы слово противостояло слову. Трудно верить одному наперекор многим. Словесные заверения Сомко в верности противоречили словесным же, то есть бездоказательным, но многочисленным обвинениям.
Дело, однако, в том, что доносы Яким Семенович опровергал делом. Он продолжал громить врагов России, с которыми, по уверению недоброжелателей, будто бы сговаривался. Доносил, например, переяславский воевода князь Волконский, что, по его сведениям, Сомко готовится перейти к татарам. А спустя несколько дней лагерь наказного гетмана, расположенный в трех верстах от Переяслава, окружила внезапно подошедшая орда. И с полудня до глубокой ночи Яким Семенович со своими казаками яростно отбивался от нападавших, пока не подоспела подмога, высланная тем же воеводой, который теперь убедился в лживости полученной информации.
В другой раз доносчики сообщили, что Сомко собрался сдать Переяслав племяннику. Но когда польско-татарско-казацкое войско во главе с Юрасем снова осадило город, наказной гетман упорно оборонялся. В тех боях погибли два его сына. Доказательство верности более чем весомое. Но и оно не развеяло подозрений.
Наконец Москва дала разрешение на избрание полноправного гетмана в июне 1663 года на «черной» раде (такой, участие в которой должны принять массы рядового казачества – чернь). Местом проведения выборов назначили Нежин.
Соперник Сомко, беспринципный авантюрист Иван Брюховецкий, заранее собрал у города толпы натуральной черни, обещая ей отдать на разграбление дома богатых казаков. Заручился он, умевший льстить и пресмыкаться (чего Яким Семенович не умел и не делал), также поддержкой правительства.
Представителем царя на раде поручили быть князю Даниле Велико-Гагину. Историки подробно описывают, как князь снаряжался в дорогу: взял двадцать стоп бумаги, два ведра чернил, множество свечей и т. п. Кажется, забыл он только ум и совесть.
Прибыв на место, Велико-Гагин не пожелал разбираться в малорусских делах, целиком доверившись доносам. И явно поддержал Брюховецкого, сторонники которого сразу же прибегли к насилию.
Сомко тоже привел на раду полки, был готов к силовому противостоянию. Но его казаки заколебались, увидев, что против них представитель царя. Многие стали переходить на сторону противника.
Яким Семенович пригрозил Велико-Гагину, что таких «выборов» не признает, будет жаловаться в Москву. И тем разъярил князя, приказавшего арестовать теперь уже бывшего наказного гетмана и его приближенных. Под арест попал и Василий Золотаренко, слишком поздно понявший, что является слепым орудием в руках епископа Мефодия.
«Худые-де вы люди, свиньи учинились в начальстве и обрали в гетманы такую же свинью, худого человека, а лучших людей, Сомка со товарищи, от начальства отлучили», – сказал посланцам Брюховецкого князь Волконский, узнав о произошедшем. Наверняка он раскаивался в том, что передавал раньше в Москву непроверенные слухи.
Арестованных выдали на расправу победителю. Суд был скорым и неправым. Сомко, Золотаренко, Силича, некоторых других полковников признали виновными в «измене» и приговорили к смерти.
По некоторым данным, епископ Мефодий, прекрасно зная, что казнят невиновных, в последний момент пробовал уговорить Брюховецкого смягчить приговор. Тот отказал. В сентябре 1663 года осужденным отрубили головы.
Повторю еще раз: когда изменил Юрась Хмельницкий, за ним последовала почти вся казацкая старшина. Верными царю остались трое – Сомко, Золотаренко, Силич. После «черной» рады именно их казнили как «предателей».
Трудно пояснить, о чем думали московские бояре, допуская столь вопиющее торжество несправедливости. Чего здесь больше? Глупости? Подлости?
Вред от случившегося обнаружился сразу. Как отмечалось, Сомко начал отвоевывать Правобережную Малороссию. По согласованию с ним паволочский полковник Иван Попович поднял антипольское восстание. Яким Семенович планировал двинуться ему на помощь. Казацкий летописец Григорий Грабянка пишет, что вместе Сомко и Попович разгромили бы поляков, как делали уже не раз, и продолжили бы славное дело Богдана Хмельницкого.
Вероятно, так оно и было бы. Правобережье воссоединилось бы с Россией уже тогда. Но теперь восставшим помощи не оказали – Брюховецкий выступать отказался. Восстание подавили. Попович погиб.
В конце того же года польская армия вторглась на Левобережье. А достойного полководца, чтобы нанести завоевателям сокрушительное поражение, у казаков не нашлось. Война тянулась несколько лет с переменным успехом. Закончилась она лишь в январе 1667 года подписанием Андрусовского перемирия. Малороссию разделили по Днепру. Правобережная ее часть более чем на сто лет осталась под иноземным игом.
А через год после перемирия Брюховецкий открыто изменил, приказав вырезать все великорусские гарнизоны. Вновь охватило край пламя войны. Многие тысячи великорусов и малорусов заплатили жизнями за преступление Нежинской «черной» рады.
Изменил и Мефодий…
Зло потом было наказано. Брюховецкого казаки забили насмерть. Мефодий умер в заточении в монастыре. Но это не могло вернуть к жизни Якима Сомко.
«Храбрый защитник своего отечества, в бранях неустрашимый, у самой могилы отважный, воин, достойный лучшего жребия, заслуживший делами любовь и уважение потомства» – так охарактеризует его крупный русский историк Дмитрий Бантыш-Каменский.
Увы, потомство о Сомко забыло. И хотя бы эту несправедливость необходимо исправить.
Судьба самозванца. Филипп Орлик: мифы и действительность
Мифов вокруг этого исторического персонажа нагромождено немало. Его называют «великим украинцем», «творцом первой в мире конституции», «несгибаемым борцом за свободу Украины». Но был ли на самом деле таковым Филипп Орлик?
По своему происхождению никакого отношения к Украине он не имел. Родился в октябре 1672 года недалеко от Вильно (Вильнюса). Принадлежал к старинному чешскому дворянскому роду, представители которого в ХV веке переселились в Польшу. По вероисповеданию был католиком.
Все это не мешает «национально сознательным» мифотворцам делать из Орлика православного украинца. Причем делают чем дальше, тем усерднее. Еще в середине ХХ века авторы из украинской диаспоры осторожно предполагали, что мать будущего «гетмана» Ирина, урожденная Малаховская, происходила «правдоподобно из православного рода» и сына крестила «вероятно , по православному обряду». Нынешние псевдоисторики уже не осторожничают. Безбожно передирая труды предшественников, они при этом выбрасывают слова «правдоподобно» и «вероятно», добавляя взамен – «украинский». И вот уже Малаховские оказываются «украинским православным родом» (лишь некоторые оговариваются: «украинско-белорусским православным родом»), а Филипп – крещенным «согласно воли матери по православному обряду». Доказательств, естественно, никаких, но мифотворцам они и не требуются.
Между тем Орлик сам развеял сомнения на сей счет. Он называл себя «сыном польских родителей», вспоминал дядю, родного брата матери, ярого католика и ненавистника православия. Польшу «гетман» неоднократно именовал своей родиной. В Украине же он, по собственному признанию, ощущал себя «иноземцем» и «пришельцем».
Первоначальное образование Филипп получил в Виленском иезуитском коллегиуме. И всю жизнь оставался верным чадом католической церкви. В письме к римскому папе, написанном уже тогда, когда жизнь клонилась к закату, Филипп Орлик презрительно обзовет православие «схизмой» (расколом) и пообещает в случае получения власти над Украиной «показом ошибок и ересей нынешней греческой церкви… тот край к унии с римской церковью привести». Другое дело, что, попадая в православное общество, Орлик скрывал свое вероисповедание, притворяясь православным. Ничего удивительного тут нет. Последователи иезуитского ордена часто вели себя так.
Думается, и в Украине воспитанник отцов-иезуитов появился не случайно. Какое-то время он вроде как обучался в Киево-Могилянской коллегии. Затем (в 1692 году) устроился писарем в канцелярию киевского митрополита. Вскоре перешел в Генеральную войсковую канцелярию.
В многочисленных панегириках Орлику можно прочитать, что он сделал блестящую карьеру благодаря своим «выдающимся способностям», «неутомимому труду», «уму, энергии, талантливости, образованности». В действительности все было гораздо банальнее. В 1698 году Филипп выгодно женился на дочери полтавского полковника Павла Герцика (между прочим, еврея-выкреста). Тут и началось быстрое продвижение вверх по служебной лестнице. А до тех пор никакой карьеры сделать не получалось. На момент свадьбы Орлик все еще оставался младшим канцеляристом. Но уже через четыре года он занимал должность генерального писаря, одну из высших в Гетманщине. Взлет, бесспорно, стремительный. Да еще и сопровождавшийся стремительным обогащением – в качестве приданого жены Филипп получил во владение села в Стародубском, Черниговском, Полтавском полках. Но при чем здесь «выдающиеся способности»?
Если чем-то Орлик и выделялся, то разве что умением угождать начальству. Он являлся автором откровенно подхалимских виршей, прославлявших сильных мира сего. Наиболее известна его ода, посвященная гетману Ивану Мазепе. Называлась она – «Алкид российский».
Очень смущает сие название современных панегиристов. Смущает не имя Алкид (так в латинских текстах именовали героя древнегреческих мифов Геракла), хотя сравнивать Мазепу с Гераклом – явный перебор. Дискомфорт для мифотворцев создает прилагательное «российский». Поэтому украинские публикации сочинений Орлика снабжены своеобразным «пояснением»: дескать, Россией тогда считались Украина и Белоруссия, а нынешняя Россия – это тогдашняя Московия.
Любопытно, что «пояснение» тут же опровергается самим текстом оды, где Мазепу восхваляют за то, что он турецкие крепости преклонил «под власть российских монархов» и отдал гидру бусурманскую «в когти орла российских монархов». Но опять же: что до того «национально сознательным» сочинителям?
Как бы то ни было, а падкому на лесть гетману подхалим пришелся по душе. Орлик стал доверенным лицом Мазепы, был одним из немногих посвященных в тайные его замыслы, в том числе в намерение изменить русскому царю. Когда шведская армия вторглась в Украину, генеральный писарь перебежал к завоевателям вместе со своим начальником. Ну а потом, после Полтавской битвы, им обоим пришлось удирать в турецкие владения.
И вновь-таки: следование Орлика за Мазепой весьма умиляет современных псевдоисториков. Они говорят о беспримерной верности Филиппа и лично потерпевшему поражение гетману, и «идее освобождения Украины от московского ярма». Однако это не так.
Сразу после разгрома шведов под Полтавой Орлик спешно пишет письмо миргородскому полковнику Данилу Апостолу, воевавшему на стороне России. Он кается и проклинает Мазепу, пытается отмежеваться от него. Но было уже поздно. Предатель не мог рассчитывать на прощение. Поневоле довелось ему следовать за гетманом на чужбину, а позднее присутствовать при его кончине.
После смерти Мазепы в гетманском окружении началась форменная грызня за его наследство. Большинство богатств покойного осталось в Украине. Но какие-то сундуки с золотыми монетами вывезти все же успели. За них и разгорелся спор. Главным претендентом являлся племянник гетмана – Андрей Войнаровский. Остальные тоже требовали свою долю, настаивали на том, что золото – собственность всего войска, а не лично умершего, следовательно, родственник Мазепы преимуществ не иметь не должен.
Ожесточение достигло крайних пределов. Орлик впоследствии вспоминал, что всерьез опасался за свою жизнь. В дело вынужден был вмешаться шведский король Карл ХП. Он постановил отдать богатство Войнаровскому, а Орлика сделать новым гетманом.
Правда, радовался Мазепин племянник недолго. Король тут же «одолжил» у него полученное. Но для Филиппа это ничего не меняло. Ему оставалось забавляться гетманскими регалиями, не дававшими теперь реальной власти.
5 (16) апреля 1710 года Орлика «за соизволением наияснейшего королевского величества шведского, протектора нашего» формально «избрали» на должность.
Конечно же это была фикция. «Нового гетмана в его звании могли признавать только одни чужие люди – шведы, да немногие казаки, которые находились с ним в изгнании, так как во владении у него не было ни одного саженя казацкой земли», – отмечал видный малорусский историк Николай Костомаров. Фактически, именуя себя «гетманом», Филипп являлся самозванцем.
К тому же «власть» его, и без того сугубо формальная, оказалась урезанной. При «избрании» были заключены так называемые «Договоры и постановления прав и вольностей войсковых», ограничивавшие полномочия «гетмана» в пользу казацкой старшины. Точнее, бывшей старшины, ибо должности генерального обозного, генерального бунчужного и прочие являлись в той ситуации такой же фикцией, как и звание гетмана.
Вот это-то соглашение политических банкротов и называется в современной украинской псевдоисториографии «первой в мире конституцией». Разумеется, никакой конституцией оно не было. Подобные договоры (договорные пункты) заключались при избрании каждого нового гетмана. Отличие на этот раз состояло в том, что документ составили не только на казакорусском наречии (так именовал письменный язык казаков современник Орлика летописец Самойло Величко), но и на латыни.
Латинский вариант был необходим для не знавшего русского языка Карла ХП, под верховную власть которого щедро отдавали Украину новоявленный «гетман» с подельниками. Озаглавили латинский текст Pacta et constitutiones legum libertatumque Exercitus Zaporoviensis. За образец взяли польские документы, оформлявшие избрание королей, – Pacta conventa. Наличием в латинском названии слова constitutiones («постановления») сегодняшние псевдоисторики воспользовались для сочинения указанного мифа, вкладывая в то слово современный (а не тогдашний) смысл.
Сами же авторы «Договоров и постановлений» (а кто конкретно участвовал в их написании, неизвестно, версия об авторстве Орлика основана на одних предположениях) конституцией (в нынешнем понимании) свой документ не считали. Они были озабочены иными проблемами.
Орлик и его окружение хотели завоевать хоть какую-то часть Украины, чтобы утвердить там свою власть. Но поддержать их могли лишь 3–4 тысячи запорожцев, чего явно не хватало для достижения цели. Практически не было войск и у протектора Филиппа – после Полтавы с Карлом ХП оставалось всего несколько сотен солдат. Зато шведский король сумел привлечь на помощь турецкого султана Ахмеда III. По приказанию из Константинополя в поход с Орликом отправилась 30-тысячная татарская орда. Кроме того, около 4 тысяч солдат прислал Станислав Лещинский – шведский ставленник на польском престоле.
Путь завоевателей лежал в Правобережную Украину. Эта территория считалась владением Речи Посполитой, но на тот момент никаких войск там не было, за исключением небольшого русского гарнизона в Белой Церкви.
Об Белую Церковь воинство Орлика и споткнулось. Оно храбро занимало беззащитные городки и села, жители которых принуждены были признавать нового «гетмана». Однако столкновение с подразделением регулярной армии закончилось для наступавших плачевно. Наткнувшись на сопротивление, татары повернули назад, принявшись грабить и разорять те самые населенные пункты, которые Филипп уже объявил своими. Отряд, присланный Лещинским, ушел обратно в Польшу. Разбрелись и запорожцы. Орлику ничего не оставалось, как с позором вернуться обратно.
Провал похода внес раскол в немногочисленный лагерь орликовцев. Кошевой Кость Гордиенко тоже провозгласил себя «гетманом», уведя за собой запорожцев. С Орликом осталось очень небольшое число казаков. Да и тех он вскоре отправил по приказу Карла XII в Польшу, на войну за интересы Лещинского, где их всех перебили.
Вдобавок ко всему «гетман» запутался в политике, которую сегодня назвали бы «многовекторной». Протекции шведского короля ему показалось мало. Филипп попросился в подчинение султану. Владыка огромной мусульманской империи откликнулся на просьбу. Он выдал специальный указ на сей счет. «Казаки Украины и Запорожья подлежат моему вечному правлению, – говорилось там. – Они будут иметь статус подданных».
В связи с этим кое-кто из современных «национально сознательных» авторов, при всей симпатии к Орлику, сравнивает его с Труффальдино из Бергамо, персонажем известной комедии «Слуга двух господ».
Вообще-то господ могло быть и трое. Филипп на султане не остановился и попытался войти в соглашение с польским королем Августом II, к тому времени вытеснившим своего конкурента Станислава Лещинского из страны. Условия, предлагаемые Орликом, были все те же: признать его гетманом и сделать наместником в польской части Украины. За это он соглашался служить кому угодно: Швеции, Турции, Польше. Правда, Август II ничего ему не ответил, и лавировать украинскому Труффальдино нужно было всего между двумя монархами. Только вот угодить обоим сразу не получилось.
Карл ХП требовал, чтобы Филипп безотлучно находился в его временной резиденции – Бендерах. Ахмед III вызывал его к себе в Константинополь. Султан повелевал выступать в поход на Украину. Король приказывал никуда не выступать. Волей-неволей «гетману» пришлось определяться.
Казалось, выбор напрашивался сам собой. У шведского короля в непосредственном распоряжении не было ни армии, ни денег. У турецкого султана было и то и другое. Тем не менее Филипп предпочел Карла ХП, чем до сих пор озадачивает своих нынешних поклонников. «Почему Ф. Орлик, который пребывал в эпицентре тех бурных событий, постоянно держал руку на пульсе украинской политической жизни, не сумел сделать ставку на более мощного игрока, каким на то время, несомненно, был турецкий султан?» – недоумевают псевдоисторики.
Ларчик открывается просто. В Бендерах у «гетмана» родился сын Яков. В крестные отцы ему Филипп пригласил шведского короля. То, что Карл ХП был по вероисповеданию протестантом, Орлика не смущало. Кумовьев он выбирал по знатности и богатству, а король сим критериям соответствовал.
Только богатство его находилось в Швеции. Король пообещал по возвращении домой выдать крестнику 20 тысяч талеров. Отказавшись от шведской протекции, Филипп лишался надежды на эту сумму.
С другой стороны, султан мог помочь приобрести власть над украинскими землями. Но ведь эти земли надо было еще завоевать, а военное счастье весьма переменчиво, Орлик не раз убеждался в том лично. «Синица в руках лучше, чем журавль в небе», – рассудил он. И ошибся. Шведская «синица» тоже оказалась «в небе».
Когда Карл ХП возвратился на родину, Филипп последовал за ним в расчете на обещанное. Однако опустошенная долговременной неудачной войной шведская казна не могла позволить себе подобных трат. Выплату все время откладывали. А после того, как король погиб в 1718 году во время очередного похода, шансы Орлика получить большой куш стали совсем призрачными.
Жить было не на что. Он погряз в долгах, заложил даже гетманские регалии. Филипп буквально засыпал шведские власти жалобами и просьбами. Сперва вспомнил про золото Мазепы, одолженное королем. Но тут выяснилось, что на то же золото претендует жена Войнаровского Анна. (Сам Войнаровский попался в руки российских агентов и ко времени описываемых событий уже прозябал в Сибири.)
Узнав о конкурентке, Орлик решил бороться. Вместе с собственной женой «гетман» засел за написание доносов. Войнаровского они обвинили в казнокрадстве, а Войнаровскую – в… аморальном поведении. Думается, шведские чиновники немало позабавились, читая те «разоблачения». А в результате – деньги не получила ни одна, ни другая сторона.
Тогда Филипп стал предъявлять более мелкие претензии. Он упомянул даже пятьдесят бочек водки, будто взятые у него в долг шведской армией во время кампании 1708–1709 годов. Каждую бочку «гетман» оценил в 100 дукатов. В целом же он «насчитал» за шведами долга на 100 тысяч талеров, но тут же сообщил, что согласен на половину суммы.
Надо сказать, что шведское правительство не решалось просто отказать наглому попрошайке. Оно опасалось, что обиженный Орлик станет искать покровителей среди европейских монархов и в случае успеха предъявит удвоенные требования при посредничестве коронованных особ. Тем более что некоторые долги действительно были реальными. Поэтому шведы постарались войти с Филиппом в соглашение. Они выплатили ему 10 тысяч талеров (сравнительно небольшая сумма, учитывая сильное обесценивание шведской денежной единицы). Потом согласились дать еще 20 тысяч при условии, что Орлик откажется от дальнейших требований и покинет Швецию.
Самозванец принял предложение. Перед отъездом он еще выпросил у нового шведского короля Фридриха I несколько рекомендательных писем к главам ряда государств и в 1720 году навсегда покинул негостеприимный Скандинавский полуостров.
Перебравшись в Германию, Филипп развернул бурную деятельность. Выдавая себя за «вождя казацкой нации», он пытался сколотить антироссийскую коалицию, подбить монархов к объявлению войны русскому царю, обещал всяческое содействие врагам России со стороны запорожцев и. просил денег. Одновременно Орлик стремился наладить отношения с русскими властями, получить полное прощение за прошлое.
Россия, только что победоносно закончившая войну со Швецией, была великодушна. Филиппа соглашались амнистировать, разрешали ему вернуться. Но вот о том, чтобы признать его гетманом и вернуть конфискованные после измены имения, не могло быть и речи. А без этого Орлик не хотел идти на примирение.
Однако и сколотить европейскую коалицию самозванец не мог. Под разными предлогами высокопоставленные чиновники уклонялись от встречи с ним. Денег тоже не давали, а «заработанное» в Швеции быстро заканчивалось. Орлик не был бы Орликом, если бы не попытался получить от шведов средства еще раз. Не лично, а через жену и от ее имени он обратился с просьбой о вспомоществовании. Но шведское правительство вежливо ответило, что все расчеты с семейством Орликов закончены. Сбережений же больше не оставалось.
Оказавшись на грани нищеты, Филипп решается снова обратиться к султану. Сделал он это напрасно. В Турции еще не забыли «многовекторного» политика. Уже в приграничной турецкой крепости Хотин местный комендант отказался его принять и через подчиненных передал, чтобы «гетман» убирался туда, откуда пришел. Филипп заявил, что имеет письмо от шведского короля к султану. Такому аргументу комендант не мог ничего противопоставить (это, пожалуй, единственный случай, когда полученные в Швеции бумаги Орлику пригодились).
Письмо отобрали и отправили по назначению. А самозванца поселили в городе до получения о нем султанского повеления. Для Филиппа началась полоса унижений.
Содержание ему назначили мизерное. Жить приходилось впроголодь. Комендант по-прежнему отказывался его видеть. С почти нескрываемой завистью описывает Орлик в своем путевом дневнике, как торжественно принимали в Хотине какого-то гусарского поручика, везшего в Константинополь письма польского короля. С пушечным салютом, музыкой. А его, «гетмана», не удостаивали вниманием. «Не так должны благодарить за мои услуги Оттоманской Порте» (Портой называлось турецкое правительство. – Авт.)», – писал Филипп коменданту, а тот бесцеремонно отвечал, что не может его принять, так как занят более важными делами.
Таким образом прошло почти два месяца. Наконец из столицы пришло разрешение проехать в глубь государства, но… Повезли Орлика не в Константинополь, а в македонский город Сереза.
Это была настоящая «дыра» с нездоровым климатом. Зажиточные обитатели города на летние месяцы уезжали в горы, спасаясь от жары. А Филиппа привезли как раз летом. Поселили его в доме, стены которого оказались покрыты плесенью. Когда он стал жаловаться, сопровождающий турецкий чиновник заявил, что отведенное для него здание – лучшее в городе, остальные – еще хуже.
Денег на проживание снова выделили мало. К тому же их выплату постоянно задерживали. Турки не скрывали своего презрения к «гетману». Он писал письма в Константинополь (визирю), в Крым (хану), в Швецию, в Запорожье с просьбой помочь ему выбраться отсюда. Ответы не приходили. Ко всему прочему юного сына Орлика, которого тот взял с собой в Турцию (остальная семья осталась в Европе), стал домогаться какой-то гомосексуалист-янычар, а местные власти отказали приезжим в защите.
Неизвестно, чем бы все закончилось, но наступило некоторое облегчение участи. Через своего секретаря-француза Филиппу удалось достучаться до сердец французских дипломатов, и те выхлопотали у турок разрешение на переезд «гетмана» в Салоники.
Здесь он пробыл двенадцать лет, называя тамошнее житье пленом. Впрочем, сложа руки Орлик не сидел.
Вновь он составляет планы антироссийской коалиции. Вновь приглашает в Украину иностранные войска. Обещает устроить там «революцию», если только его освободят. Уверяет, что запорожские казаки только и ждут его сигнала, чтобы выступить против России, что все население Украины готово под его руководством восстать против «московского ярма». Все это не соответствовало действительности. Разоблачение лжи грозило окончательным подрывом репутации, но «гетман» не мог остановиться.
В одном из писем, направленном во Францию, Филипп сообщал, что имеет в своем распоряжении 60-тысячную казачью армию. Ему не ответили. Расценив молчание адресата по-своему, Орлик в следующем письме пишет уже о 100 тысячах верных ему казаков. И так далее.
Момент истины настал в 1733 году. В Европе началась Война за польское наследство (возможность посадить в Варшаве своего ставленника). Франция противостояла России. И французы решили воспользоваться столь долго предлагаемыми услугами. Французская дипломатия устроила освобождение «гетмана». Его перевезли в Бессарабию, поближе к российской границе. Снабдили деньгами. Дали возможность вступить в контакт с запорожцами.
Тут-то и выяснилось, что никакого авторитета Филипп не имеет, что никто в Украине не помышляет об «освобождении от московского ярма», а запорожцы… выступили на стороне России. «Гетман» стал большим разочарованием и для французов, и для турок.
После случившего с Орликом не церемонились. Турецкие власти назначили его в свиту к бывшему трансильванскому князю Ракоци, находившемуся в Турции на положении политэмигранта. Филипп обиделся, так как считал себя, «гетмана», «вождя свободной нации», по рангу не ниже трансильванца. Но на его обиды и протесты внимания больше не обращали. Пришлось прислуживать трансильванскому изгнаннику.
В последний раз луч надежды блеснул перед Орликом в 1741 году. Вспыхнула новая Русско-шведская война. Шведы необдуманно напали первыми, но быстро уяснили, что тягаться с Россией самостоятельно не могут. Тут и подвернулся им старший сын Филиппа Григорий, состоявший на французской службе.
По натуре он, видимо, был копией отца, а потому врал напропалую. Шведам Орлик-младший поведал, что в Турции живет в пренебрежении и бедности человек, способный устроить на юге России «революцию».
Вряд ли ему особо поверили. Наверняка в Швеции помнили «гетмана» и знали ему цену. Но утопающий хватается за соломинку…
И теперь уже шведские дипломаты ходатайствуют перед турецким правительством за «вечного революционера». Филиппа опять перевозят ближе к российской границе. И с тем же результатом. Вынужденный в очередной раз демонстрировать собственную несостоятельность, самозванец подорвал здоровье. В мае 1742 года он умер, покрытый позором, и был похоронен в Молдавии. Могила его вскоре затерялась.
Из исторического небытия сию фигуру извлекли в Украине в наше время. И стали тянуть на пьедестал как национального героя. Несколько лет назад в центре Киева Орлику поставили памятник. Но это уже не история, не прошлое. Это наше настоящее. Печальное настоящее.
Родоначальник русских романистов Василий Нарежный
Имя Василия Трофимовича Нарежного вряд ли много скажет сегодня широкой публике. И в России, и в Украине он забыт основательно. Между тем роль в истории отечественной литературы этот писатель сыграл значительную. Знаменитый литературный критик Виссарион Белинский справедливо называл Нарежного родоначальником русских романистов. Классик русской литературы Иван Гончаров отозвался о нем как о предтече Гоголя и даже спустя полвека после смерти литератора констатировал: «В современной литературе это была бы сильная фигура».
Талант Василия Трофимовича отмечали многие его современники. В конце концов, именно он был автором первого русского оригинального романа (до тех пор романы русских авторов являлись лишь подражанием произведениям западноевропейских романистов). Он же написал первый в России самобытный сатирический роман.
Всего этого, казалось бы, должно быть достаточно, чтобы обеспечить Нарежному память и уважение потомков. Но получилось не так.
Для Украины Василий Трофимович может быть ценен еще и как уроженец сего края, малорус по происхождению. Украинец – зачинатель русского романа! Это ли не повод для гордости? Увы, ныне в самостийной державе совсем другие «герои». Все, объединяющее Малороссию с Великороссией, предано проклятию и забвению.
Тем более стоит напомнить о Нарежном. Напомнить вопреки господствующим политическим тенденциям и людской забывчивости.
Происхождение
Он родился в 1780 году (точная дата рождения неизвестна) в небольшом селении Устивцы Миргородской сотни Гадячского уезда (ныне это Полтавская область Украины). Был старшим сыном в семье казака Трофима Ивановича Нарежного.
В сохранившихся с тех времен документах указывается, что Трофим Нарежный происходил «из польского шляхетства». Это может ввести в заблуждение современного читателя, недостаточно хорошо знакомого с историческими нюансами. Следует помнить, что граница между Российской империей и Речью Посполитой проходила тогда в Малороссии по Днепру и только в районе Киева несколько уклонялась от великой реки на запад. Иными словами, почти все малорусское Правобережье, за исключением Киева и небольшой прилегающей к нему территории, считалось Польшей, а выходцы оттуда – происходящими из Польши.
Польскими по происхождению признавались и православные малорусы-шляхтичи, если шляхетство их предки получили в период польского господства над Малороссией. Как известно, в ходе восстания Богдана Хмельницкого большинство шляхтичей, независимо от вероисповедания, поддерживали власть польского короля. Но небольшая их часть (около трехсот человек) перешла на сторону народа, а после раздела Малороссии по Днепру предпочла остаться в русском подданстве. Исследователи предполагают, что от одного из таких шляхтичей вел происхождение род Нарежных.
Трофим Нарежный на момент рождения сына Василия служил в одном из казачьих полков русской армии. В 1785 году полк был преобразован в Черниговский карабинерский. А в следующем году Трофим Иванович, возраст которого достиг сорока лет (век, по тогдашним представлениям, солидный), подал прошение об увольнении с военной службы по болезни. При отставке он получил чин корнета и вернулся на жительство в Устивцы, где владел небольшим имением – пахотной и сенокосной землей.
Отставной офицер повел обычную жизнь мелкого, не имеющего крепостных помещика. В том же 1786 году решением Киевской дворянской комиссии род его был внесен «в родословную дворянскую Киевского наместничества книгу», о чем Нарежный получил соответствующую грамоту.
Женат он был на «дочери дворянской» Анастасии, младшей мужа тремя годами. Кроме Василия в семье росли дочь Параскева (Прасковья), родившаяся через два года после старшего брата, и сын Феофан (его разница с Василием составляла четырнадцать лет).
В поэтической обстановке
Детство будущего романиста прошло, как любили выражаться дореволюционные исследователи, в поэтической обстановке Малороссии. Вероятно, отец его сам занимался земледельческим трудом (бытие небогатых дворян в этом отношении мало отличалось от жизни обеспеченных крестьян). В одном из романов Василия Нарежного выведен такой дворянин-землепашец, и, по мнению биографов писателя, образ этот был списан автором с отца.
Вообще многие детские впечатления отразились затем в творчестве Василия Трофимовича. Особенно в тех произведениях, действие которых происходило в Малороссии. «Нарежному не приходилось, как впоследствии Гоголю, собирать сведения о старых обычаях или выписывать образцы народных одежд, – отмечала Надежда Белозерская, автор первой и, кажется, до сих пор не превзойденной по обилию задействованного материала биографии писателя. – Он видел и знал их с детства. Видел старинные казацкие хаты с их тогдашним убранством, широкие решетчатые дворы сотников и дома их, разделенные надвое, со сквозными сенями и просторным покоем, где в старину производился суд и устраивались пиры. Еще живы были представители Запорожской Сечи, уничтоженной в 1775 году, а также внуки и правнуки участников войн Хмельницкого. Рассказы их о казацких подвигах и последних гетманах, слышанные в детстве, должны были глубоко врезаться в память Нарежного и не могли быть забыты им».
Первоначальное образование Василий получил дома, под руководством дяди (видимо, брата матери). Затем, как можно предположить, какое-то время пребывал в Черниговской семинарии. А в двенадцатилетнем возрасте мальчика отвезли в Москву для продолжения обучения.
«С похвальным прилежанием»
Определили его в Дворянскую гимназию. Учеба там открывала перспективу для поступления в Императорский Московский университет (единственный тогда университет в империи).
Срок обучения в гимназии был не ограничен и зависел от личных качеств учеников. Наиболее способные и трудолюбивые из них проходили учебный курс за четыре-пять лет, получая звание студента. Другим для этого требовалось больше времени. Так, Нарежному понадобилось шесть лет, что свидетельствует: учился он неплохо, но в отличниках не числился.
По тогдашним правилам само по себе наименование студентом не гарантировало поступление в университет. Выпускникам Дворянской гимназии следовало продемонстрировать свои знания на специальном экзамене, для подготовки к которому давалось определенное время. Поэтому Василий получил доступ к слушанию лекций лишь в 1799 году, через год по окончании гимназии и получения студенческого звания.
Университетский курс был рассчитан на четыре года. Первый являлся как бы подготовительным. Учащиеся совершенствовались в языках – русском, латинском, одном из новейших иностранных – французском или немецком (Нарежный учил немецкий). Затем студенты выбирали для себя один из трех факультетов – философский, юридический или медицинский.
Будущий писатель остановил выбор на философском. Там, помимо собственно философских наук, изучались науки исторические, математические, некоторые естественные.
Судя по документам, предметы давались Василию легко. Как сказано в аттестате Нарежного, обучался он «с похвальным прилежанием и успехом, поступал добропорядочно, за что в 1800 году получил в награждение серебряную медаль».
К тем же годам относятся и первые его творческие пробы. Писал он стихотворения, потом пьесы, прозу. Публиковался в издаваемых при университете журналах «Приятное и полезное провождение времени» и «Ипокрена, или Утехи любословия». Участвовал в работе университетского литературного кружка. Исследователи творчества Нарежного подчеркивали, что уже в ранних его произведениях, конечно еще незрелых и несовершенных, видны проблески незаурядного таланта.
Однако и учеба, и литературная деятельность неожиданно были прерваны в октябре 1801 года (то есть после второго курса). Нарежный подал прошение об отчислении из университета, поступил на государственную службу и уехал на Кавказ.
Причины такого крутого поворота в судьбе молодого человека неизвестны. Наверное, какую-то роль тут сыграли материальные затруднения студента-провинциала.
Начало карьеры
Новым местом жизни и деятельности Нарежного стала Грузия. Этот край только что был присоединен к России. Организовывалась местная административная власть – Верховное грузинское правительство, во главе которого был поставлен Петр Коваленский (кстати, малорус по происхождению).
Новоназначенный начальник края энергично вербовал себе служащих. В число набранных чиновников попал и вчерашний студент. Очень вероятно, что здесь не обошлось без брата правителя Грузии – Михаила Коваленского, вошедшего в малороссийскую историю прежде всего как ученик и первый биограф Григория Сковороды. В то время он занимал должность куратора Московского университета и вполне мог порекомендовать Василия.
В аттестате, полученном Нарежным при отчислении из университета, сказано, что он достоин обер-офицерского чина. При поступлении на службу ему присвоили гражданский чин коллежского регистратора, соответствовавший, согласно Табели о рангах, офицерскому званию корнета. Таким образом, Василий Трофимович начал карьеру с той ступени, на которой закончилась карьера его отца.
В Грузии он получил назначение секретарем управы земской полиции в Лори. Первые же шаги на новом поприще обернулись не только свежими впечатлениями, но и испытаниями, даже разочарованиями.
Василий Трофимович столкнулся с полудикими нравами горцев, своеволием местной знати и самоуправством российских властей. Как оказалось, глава грузинской администрации заботился не столько о государственных интересах, сколько о набивании собственной мошны. Он занимался поборами и казнокрадством.
С населения вымогали деньги якобы на содержание административного аппарата. В действительности же львиная часть полученных средств оседала в карманах Коваленского и его приближенных. Зато мелким служащим жалованье задерживали порой на несколько месяцев, чем, конечно, создавались предпосылки для чиновничьих злоупотреблений.
Позднее за свои преступления Коваленский лишится поста и будет отдан под суд. Но Нарежный не стал дожидаться такого исхода. В мае 1803 года он уволился с должности и выехал в Петербург.
В Петербурге
В столице Российской империи Василий Трофимович поступил на должность писца в отделение соляных дел Экспедиции государственного хозяйства МВД. Любопытно, что жалованье ему положили по высшему разряду, больше, чем другим писцам с аналогичным чином и стажем работы.
Биографы писателя затрудняются сказать, как ему удалось устроиться на службу в Петербург, да еще с повышенным окладом. Думается, начальство Нарежного учло факт учебы его в университете. Не исключено также, что Василию Трофимовичу составил протекцию его университетский товарищ Федор Вронченко, начавший карьеру в столице несколько раньше Нарежного и уже освоившийся там (впоследствии Вронченко дослужился до должности министра финансов). Недаром ведь спустя много лет, в 1825 году, готовя к изданию роман «Два Ивана», писатель посвятил его бывшему соученику, признавшись, что тот покровительствовал ему «с давнего времени».
А может быть, за Василия Трофимовича похлопотал другой малорус, земляк с Полтавщины Иван Мартынов, бывший на время приезда Нарежного в Петербург директором канцелярии Министерства народного просвещения. Мартынов, как вспоминали современники, симпатизировал Нарежному, который «нравился ему своим юмором, веселым и рыцарским бесстрашным характером, что обнаруживался довольно часто».
Как бы то ни было, карьеру молодой человек делал успешно. В 1804 году его произвели в следующий гражданский чин – губернского секретаря. В 1807 году Василий Трофимович перешел на службу в Горную экспедицию кабинета его величества. В том же году он был произведен в титулярные советники (минуя чин коллежского секретаря), а в 1811 году – в коллежские асессоры (что соответствовало армейскому чину майора).
Литературные успехи и неудачи
Постепенно Нарежный возобновляет и литературную деятельность. В 1809 году выходит сборник его повестей «Славянские вечера», благожелательно встреченный критикой. В следующем году писатель публикует еще две повести.
Откровенно говоря, сегодняшнему читателю эти произведения могут показаться несколько примитивными. Но по справедливому замечанию Надежды Белозерской, о сочинениях Василия Трофимовича следует судить «по связи их с предшествующей, а не последующей литературой».
Русская словесность в допушкинскую эпоху стояла на невысокой ступени развития. И на тогдашнем фоне творчество Нарежного действительно было выдающимся. Его талант пользовался признанием.
Ободренный успехом писатель приступает к работе над, пожалуй, самым известным своим сочинением – авантюрным (приключенческим) романом «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова».
В 1813 году Василий Трофимович женится и, будучи уверенным, что сможет прокормить семью литературным трудом, покидает службу.
Судьба нанесла ему удар неожиданно. После выхода в 1814 году трех первых частей «Российского Жилблаза» печатание романа было остановлено цензурой по требованию министра народного просвещения Алексея Разумовского (тоже малоруса, сына бывшего гетмана).
Официально министр ссылался на обнаруженные в тексте произведения некоторые «предосудительные и соблазнительные места», а также на содержащуюся в романе завуалированную критику крепостнических порядков. Реальная же причина запрета была иной.
Нарежный посмел критиковать тайное общество масонов. Нет, никаких особых тайн писатель не раскрывал (он их просто не знал). В романе масоны показаны как легкомысленные и безнравственные люди, проводившие время в застольях и кутежах с дамами. Таковыми в общем-то и были многие члены «братства вольных каменщиков» низших ступеней посвящения. О масонах же более высоких ступеней автор «Российского Жилблаза» представления не имел. Иначе наверняка поостерегся бы вступать с ними в неравное противоборство.
Масоны тогда пользовались покровительством высокопоставленных чиновников. Некоторые и сами занимали высокие должности. Выпад против своего общества они восприняли с негодованием. В этих условиях участь романа была предопределена.
Для Василия Трофимовича случившееся стало серьезным ударом. Слишком много надежд возлагал он на публикацию. Теперь о том, чтобы прокормиться одним творчеством, не могло быть и речи. К тому же в семье подумывали о детях (в 1816 году у писателя родится сын). Необходимо было заботиться о хлебе насущном.
В 1815 году Нарежный вновь поступает на службу. На сей раз столоначальником в Инспекторский департамент военного министерства.
Несмотря на признанное «крамольным» сочинение, в карьере его не притесняли. В последующем за возвращением на службу году Василий Трофимович был награжден орденом Святой Анны 3-й степени. Еще через два года получил очередной чин надворного советника (то есть подполковника, если сравнивать с военной иерархией). В 1821 году «за болезнью», в соответствии с прошением, вышел в отставку.
Сложнее было с литературой. После запрета «Российского Жилблаза» Нарежный на некоторое время оставил творчество. Но вскоре оправился. В 1818 и 1819 годах опубликовал две новые повести (продолжение «Славянских вечеров») в журнале «Соревнователь просвещения и благотворения», издававшемся Вольным обществом любителей российской словесности. На рассмотрение сего общества предложил он и свой роман «Черный год, или Горские князья», написанный на основе грузинских впечатлений. Это и был первый в России самобытный сатирический роман, о котором упоминалось выше.
К сожалению, здесь Нарежного снова ждала неудача. В Вольном обществе любителей российской словесности посчитали произведение недостаточно художественным и содержащим неприличные шутки «насчет религии и самодержавной власти». Если с претензиями первого плана можно соглашаться или не соглашаться («На вкус и цвет товарищей нет», – гласит народная мудрость), то политические обвинения явно являлись несостоятельными. Они опровергаются простым фактом: практически запрещенный в либеральное царствование Александра I роман был спокойно пропущен цензурой в печать при гораздо более строгом (но и более справедливом) императоре Николае I.
Правда, произошло это уже после смерти писателя. А тогда, на заседании Вольного общества любителей российской словесности, он, надо полагать, пережил немало неприятных минут.
Последние годы
Но теперь Василий Трофимович уже умел держать удар. Он не опустил рук даже на короткое время. Разорвав связи с «любителями российской словесности», Нарежный энергично продолжил литературные занятия. Словно чувствуя приближение смерти, писатель торопился воплотить в жизнь творческие замыслы.
В первой половине 1820-х годов одно за другим появляются в печати его произведения: сначала повести, а затем романы «Бурсак» и «Два Ивана, или Страсть к тяжбам», единодушно относимые критиками к лучшему из созданного Нарежным.
В ряде сочинений Василий Трофимович обращается к прошлому родной Малороссии. И делает ряд замечаний, которые сильно не понравились бы сегодняшним украинским «национально сознательным» псевдоисторикам и «деятелям культуры», если бы те знали что-нибудь о писателе и читали его книги.
Так, например, он вкладывает в уста одного из персонажей, малороссийского гетмана, слова о желании «исполнить любимое намерение свое – передать Малую Россию в материнское лоно Великой». Критично относился Василий Трофимович и к Запорожской Сечи, именуя ее «чудовищной столицей свободы, равенства и бесчиния всякого рода», где казаки присвоили себе «высокое право похабничать, забиячить и даже разбойничать (последнее дозволяется только вне пределов запорожских)». Запорожцев он называл «одичалыми людьми», ведущими «убийственную и даже бесчестную жизнь» и являющимися небезопасными в том числе «для своих собратий, а особливо семейных».
Последним произведением, над которым работал Нарежный, стал роман «Гаркуша, малороссийский разбойник». Книга так и осталась незаконченной. Летом 1825 года писатель неожиданно скончался. Было ему всего сорок пять лет.
Смерть Василия Трофимовича прошла фактически незамеченной. В печати не появилось ни единого некролога. Лишь газета «Северная пчела» в кратком сообщении упомянула, что, мол, умер на днях среди прочих такой-то литератор. Объяснение всеобщему молчанию биографы писателя склонны пояснять обстоятельствами его кончины. Будто бы Нарежный умер от перепоя, валяясь «в бесчувственном состоянии где-то под забором». Являлось ли это известие верным, или оно было сплетней, установить теперь вряд ли возможно.
Но в любом случае какие-либо недостатки Нарежного (а они есть у всякого человека) не должны заслонять его заслуг перед русской литературой. Он в самом деле являлся первопроходцем. Как отмечали литературоведы, в отличие от множества более ранних и современных Василию Трофимовичу литераторов-подражателей, «только в произведениях Нарежного мы встречаем вполне самостоятельные, ему принадлежащие сюжеты, последовательный законченный рассказ, цельные реальные описания, рельефно обрисованные типы и характеры… Везде, где Нарежный касается современной действительности в своих литературных произведениях, он является вполне самобытным, изображает реальный русский быт, русские нравы и русских людей с их характерными особенностями, привычками, типичными чертами».
Широко известный тогда литературный критик Николай Надеждин называл лучшие произведения писателя «подлинно народными русскими романами». «Правду сказать, – писал критик о романах Нарежного, – они изображают нашу добрую Малороссию в слишком голой наготе, не отмытою нисколько от тех грязных пятен, кои наведены на нее грубостью и невежеством; но зато – какая верность в картинах! Какая точность в портретах! Какая кипящая жизнь в действиях!»
Нельзя не сказать и о заслугах Василия Трофимовича в развитии русского литературного языка. Этот язык, общий для великорусов и малорусов, разрабатывался ими совместно. И Нарежный сыграл тут не последнюю роль. Как замечали исследователи, «Нарежный смело идет на ввод в литературный язык просторечия, тех неканонизированных карамзинистами словесных форм, которые впоследствии в языке Крылова, Пушкина, Гоголя станут естественными, войдут в систему общенационального литературного языка».
Можно ли было забыть столь выдающегося человека? Увы, случилось то, что случилось.
Забвение
Первое время после смерти Василия Трофимовича память о нем сохранялась. С конца 1820-х и до середины 1830-х годов издавались его сочинения. О значении творчества писателя высоко отзывались собратья по перу. Несомненным являлось влияние Нарежного на Николая Гоголя. Один из сюжетов Василия Трофимовича использовал молодой Николай Некрасов.
Был Нарежный известен и за границей. В 1829 году видный французский славист Жан-Мари Шопен посвятил ему статью в «Энциклопедическом обозрении», где отметил, что среди русских писателей, которые изображали национальные нравы, «Нарежный бесспорно занимает первое место».
Однако уже в 1841 году Виссарион Белинский скажет о нем как о «совершенно забытом». Надежда Белозерская, собравшаяся в конце ХIХ века писать о Нарежном книгу и в поисках материалов проработавшая значительное количество литературы, отметила, что «в биографических и энциклопедических словарях, даже наиболее пространных, или вовсе не упоминается о нем, или же мы встречаем самый краткий отзыв о «первом русском романисте», почти в одинаковых выражениях».
Мало что изменилось и в последующем. В советские времена некоторые (далеко не все!) произведения Василия Трофимовича были переизданы. Но в общей массе выходивших тогда книг они остались незамеченными. О современности же уже говорилось.
Нарежный забыт прочно. И совершенно несправедливо. Так, может быть, пора вспомнить?
Владимир Даль, которого мы не знаем
Владимира Ивановича Даля нельзя назвать неизвестным деятелем нашей истории. Любой образованный человек укажет на него как на составителя четырехтомного «Толкового словаря живого великорусского языка». Вот только этим фактом все знание о Дале, как правило, и ограничивается. Может быть, кто-то вспомнит еще, что Владимир Иванович занимался собиранием пословиц русского народа. Между тем он являлся талантливым писателем, прекрасным врачом, бесстрашным офицером, государственным деятелем, другом Пушкина, автором учебников по зоологии и ботанике. «Это был человек, что называется, на все руки. За что ни брался Даль, все ему удавалось усвоить», – вспоминал хорошо его знавший Николай Пирогов, выдающийся русский медик.
Он родился 10 ноября 1801 года в небольшом городке Лугань (нынешний Луганск). Отец будущего ученого Иоганн Даль, датчанин по национальности и врач по профессии, приехал в Россию при Екатерине II. Мать Владимира Ивановича Мария, урожденная Фрейтаг, происходила из немецкого, но давно уже обрусевшего рода. Разговорным языком в семье был русский. Именно на нем мать разговаривала с детьми. На этом же языке юный Владимир прочел первые в своей жизни книги.
Первоначальное образование Даль получил в Морском кадетском корпусе, о котором у него остались не очень хорошие воспоминания. «Лучшие годы жизни, убитые мною при корпусном воспитании, не могли поселить во мне никаких добрых нравственных наклонностей; ими я обязан домашнему воспитанию, – напишет Владимир Иванович впоследствии в автобиографической записке. – Отец мой был прямой, в самом строгом смысле честный человек, но в обращении с нами несколько сух и иногда даже суров; но мать разумным и мягким обращением своим, а более всего примером, с самого детства поселила во мне нравственное начало, окрепнувшее с годами и не покидавшее меня всю жизнь. Не умею объяснить, как и чем это сделалось, но чувствую и сознаю, что это так и ныне».
По окончании корпуса мичманом (первый офицерский чин в то время) семнадцатилетний Владимир Даль был определен на службу на Черноморский флот, где прослужил четыре года. Жил он тогда в Николаеве.
Молодой офицер увлекался литературой, сам пробовал писать стихи, что и навлекло на него первые серьезные неприятности. Кто-то написал едкую эпиграмму на любовницу командующего флотом вице-адмирала Алексея Грейга. А поскольку стихотворные опыты Даля не являлись секретом для окружающих, подозрение пало на него. Разгневанный начальник приказал посадить мичмана на гауптвахту, а военный суд приговорил его «за сочинение пасквилей» к разжалованию в матросы.
В поисках справедливости Даль обратился в Петербург, написав прошение на имя императора. К счастью, в столице разобрались в ситуации. Судебный приговор отменили, а Владимира Ивановича с повышением (присвоив чин лейтенанта) перевели на Балтийский флот.
Однако пережитый конфликт окончательно отвратил молодого человека от морской службы, к которой он и так не испытывал большой тяги. Дослужив обязательный по окончании Морского корпуса семилетний срок, Владимир Иванович вышел в отставку и отправился в Дерпт, где проживала его уже овдовевшая мать. Там Даль поступил на медицинский факультет местного университета и проявил себя очень способным студентом.
Учеба завершилась раньше положенного времени. Шла очередная русско-турецкая война, и Владимир Иванович, досрочно выдержав экзамен на степень доктора хирургии, в марте 1829 года в качестве военного врача направился в действующую армию.
Ему приходилось присутствовать при многих сражениях, под вражеским огнем делать операции раненым. Помимо прочего, Даль заведовал противочумным отделением походного госпиталя (чума оказалась для русской армии не менее опасным противником, чем турки). За мужество, проявленное в Турецкую кампанию, военврач был награжден орденом Святой Анны 3-й степени. В Россию он вернулся только в апреле 1830 года.
Мирная передышка продолжалась недолго. Спустя несколько месяцев вспыхнуло восстание в Польше. Владимир Иванович вновь отправляется на войну. Здесь он снова отличился, но не только как доктор. Отряду, к которому был приписан Даль, необходимо было переправиться через Вислу, мост же сожгли повстанцы. Ни одного инженера в отряде не было, но с их обязанностями блестяще справился военный врач. Он предложил соорудить мост из пустых бочек (неподалеку располагался винокуренный завод) и руководил строительными работами до полного их завершения.
После переправы Владимира Ивановича оставили наблюдать за исправностью сооружения (при этом и обязанности врача никто с него не снимал). Более месяца длилась инженерная служба. Закончилась она также внезапно. К мосту неожиданно прорвались повстанцы. Положение было критическим. Крупные силы противника могли выйти в тыл русской армии. Небольшой гарнизон мостового укрепления не в состоянии был им помешать.
Даль находился на самой середине моста, когда туда вступила польская кавалерия. Не раздумывая, он схватил топор и на глазах у приближающихся врагов перерубил несколько канатов. Бочки стали расплываться. Только что казавшийся прочным мост исчез почти моментально. Под вражескими выстрелами Даль бросился в воду и доплыл до берега, где находились его солдаты.
Этот подвиг был отмечен в донесении, поданном императору русским главнокомандующим генерал-фельдмаршалом Иваном Паскевичем (между прочим, малорусом по происхождению). Николай I наградил героя орденом Святого Владимира 4-й степени…
С окончанием боевых действий Владимир Иванович поступил на работу в Петербургский военно-сухопутный госпиталь. Он приобрел славу замечательного хирурга, в особенности же хирурга-окулиста. В то же время Даль серьезно занялся литературой и вскоре под псевдонимом Казак Луганский выпустил первую книгу – сборник русских сказок.
К медицинской славе добавилась писательская. Сборник имел огромный успех и, между прочим, способствовал знакомству автора с Александром Пушкиным. Они быстро сдружились. (Позднее Владимир Иванович как врач проведет последние три дня у кровати смертельно раненного гения.) Под влиянием книги Даля великий русский поэт написал свою замечательную «Сказку о рыбаке и рыбке».
Но та же книга стала причиной новых неприятностей Владимира Ивановича. Нашлись «доброжелатели», донесшие, будто в сказках автор намекает на правительство, глумится над ним. Третье отделение, не вникнув в суть, арестовало «неблагонадежного» сочинителя…
Освободили Даля в тот же день по распоряжению самого царя. Государь император помнил героя Польской войны и, узнав, кто скрывается под «казачьим» псевдонимом, строго отчитал не в меру ретивых жандармов. Выпускать арестанта на свободу явился лично управляющий Третьим отделением. Тем не менее произошедшее побудило Даля, всегда крайне болезненно реагировавшего на столкновения с представителями властей, искать новое место службы.
Случай вскоре представился. Назначенный оренбургским военным губернатором, Василий Перовский (кстати, еще один малорус, внук последнего на тот момент малороссийского гетмана Кирилла Разумовского) пригласил его на должность чиновника для особых поручений при своей персоне. В Оренбурге Владимир Иванович, кроме выполнения прямых служебных обязанностей, принял участие в устройстве зоологического музея, составил два вышеупомянутых учебника, изучал историю и природу края…
В дальнейшем он заведовал особой канцелярией министра внутренних дел Льва Перовского (брата оренбургского губернатора), занимал должность управителя удельной конторы в Нижнем Новгороде, написал множество рассказов, повестей, научных статей, очерков, был избран членом-корреспондентом Императорской академии наук, участвовал в организации Императорского Русского географического общества. Конечно же главным трудом Даля стал его знаменитый словарь, включавший в себя более 200 тысяч слов, около 80 тысяч из которых собраны самим Владимиром Ивановичем (собирать материалы для словаря он начал еще на морской службе).
«В Сибири, в Олонце, на Дону, на Урале, на Украйне – словом, всюду, где только живут русские люди, вы услышите множество превосходных, незаменяемых выражений, которые должны быть приняты в письменный язык наш», – отмечал ученый. Хоть словарь его включает только великорусское наречие, Даль работал и с материалами из наречий малорусского и белорусского. Он подчеркивал, что три этих наречия составляют вместе русский язык, и говорил своему приятелю-малорусу Василию Лазаревскому, что «русский словарь без малороссийского был бы далеко не полон». До самой смерти трудился Владимир Иванович над своим словарем, готовил его второе издание. Жизнь ученого завершилась в 1872 году. Незадолго до кончины Даль принял православие.
И еще одно. «Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю на русском» – так заявлял Владимир Даль. Иностранец по происхождению, он внес огромный вклад в развитие родного для себя русского языка. И вряд ли великий лексикограф мог предполагать, что настанут времена, когда от русского языка станут отрекаться многие природные русские (а во времена Даля, напомню, таковыми признавались и великорусы, и малорусы, и белорусы). Вряд ли допускал, что в части исторической Руси (в той самой части, в которую входила и малая родина Владимира Ивановича – Лугань) русскоязычных жителей власть будет стремиться поставить в положение граждан второго сорта. Впрочем, как говорится, это уже другая история.
«И царство то чудесное – Россия!». Замалчиваемый Евгений Гребенка
Нельзя сказать, что имя этого писателя совсем уж неизвестно в России и в Украине. Упоминания о нем имеются в различных энциклопедиях и словарях. Посвященные ему материалы периодически появляются в СМИ. Издавались и издаются отдельные его произведения. Некоторые из них даже включены в учебные программы украинских школ. В его честь назван районный центр в Полтавской области. Там же установлен ему памятник. Вышло несколько биографий писателя (правда, небольших по объему). И тем не менее знают о нем очень мало.
Для России это естественно. В богатой русской литературе указанный писатель не мог претендовать на ведущее положение. Его скорее следует отнести к второстепенным литераторам. Не бездарным, но явно уступающим размером таланта русским классикам. Потому и неудивительно, что особо им в России не интересуются.
Иное дело Украина, уроженцем которой он являлся. Тут, на провинциальном уровне (нравится это кому-то или нет, а малорусская литература носила тогда провинциальный характер), писатель считался когда-то одним из первых. Следовательно, он мог бы и в сегодняшней независимой державе быть вознесен на пьедестал почета. Но…
Дело в том, что писал Гребенка преимущественно на русском литературном языке, объявленном ныне в Украине «чужим». Девять десятых его творчества составляют русскоязычные (то есть созданные на общерусском, общем для всей исторической Руси литературном языке) сочинения. Оставшееся – с десяток стихотворений и 26 малорусских приказок (некоторые из них и включают теперь в школьную программу), которых, конечно, мало для причисления даже к местночтимым «великим».
Но рассказать о нем все равно стоит.
Он родился 21 января 1812 года в помещичьей семье, в родовом имении Убежище Пирятинского уезда Полтавской губернии. Учился в Нежинской гимназии высших наук – одном из немногочисленных в ту эпоху высших учебных заведений в Малороссии. Кстати, в той же гимназии, только в более старших классах, учился тогда и Николай Васильевич Гоголь.
Поначалу Гребенка мечтал стать художником. Он серьезно увлекся рисованием, о чем неоднократно сообщал в письмах к родителям, прося денег на развитие своего увлечения. Позднее занялся литературой. Первые произведения – пьесу «В чужие сани не садись» и ряд стихотворений (как на русском литературном языке, так и на простонародном малорусском наречии) – Евгений написал в годы учебы в гимназии. Принимал он участие и в гимназических рукописных журналах.
Вуз будущий известный писатель закончил в 1831 году. Оценки в аттестате показывают, что лучше всего ему давались русская словесность (язык и литература), философия, естественная история, технология и военные науки. Хуже всего – математика и немецкий язык (по этим предметам в свидетельстве об образовании стоит оценка «посредственно»).
По окончании учебного заведения Гребенка поступил на военную службу – в резервный 8-й Малороссийский казачий полк. Однако служил там всего три месяца. Полк должен был выступить на подавление мятежа, вспыхнувшего незадолго перед тем в Польше. Но мятежников разгромили раньше, и поучаствовать в боевых действиях новобранцу не пришлось. После этого полк расформировали, а Евгений Павлович вышел в отставку.
Три года он жил в Убежище, где, помимо прочего, писал малороссийские присказки (басни), сюжеты для которых брал у Ивана Крылова и других, менее известных, сочинителей. Тогда же начал работать над переводом на малорусское наречие пушкинской «Полтавы», напечатал в журнале «Московский телеграф» первую главу своего труда (перевод всей поэмы был опубликован позже). Из его стихотворений того периода, написанных на русском литературном языке, известны «Рогдаев пир» и «Курган».
В начале 1834 года Гребенка переезжает в Петербург. Дальнейшая его биография наглядно опровергает столь популярный сегодня в Украине миф о притеснениях украинцев в Российской империи – «тюрьме народов». «Петербург есть колония образованных малороссиян, – писал Евгений Павлович через месяц по приезде в столицу своему другу и бывшему однокласснику Николаю Новицкому. – Все присутственные места, все академии, все университеты наводнены земляками».
Он поступил на службу в Комиссию духовных училищ. Позднее стал преподавателем русской словесности сразу в нескольких военно-учебных заведениях, а также в Институте корпуса горных инженеров и в школе при собственной его величества канцелярии. По воспоминаниям современников, Гребенка был весьма любим учениками и вообще являлся веселым, приветливым и добрым человеком.
Расцвело в Санкт-Петербурге и литературное дарование Евгения Павловича. Он написал множество поэм, рассказов, повестей, очерков, а также два романа – «Чайковский» и «Доктор», первый из которых, основанный на семейных преданиях, литературоведы единодушно признают лучшим прозаическим произведением Гребенки.
Среди поэтических сочинений Евгения Павловича нужно отметить поэму «Богдан» (о Богдане Хмельницком) и конечно же знаменитый романс «Очи черные», популярный до сих пор (хотя имя автора известно далеко не всем).
Не оставлял писатель и творчество на малорусском наречии, сочинил на нем шесть небольших стихотворений. В конце 1830-х годов в кругу малорусов-литераторов обсуждался план издания при столичном журнале «Отечественные записки» специальных «Литературных прибавлений на малорусском языке», редактором которых собирались сделать Гребенку. Впоследствии от намерения выпускать такие «Прибавления» отказались, сообразив, наверное, что для регулярно выходящего печатного издания просто не найдется достаточного количества читателей. Вместо этого Евгений Павлович выпустил в 1841 году в Петербурге малорусский литературный альманах «Ластівка» («Ласточка»), куда вошли произведения Льва Боровиковского, Григория Квитки-Основьяненко, Ивана Котляревского, Тараса Шевченко, других сочинителей и, разумеется, самого издателя.
В 1840-х годах Гребенка предпринял также издание собрания своих сочинений. При его жизни вышло восемь томов.
Как писатель Гребенка посещал петербургские литературные салоны, открыл такой салон и у себя. Среди его гостей были Владимир Даль, Нестор Кукольник, Виссарион Белинский, Петр Ершов. Все они, кроме Белинского, были друзьями Евгения Павловича.
До конца невыясненной страницей биографии Гребенки остаются его взаимоотношения с Тарасом Шевченко. Евгений Павлович много помогал Тарасу, в том числе материально, содействовал изданию его первой книги – «Кобзарь». Шевченко гостил у Гребенки в Убежище (во время поездки Евгения Павловича на малую родину). Однако после 1843 года всякое общение между ними прекращается. Ранее посвятивший покровителю свое стихотворение «Перебендя», Тарас Григорьевич при переиздании «Кобзаря» в 1844 году убрал это посвящение. Причина ссоры является загадкой. Оба литератора не оставили на сей счет никаких указаний в письмах и записках. Можно предположить, что виной всему какая-нибудь очередная пьяная выходка Шевченко, на которые тот был горазд. Но это только предположение.
Что касается личной жизни Евгения Павловича, то ее трудно назвать счастливой. В ранней молодости он был влюблен в сестру одноклассника (уже упоминавшегося Новицкого), но девушку выдали за другого. Гребенка долго переживал любовную драму. Лишь спустя много лет он полюбил во второй раз и в 1844 году наконец женился. У писателя родилась дочь.
Увы, семейное счастье оказалось недолгим. В декабре 1848 года Евгений Павлович, не отличавшийся крепким здоровьем, сильно простудился и умер. Похоронили его в родном Убежище.
В заключение о взглядах Гребенки. Всей душой любя Малороссию, малорусскую старину, малорусское наречие, Евгений Павлович в то же время ощущал себя русским. Здесь не было никакого противоречия, никакой двойственности. Малорусы и великорусы, при всех этнографических различиях между собой, сознавали тогда свою принадлежность к одной русской нации. Русские Малой Руси (малорусы) и русские Великой Руси (великорусы) были столь же едины национально, как, например, поляки Малой Польши и поляки Великой Польши, немцы Нижней Германии и немцы Верхней Германии, французы Северной Франции и французы Южной Франции и т. д.
«В четыре часа утра 1 мая велено нам собраться всем в мундирах в залу, дабы ожидать посещения государя, – сообщал шестнадцатилетний Гребенка из Нежинской гимназии отцу о предполагаемом визите Николая I. – Разве у кого не русское сердце, кто бы не мог представить себе, с каким нетерпением ожидал я видеть самодержца России».
Так же патриотично был настроен Евгений Павлович в зрелом возрасте. В замечательной поэме «Богдан» (написанной в 1842 году) он восторженно отзывался о воссоединениии Малой и Великой Руси, называл великорусов «народом нам единокровным», подчеркивал близость малорусских и великорусских народных говоров. Главный герой поэмы выражал общее стремление малорусов к тому, чтобы «московский царь, родной, единоверный» принял в подданство Украину – «свое родное достоянье». В уста Хмельницкого автор вкладывает следующие слова:
И если я Украйне Богом данный,
То Бог поможет в этом деле мне;
Соединю разрозненных судьбою
Уж несколько веков родимых братьев,
У ног царя московского сложу
Мои гетманские клейноды
И счастие прямое укажу
Украине из родов в роды.
И далее:
Да, я хочу, желаю и исполню
Мне Богом данное предназначенье!
Поверишь ли, что иногда во сне
Передо мной раскроется пространство
На необъятные вперед века…
И вижу я: там царство без границы
Надвинулось на многие моря:
И запад, и восток, и юг, и север
В одно слились; везде язык славянский,
Везде святая, праведная вера,
И правит им один великий царь…
И царство то чудесное – Россия!
Стоит ли удивляться, что русскоязычное творчество Евгения Павловича замалчивается в современной Украине?
«Украинский писатель был русским патриотом», – сокрушались по поводу Гребенки украинские «национально сознательные» деятели в 1912 году, когда в России отмечался столетний юбилей со дня его рождения. Они никак не хотели понять, что быть русским патриотом означает в то же время – быть патриотом украинским. Не хотят понять этого и до сих пор. А напрасно…
Украинский «соловей». Тарас Шевченко: оборотная сторона медали
…полупьяная муза Шевченка. Я знаю, что эти слова произведут на моих читателей неблагоприятное для автора впечатление, и спешу заявить, что для историка слово правды должно быть дороже благосклонности читателей… Как необходимы были в свое время похвалы, так необходимо теперь показать медаль с оборотной стороны.
Пантелеймон Кулиш
Разве это не Шевченко – этот, возможно, неплохой поэт и, на удивление, малокультурный и безвольный человек, разве это не он научил нас ругать пана, как говорится, за глаза, и пить с ним водку, и холуйствовать перед ним? Именно этот иконописный «батько Тарас» и задержал культурное развитие нашей нации.
Мыкола Хвылевый
Давно замечено, что возвеличивание недостойных напоминает сооружение памятников из снега. Каким бы огромным ни был слеплен снежный истукан, он тает и рушится под воздействием весенних лучей солнца. Точно так же воздвигнутый на лжи культ какого-либо деятеля неизбежно гибнет в лучах Правды. Все это, повторюсь, известно давно. Что, однако, не мешает появлению очередных культов. Таких, например, как культ Тараса Шевченко.
В пантеоне идолов современной Украины «батько Тарас» занимает нынче такое же место, какое в пантеоне идолов советских занимал Владимир Ленин. Призывы «жить по Тарасу», сверять с ним каждый свой шаг (как раньше с Ильичом). Торжественные, с участием первых лиц государства мероприятия, посвященные очередной годовщине со дня рождения «великого Кобзаря». Паломничества на Тарасову гору (похожие на былые очереди в Мавзолей). Портреты Шевченко в кабинетах больших и малых начальников (точь-в-точь на тех же местах, где раньше висели портреты «вождя мирового пролетариата»). Все это характерные приметы украинской действительности.
Судьба культа Ленина известна. Он рухнул, как только правда о «великом вожде и учителе» вышла наружу. Ждет ли та же участь культ «великого Кобзаря»? Вряд ли в этом следует сомневаться.
В свое время близкий друг Тараса Григорьевича, выдающийся русский ученый Михаил Александрович Максимович, считал ненужным даже составление его жизнеописания. Максимович указывал, что в жизни Шевченко было «столько грязного и безнравственного, что изображение этой стороны затмит все хорошее». К замечанию Михаила Александровича не прислушались. А напрасно. С ним трудно не согласиться. Достаточно только взглянуть на факты.
Слово и дело
Кто-то из древних философов, кажется Сенека, проповедуя на словах щедрость, доброту, порядочность, в жизни являлся невероятным скрягой, доносчиком и развратником.
Когда же недоумевающие ученики мудреца обратились к нему с упреками, он не моргнув глазом ответил: «Я же учу, как надо жить, а не как живу сам».
Судя по всему, Шевченко пребывал в духовном родстве с античным мыслителем. Во всяком случае, расхождение слова и дела было присуще ему в неменьшей степени. Так, гневные антикрепостнические тирады в своих произведениях поэт сочетал с весьма приятным времяпровождением в помещичьем обществе, развлекая крепостников пением, стихами и анекдотами.
«Праздничная обстановка помещичьих домов не могла ослепить человека, подобного Тарасу, который по собственному опыту знал, какова должна быть закулисная жизнь этих гостеприимных хозяев и чего стоило богатое угощение сотен гостей их крепостным людям», – отмечал один из первых биографов Кобзаря Михаил Чалый и удивлялся, «как в душе Шевченко могли в одно и то же время ужиться высокие идеалы поэзии с пошлостью окружавшей его среды?».
Между тем удивляться придется значительно меньше, если допустить, что Тарас Григорьевич вовсе не был тем, кем хотел казаться, и многое, описываемое им будто бы с болью в сердце, на самом деле не трогало поэта. Как бы ни возмущался он на словах панскими гнусностями, сколько бы ни называл помещичьи балы на фоне бедности крепостных «нечеловеческим весельем», ничто не мешало ему принимать в этом веселье участие, вновь и вновь ездить в гости к обличаемым им рабовладельцам, оказывать и принимать от них самому любезные знаки внимания – в общем, от души радоваться жизни и даже называть кое-кого из крепостников, об «оборванных крестьянах» которых печалился в творчестве, «друже мій єдиний» («друг мой единственный»).
Правда, иногда, под настроение, Шевченко высказывал недовольство крепостническим произволом (дотошные исследователи выявили два или три таких случая), но гораздо чаще предпочитал закрывать глаза на действительность и не портить ради крестьян отношений с приятелями-рабовладельцами. Впрочем, дело было не только в нежелании осложнять себе жизнь. Сочувствие к бедным и угнетенным не было свойственно Тарасу Григорьевичу с детства.
Ему довелось обучаться в школе у дьячка Богорского, где каждую субботу перед роспуском по домам учеников секли розгами (просто так, «для науки»). Ведал телесными наказаниями самый старший из школяров, так называемый «консул». Естественно, процедура битья не доставляла ученикам удовольствия, но, когда в «консулы» вышел Шевченко, для многих из них настала настоящая каторга. Тарас неумолимо требовал от одноклассников подношений. Приносивших ему из дому достаточное количество гостинцев он почти не трогал. Тех же, кто по бедности принести ничего не мог или приносил мало, сек нещадно, стараясь во время экзекуции причинить им как можно более сильную боль. Думается, выяснить подлинную сущность Кобзаря эти порки помогают больше, чем его стихотворное «сострадание» беднякам, тем более что уже в зрелом возрасте он вспоминал о своем «консульстве» без тени раскаяния, всего лишь как о забавном эпизоде из прошлого.
Не меньше характеризует Тараса Григорьевича и история с неудачной попыткой выкупа им из крепостной неволи своих братьев и сестер. Тему освобождения родственников поэта современные шевченковеды сознательно ограничивают временными рамками 1859–1860 годов, когда вернувшийся с военной службы Шевченко взывал к сочувствию петербургского общества, демонстрируя свои переживания по поводу рабского положения родни, и с помощью видных представителей столичного бомонда добился-таки для них свободы. Событие это могло, однако, случиться лет на пятнадцать раньше.
Кобзарь объявил о желании выкупить своих кровных еще в 1845 году. Энергично помогать Тарасу Григорьевичу взялась симпатизировавшая ему княжна Варвара Репнина, которая, используя свои связи среди местной аристократии, организовала сбор средств, необходимых для воплощения благородного намерения в жизнь. Но, получив в распоряжение определенную сумму, Шевченко не удержался и пропил деньги, на чем вся затея с выкупом закончилась. «Жаль очень, что dbi так легкомысленно отказались от доброго дела для родных ваших; жаль их и совестно перед всеми, которых я завлекла в это дело», – писала поэту оскорбленная в своих чувствах княжна.
Видно, и самому Тарасу Григорьевичу было неудобно перед родственниками, которых он успел обнадежить близкой свободой. Может быть, поэтому Кобзарь прервал с ними отношения, за тринадцать лет (1846–1858) не передав им никакой весточки о себе, не сделав ни одной попытки узнать что-либо о них, хотя в переписке с малорусскими адресатами живо интересовался другими, далеко не самыми близкими людьми.
Связь с родственниками восстановилась лишь в 1859 году, во время очередной поездки Шевченко на родину. Кстати сказать, поездка эта могла состояться раньше, но после увольнения в 1857 году в отставку поэт, только и думающий, если верить его стихам, об Украине, устремился не туда, а в столицу империи, где покровители обещали ему безбедное существование. Как видим, расхождение слова и дела в полной мере проявилось и тут. И не только тут.
«Кохайтеся, чорноброві..»1
Тема «Женская судьба в произведениях Т.Г. Шевченко» изучена вроде бы достаточно. Общеизвестно, сколько теплых и сочувственных строк посвятил поэт соблазненным и покинутым девушкам-покрыткам, с каким жаром обличал он их коварных соблазнителей – панов и москалей. Менее известно, что сам Тарас Григорьевич не был в этом отношении безгрешен.
«Доброе дело никогда не остается безнаказанным», – шутят циники. О роли Ивана Максимовича Сошенко в судьбе Кобзаря написано немало. Именно он, познакомившись с тогда еще крепостным Шевченко, первым поднял вопрос о необходимости освобождения молодого художника и с этой целью представил его Карлу Брюллову. Он же, пока тянулось решение вопроса о выкупе, морально поддерживал Тараса, много хлопотал за него, помогал в занятиях живописью, делился куском хлеба (иногда последним) и, наконец, приютил получившего свободу друга у себя в комнате. Приютил, однако, ненадолго.
Очень скоро «друг» «отблагодарил» Сошенко, начав ухаживать за его невестой Машей, уговорил семнадцатилетнюю девушку позировать ему в качестве натурщицы и в конце концов совратил ее. Иван Максимович был потрясен. Он прогнал будущего «великого Кобзаря», но было уже поздно.
Переехавший на другую квартиру Шевченко продолжал роман с Машей, а когда та забеременела, решил не связывать себя семейными узами и бросил обесчещенную им девушку. Заступиться за нее оказалось некому. Маша была круглой сиротой и жила у тетки, которая, узнав о беременности, выгнала племянницу из дома. Дальнейшая ее судьба теряется в неизвестности. Ясно только, что, проливая слезы над горькой долей покрыток, Тарас Григорьевич знал, о чем пишет, не понаслышке.
Интересно, что на склоне лет, будучи уже знаменитым и заботясь о памяти, которую оставит после себя, Шевченко попытался оправдаться. В автобиографической повести «Художник» он обвинил Машу в распутстве и связи с неким мичманом, якобы от которого она и забеременела. Но ввести кого-либо в заблуждение Кобзарю не удалось. Истину установили без труда (в том числе с помощью Сошенко), и дореволюционные биографы поэта, смущаясь, все-таки упоминали о неприглядном факте из жизни Тараса Григорьевича, в отличие от шевченковедов нынешних времен, предпочитающих разглагольствовать о «кристально чистом в отношениях с женщинами» поэте.
К истории с Машей можно добавить, что выгнавшая опозоренную племянницу тетка попыталась найти управу на Шевченко, подав на него жалобу в Академию художеств. Но академическое начальство, прекрасно осведомленное о не слишком строгих нравах своих подопечных, на подобные шалости воспитанников смотрело сквозь пальцы.
Однако, избежав наказания людского, от возмездия поэт не ушел. Надругавшись над невинной девушкой, растоптав ее чувства, никогда больше не узнал он женской любви (если не считать чисто платонических отношений с княжной Репниной). Кобзарь обречен был пользоваться только услугами продажных женщин, одна из которых заразила Тараса Григорьевича неприличной болезнью (тщательно замалчиваемый сегодня факт, ради сокрытия которого издателям академического «полного» собрания сочинений Шевченко пришлось «сокращать» его переписку). Попытки же завязать с кем-либо серьезные отношения неизменно натыкались на отказ.
Да, вероятно, и не могли не наткнуться. Рисованный шевченковедами образ нежно влюбленного поэта, галантного кавалера и т. п. действительности не соответствовал. Реальный Кобзарь, грубый, неопрятный, распространяющий вокруг себя запах лука и водки, был малопривлекателен для женщин. И как бы ни упрекали ныне избранниц Шевченко, будто бы не способных оценить тонкую душу Тараса Григорьевича, можно понять шестнадцатилетнюю Екатерину Пиунову, актрису нижегородского театра, прятавшуюся, когда сильно подвыпивший сорокатрехлетний ее «обожатель» (выглядевший к тому же гораздо старше своих лет) вламывался в артистические уборные, скандалил и требовал «Катрусю», пока не засыпал, свалившись где-нибудь без чувств. Можно понять и восемнадцатилетнюю крестьянскую девушку Хариту Довгополенко, отказавшуюся выходить замуж за «лысого и старого» даже в обмен на выкуп ее из крепостного состояния и ответившую посланцу Кобзаря: «Выкупят, да и закрепостят на всю жизнь».
Весьма примечательно и то, что по получении очередного отказа «влюбленность» поэта быстро улетучивалась, уступая место ненависти. Хариту он обзывает в письмах «дурной» и «сумасшедшей». От другой девушки (Лукерьи Полусмак) требовал вернуть все свои подарки, составил их список, несмотря на небольшую ценность «даров», и даже ознакомил с этим списком третьих лиц. А юной Пиуновой Тарас Григорьевич принялся посылать записки непристойного содержания.
Картину личной жизни Шевченко дополняет и его непреодолимая тяга к рисованию порнографических (или, как тогда говорили, «фривольных») картинок. Современные шевченковеды категорически отказываются признать подобное увлечение «батьки Тараса», в чем сильно расходятся не только с истиной, но и со своими предшественниками на ниве изучения жизни и творчества Кобзаря.
Известный шевченковед начала прошлого века Михаил Новицкий в статье «Шевченко в процессе 1847 г. и его бумаги», опубликованной в 1925 году в журнале «Украина», выходившем тогда под редакцией Михаила Грушевского, указывал, что альбом Тараса Григорьевича «содержит довольно фривольные (не хочу говорить порнографические) рисунки и небольшие срамные стихи народного или собственного сочинения, где воспеваются перепятовские заигрывания Шевченко с девушками». Современник Новицкого Александр Дорошкевич в книге «Этюды из шевченковедения», констатируя, что поэзия Т.Г. Шевченко «лишена наслоения нездоровой эротики или даже цинизма», тут же оговаривался: «Этого, конечно, нельзя сказать о его карикатурах». Наличие «фривольных эскизов в частном альбоме Шевченко» признавал и крупный украинский литературовед Сергей Ефремов. А в официальной справке о поэте, подготовленной Третьим отделением, прямо отмечается, что он «рисовал неблагопристойные картинки», почему ему и было запрещено рисовать. Правда, запреты не помогли. При обыске в 1850 году у Тараса Григорьевича снова были отобраны альбомы, где «на некоторых рисунках изображены неблагопристойные сцены».
Такова истина – нравится она кому-то или нет.
«Мученик свободы»
В литературоведении, как дореволюционном «прогрессивном», так и в советском и уж тем более в современном украинском, Шевченко изображают поэтом-вольнодумцем, несгибаемым борцом с самодержавием, пострадавшим за свои убеждения. Приговор, вынесенный поэту императором Николаем I, действительно был суров. Но причина строгости не в свободолюбии Тараса Григорьевича. Дело в другом.
Об этом до сих пор не любят вспоминать профессиональные шевченковеды, но факт остается фактом: из крепостного состояния Кобзаря выкупила (при посредничестве Карла Брюллова и Василия Жуковского) императрица Александра Федоровна, супруга Николая I. Данное обстоятельство не помешало, однако, Тарасу Григорьевичу сочинить на государыню гнусный пасквиль (ставший составной частью поэмы «Сон»). Сочинить скорее по глупости, в какой-то мере случайно. Шатаясь по молодежным компаниям, поэт заводил разнообразные знакомства. Попадал он и в кружки злоязыких либеральных недорослей, где популярностью пользовались сатирические стишки антиправительственной направленности. Чтобы позабавить новоявленных приятелей, взялся за такое сочинительство и Шевченко. Позднее, оказавшись в Украине, он развлекал подобными произведениями своих тамошних знакомых либералов, некоторые из которых (о чем Тарас Григорьевич, вероятно, не знал) состояли в тайном Кирилло-Мефодиевском обществе.
В 1847 году указанное общество было разгромлено жандармами. При обысках у членов организации изъяли листки со стихами Шевченко (в том числе с поэмой «Сон»). Материалы следствия были предоставлены императору.
Говорят, Николай I от души смеялся, читая направленные против себя шевченковские строки, и хотя называл поэта дураком, но совсем не был расположен наказывать его. Однако, дойдя до места, где поливалась грязью императрица, государь пришел в ярость. «Положим, он имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но ее-то за что?» – спрашивал монарх.
Шевченко был арестован и доставлен в столицу. Опасность он осознал не сразу. По свидетельству очевидцев, всю дорогу из Киева в Петербург Тарас Григорьевич беспрестанно хохотал, шутил, пел песни. К тайному обществу он не принадлежал, стишкам своим, по всей видимости, большого значения не придавал, а потому воспринимал арест как забавное приключение, будучи уверен в скором освобождении.
Только подвергшись строгому допросу в Петропавловской крепости, Кобзарь понял, чем грозит ему оскорбление императрицы. Он признает «неблагопристойность своих сочинений», называет их «мерзкими», высказывает «раскаяние в гнусной неблагодарности своей к особам, оказавшим ему столь высокую милость». Но покаяние запоздало. Поэт уже восстановил против себя как императора, так и руководителей следствия. Управляющий Третьим отделением Леонтий Дубельт и шеф жандармов Алексей Орлов не скрывали презрения к нему. И если большинству подследственных по делу о Кирилло-Мефодиевском обществе при вынесении приговора было оказано снисхождение, то Тарас Григорьевич, за проявленную им неблагодарность, единодушно был признан никакой милости не заслуживающим. Его наказали по всей строгости закона. «За сочинение возмутительных и в высшей степени дерзких стихотворений» Шевченко был определен рядовым в Отдельный Оренбургский корпус, получив, правда, при этом право выслуги в унтер-офицеры. И как указывалось в документах Третьего отделения, «бывший художник Шевченко, при объявлении ему Высочайшего решения об определении его рядовым в Отдельный Оренбургский корпус, принял это объявление с величайшею покорностью, выражая глубочайшую благодарность Государю Императору за дарование ему права выслуги и с искреннейшим раскаянием, сквозь слезы говорил, что он сам чувствует, сколь низки и преступны были его занятия. По его словам, он не получил никакого воспитания и образования до того самого времени, когда был освобожден из крепостного состояния, а потом вдруг попал в круг студентов, которые совратили его с прямой дороги. Он обещается употребить все старания вполне исправиться и заслужить оказанное ему снисхождение».
После вынесения приговора «несгибаемый борец с самодержавием» одно за другим строчил покаянные письма и заявления. Он рассчитывал добиться смягчения своей участи, очень надеясь на прежние связи в столичном обществе. Но слишком уж неприглядно смотрелся Тарас Григорьевич. Отплатившему злом на добро не было оправдания. «Недаром говорит пословица: из хама не будет пана», – прокомментировал случившееся Петр Мартос, издавший в 1840 году первую книгу Шевченко, его поэтический сборник «Кобзарь». Карл Брюллов только пожал плечами и отказался предпринимать что-либо для своего бывшего ученика. Не заступился и Василий Жуковский. Даже Виссарион Белинский, кумир тогдашних российских демократов, осудил Кобзаря. «Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда не годная вещь, – писал «неистовый Виссарион» Павлу Анненкову. – Вы помните, что верующий друг мой говорил мне, что он верит, что Шевченко человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса – творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу».
Белинский не читал поэму «Сон», но предполагал, что этот пасквиль «должен быть возмутительно гадок». Знаменитый критик не ошибся.
Цариця небога,
Мов опеньок засушений,
Тонка, довгонога,
Та ще, на лихо, сердешне,
Хита головою.
Так оце-то та богиня!
Лишенько з тобою и т. д.2
Так высмеивал Шевченко женщину, благодаря которой получил свободу. Даже некоторые современные шевченковеды признают, что тут Тарас Григорьевич переусердствовал: императрица была довольно красива и меньше всего похожа на «высохший опенок». Впрочем, не это сравнение являлось самым оскорбительным. Как известно, во время мятежа декабристов Александра Федоровна вместе с детьми едва не попала в руки мятежников, собиравшихся вырезать всю царскую семью. В результате перенесенного потрясения государыня заболела нервной болезнью – иногда у нее непроизвольно дергалась голова. Вот это увечье своей благодетельницы и поднял на смех Тарас Григорьевич. Кто-то из великих заметил, что смеяться на физическим уродством может только урод моральный. К этому замечанию прибавить нечего.
На сером фоне
«Для чего скромничать? Пушкин первый, Лермонтов второй, а я, Величков, – третий. За неумеющего читать г. Величкова прочтут его друзья». Так в придуманном объявлении высмеивал восхваление недостойных Антон Чехов.
Справедливости ради надо сказать, что сам Шевченко оценивал себя довольно объективно. В обществе образованных людей, присутствуя при серьезных разговорах, он, если был трезв, отмалчивался, опасаясь показать свое невежество. Лавровый венок «величайшего и гениальнейшего», «достигшего высочайшего уровня образованности, вкуса, знания и понимания истории и философии» навесили на Кобзаря уже после смерти.
Тем временем знакомые поэта оставили на этот счет однозначные свидетельства. «Читать, он, кажется, никогда не читал при мне; книг, как и вообще ничего, не собирал. Валялись у него и по полу, и по столу растерзанные книги «Современника» да Мицкевича», – вспоминал скульптор Михаил Микешин. «Читал Шевченко, я полагаю, очень мало (даже Гоголь был ему лишь поверхностно известен), а знал еще менее того», – утверждал Иван Тургенев. «Шевченко не был ни учен, ни начитан», – писал поэт Яков Полонский. «Недостаток образования и лень» Кобзаря отмечал Михаил Максимович, добавляя, что «писал он большею частью в пьяном виде». Аналогичного мнения придерживался и Пантелеймон Кулиш.
Кроме того, современники осуждали Кобзаря за богохульство, безудержное пьянство, в конце концов сведшее поэта в могилу, и многое, многое другое. Бралось под сомнение даже литературное дарование Тараса Григорьевича.
Сегодня мало кто знает, что не все публикующееся в собраниях сочинений Шевченко является произведениями его пера. Грубые наброски, созданные Кобзарем, дорабатывались («доводились до ладу») его друзьями и редакторами, вынужденными не только исправлять огромное количество грамматических ошибок (грамотно писать Тарас Григорьевич не научился до конца жизни), но и дописывать иногда целые строки, изменять слова, чтобы придать творениям более литературную форму. Те же, кто имел возможность прочитать Шевченко без поправок, в оригинале (Пантелеймон Кулиш, Яков Щеголев и др.), были далеки от признания его «поэтического гения».
«А-а, это наш славный поэт. Скажите, какую толстую книгу написал. Видимо, недаром его фухтелями угощали. (Фухтель – удар саблей плашмя. – Авт.) В сущности ведь пьянчужка был», – пренебрежительно заметил видный малорусский историк (впоследствии – ректор Киевского университета) Николай Иванишев, получив в подарок новое издание сочинений Шевченко.
Невысокого мнения о творчестве Тараса Григорьевича были и Николай Гоголь, и Михаил Драгоманов, и Иван Франко. Последний из перечисленных, публично восторгаясь «великим Кобзарем», в частном письме известному шевченковеду Василию Доманицкому писал: «Вы, сударь, глупости делаете – носитесь с этим Шевченко, как неведомо с кем, а тем временем это просто средний поэт, которого незаслуженно пытаются посадить на пьедестал мирового гения».
В самом деле, большинство произведений «великого Кобзаря» – всего лишь подражание другим поэтам – русским (Жуковскому, Пушкину, Лермонтову, Козлову, Кольцову и др.), польским (Мицкевичу, Красинскому и др.), западноевропейским (Байрону, Бернсу – с их творениями Тарас Григорьевич был знаком в русских переводах). Так, ранние баллады Шевченко («Порченная» и др.) – попытка подражать Василию Жуковскому. Поэма «Катерина» – «перепев на украинский лад» (выражение известного литературоведа Владимира Данилова) карамзинской «Бедной Лизы» и других произведений русских литераторов о соблазненных и брошенных девушках. Знаменитое «Послание» («И мертвым, и живым…») отчасти позаимствовано у Зигмунта Красинского. Первоисточником упоминавшейся поэмы «Сон» явилось сочинение неизвестного автора «Сновидение, бывшее мне в ночь на 4-е июля 1794 г.», ходившее в списках по либеральным кружкам. (Хотя некоторые эпизоды для поэмы Тарас Григорьевич позаимствовал у Мицкевича и у Пушкина.) Пьеса «Назар Стодоля» написана на основе «Черноморского быта» Якова Кухаренко. (Тут вообще не очень красивая история: обещая через свои связи продвинуть пьесу Кухаренко на сцену, Кобзарь взял рукопись у автора и использовал ее содержание, никуда, понятное дело, «Черноморский быт» не продвигая.) «Гайдамаки» написаны под явным влиянием сочинений польских авторов на ту же тему. И так далее.
Разумеется, это не был примитивный плагиат. Заимствованный материал поэт перерабатывал, вносил в него малорусский колорит. Он не являлся бездарным подражателем. Отрицать одаренность Шевченко конечно же неправомерно. Степень этой одаренности позволяет говорить о несомненных литературных способностях Тараса Григорьевича, но, наверное, все-таки не о таланте и уж, во всяком случае, не о гениальности.
«На безрыбье и рак рыба», – гласит народная мудрость. «На бесптичье и ж… соловей», – добавляют опять же циники. «Соловьем» на бесптичье оказался и Кобзарь. Провинциальная малорусская литература была необычайно бедна на даровитых сочинителей. Более-менее талантливые писатели-малорусы творили на русском (общерусском, общим для всей Руси) литературном языке, прибегая к малорусскому наречию лишь ради шутки или для лучшей передачи местных особенностей. Такие писатели принадлежали к русской литературе. А в провинциальную литературу шли те, кому не хватало способностей, чтобы проявить себя на уровне общерусском. Здесь, среди провинциалов, Шевченко был первым. Но только здесь. Он тоже стремился занять место в русской литературе. Пытался сочинять на русском языке стихи, а потом и прозу (при этом по привычке заимствуя сюжеты у русских писателей). Но…
Роль третьестепенного литератора Тараса Григорьевича не устраивала, а на большее в русской литературе он рассчитывать не мог. И чем яснее Шевченко сознавал это, тем сильнее ненавидел русскую культуру, русских писателей, Россию. В элементарной зависти к более, чем он сам, одаренным заключается причина русофобских настроений поэта. Здесь же нужно искать объяснение его «малорусскому патриотизму» (приверженности к местному наречию и т. п.). Он любил то, где мог претендовать на славу и уважение, где на общем сером фоне можно было казаться ярким, сверкать «звездой». И соответственно, ненавидел то, где в свете талантов других писателей хорошо была видна его собственная ущербность.
Таков был Тарас Шевченко. Мелкий, ничтожный человек и средний поэт, из которого в Украине пытаются сделать великого гения. Культ лепят старательно. Но Солнце Правды все равно взойдет. И рассвет уже не за горами.
Неизвестный герой Адольф Добрянский
Об Адольфе Ивановиче Добрянском в Украине (да и в России тоже) сегодня знают мало. Что в общем-то неудивительно. И в советское, и в постсоветское время эту историческую личность замалчивали. О нем не говорили и не писали ничего или почти ничего. Скажем, в «Советской энциклопедии истории Украины» Добрянскому посвящена лишь крохотная заметка в пять строчек. Сказано, что это был «реакционный буржуазный политический деятель Закарпатской Украины», которому «резко негативную оценку» дал Иван Франко. И все.
А в изданном уже в годы независимости солидном на вид (но не по содержанию!) «Справочнике по истории Украины» статьи о нем нет совсем. Правда, в более поздней многотомной «Энциклопедии истории Украины» о Добрянском все же упоминают. Но небольшая биографическая справка, теряющаяся среди десятков тысяч других таких же, не в силах развеять тьму забвения.
Между тем зарубежные исследователи, занимавшиеся изучением биографии Адольфа Ивановича, считали его «во всех отношениях выдающимся человеком». Имя этого деятеля было известно далеко за пределами Угорской Руси (так ранее называли Закарпатье), в том числе при дворах российского и австрийского императоров. В своем же родном крае он являлся общепризнанным духовным и политическим лидером, народным вождем угрорусов (закарпатских русинов).
А еще Добрянского без преувеличения можно назвать героем. Ибо требовалось действительно быть героем, чтобы в Австрийской империи, в состав которой входило тогда Закарпатье, оставаться патриотом Руси.
По происхождению Адольф Иванович принадлежал к старинному дворянскому роду. Родился 19 декабря 1817 года в семье священника, в селе Рудлове, расположенном в той части Закарпатского края, которая ныне принадлежит Словакии.
Он получил прекрасное образование. Окончил философский факультет Королевской академии в Кошице, юридический факультет Эгерского университета, Горно-лесную академию. Помимо родного русского владел немецким, венгерским, французским, английским, итальянским, чешским, словацким языками, а также латынью и древнегреческим.
С молодых лет Добрянский принимал участие в общественной жизни страны, был одним из ведущих деятелей славянского возрождения. Он сознавал национальное единство австрийских русинов (восточные провинции империи – Закарпатье, Галицию и Буковину – неофициально именовали Австрийской Русью) с русским народом Российской империи. Соответственно Великороссию, Малороссию, Белоруссию молодой человек воспринимал как часть своей исторической родины. Известный русский ученый Измаил Срезневский, познакомившийся с Адольфом Ивановичем в начале 1840-х годов, вспоминал, что о России он говорил «с какой-то чудной гордостью и любовью», а в комнате его висел портрет Петра I.
Разумеется, пророссийские симпатии не могли не навлечь на него в Австрии подозрения в неблагонадежности. Но до поры до времени неприятностей удавалось избегать. Тем более что у непосредственного начальства Добрянский, работавший инженером на шахте в Словакии, был на хорошем счету. Он являлся автором нескольких изобретений, повышавших безопасность горных работ, усовершенствовал процесс добычи угля и руды.
В 1846 году Адольфа Ивановича направили в Вену, на курсы высшей математики и механики. Затем командировали в Чехию. И везде он проявлял себя самым лучшим образом. Возможно, талантливый горный инженер так бы и продолжал профессиональную карьеру, если бы не революция, вспыхнувшая в 1848 году.
Добрянский вернулся в Словакию, относившуюся, как и Закарпатье, согласно административно-территориальному делению, к венгерской части государства. А в Венгрии революция проходила особенно бурно. Трон под австрийским императором, носившим по совместительству титул венгерского короля, зашатался. Напуганные власти шли на уступки…
Эпоха свободы вскружила головы многим. Адольфа Ивановича избрали в венгерский парламент. Но тут выяснилось, что венгры, яростно отстаивавшие собственные национальные права, вовсе не были расположены признавать аналогичные права других проживавших в стране народностей. Избрание Добрянского аннулировали, а его самого новая революционная власть распорядилась арестовать. Адольфу Ивановичу пришлось бежать в Галицию (она принадлежала к австрийской части империи).
Тем временем Венгрия провозгласила полную независимость, разгромив посланные против нее войска императора Франца-Иосифа. Последний обратился за помощью к России. По настоятельной просьбе из Вены император Николай I двинул свою армию через границу. При этом австрийцы вспомнили об убеждениях Добрянского и использовали их с выгодой для себя. Франц-Иосиф назначил его своим представителем при одном из корпусов русской армии.
Этот поход мог бы стать освободительным. Путь в Венгрию лежал через Галицию и Закарпатье. Местные жители с восторгом встречали русских солдат, выходили к ним с хлебом-солью, устилали дорогу цветами. «Чем глубже проникали мы в Галицию, тем радушнее встречали прием не только от крестьян, но и со стороны интеллигенции, – вспоминал участник похода, офицер пехотного полка Петр Алабин. – Нас ждала, нами восхищалась, нами гордилась, торжествовала и ликовала при нашем вступлении в Галицию партия русинов, составляющих три части всего населения Галиции».
Алабин свидетельствовал, что, несмотря на то что в говоре галичан ощущались польские языковые влияния, русские солдаты и местные жители хорошо понимали друг друга. «Русский народ в Галиции все время польского над ним владычества хранил неприкосновенно свои обычаи, свой русский язык, конечно, несколько в искаженном виде (на котором теперь пишутся, однако, стихи, песни, значительные литературные произведения, учебники, даже издается газета «Зоря Галицка»), но религия его предков исказилась унией. Впрочем, униатские ксендзы русинов, может быть разделяя сочувствие к нам своей паствы, по-видимому, искренно нам преданы. Многие из них приходили поближе познакомиться с нами, откровенно нам высказывая, что они гордятся нами, как своими братьями, перед немцами и поляками, и сопровождали нас приветами и благословениями».
Австрийские русины надеялись, что Россия присоединит к себе Галицию, Буковину и Закарпатье. Даже венгры, на тот момент люто ненавидевшие Австрию, предложили Николаю I венгерскую корону (они считали, что лучше подчиниться русскому царю, чем австрийскому цесарю). В свою очередь, Адольф Добрянский через царских генералов тайно передал в Петербург разработанный им проект территориальных изменений. Проект предусматривал обмен находившихся в составе Российской империи польских земель на территорию Австрийской Руси. Пожелай Николай I произвести такой обмен, Вена бы не решилась ему отказать.
Увы, русский монарх, придерживавшийся в политике рыцарских принципов, не счел возможным воспользоваться затруднительным положением монарха австрийского. Подавив революцию, русские войска вернулись домой.
Забегая вперед нужно отметить, что спустя почти двадцать лет, когда, накануне Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, велись переговоры между Россией и Австро-Венгрией, Адольф Иванович попытался продвинуть свой проект снова. Для этого он специально ездил в столицу Российской империи. Вопрос рассматривался в Комитете министров, но положительное решение так и не приняли.
Зная все последующие события, можно утверждать, что это была стратегическая ошибка Петербурга. Конечно, владеть Варшавой престижнее, чем Львовом, а в экономическом отношении Польша была более развита, чем восточные провинции Австрии. Но если бы тогда удалось произвести обмен, разрешились бы многие проблемы и противоречия. Россия избавилась бы от владений, население которых в массе своей было враждебно к ней настроено. И наоборот, приобрела бы области, где огромное большинство жителей видело в русском императоре своего природного государя (сейчас это трудно представить, но в то время в Галиции было именно так). Не развилось бы тогда под австрогерманским покровительством украинское движение. Да и мировой войны, может, не было бы. Однако история не знает сослагательного наклонения…
В первые послереволюционные годы положение австрийских русинов заметно улучшилось, особенно в Закарпатье. Добрянский был назначен на должность референта и правителя канцелярии начальника Ужгородского округа. В реальности он обладал всей полнотой власти и свои полномочия использовал в интересах коренного населения. Ранее запрещенный русский язык стал применяться в работе органов власти, вводился в школы. В Ужгороде появились таблички с названиями улиц на русском языке, а при въездах в села – русскоязычные надписи с названиями населенных пунктов.
Следует особо подчеркнуть: в Закарпатье утверждался именно русский литературный язык, а не какой-то из местных диалектов. На этом языке Адольф Иванович говорил не только с местной интеллигенцией, но и с крестьянами.
Кроме того, на различные должности в органах управления назначались преимущественно русины. А от кандидатов из других наций при назначении Добрянский требовал знания русского языка.
В 1849 году Адольф Иванович возглавил закарпатскую депутацию, вручившую Францу-Иосифу петицию о нуждах русинов. В одном из пунктов документа предлагалось объединить Закарпатье с Галицией и Буковиной в один русский коронный край.
В Вене депутацию обнадежили. Но так продолжалось недолго. Оправившись от испуга, вызванного революционными событиями, цесарский двор постепенно менял политику. Австрийское правительство опасалось, что русское возрождение в восточных провинциях в конце концов приведет к их воссоединению с Россией. А потому все сильнее притесняло русинов.
Добрянского из Закарпатья перевели (хоть и с повышением) в Словакию. Потом в Венгрию. Еще позже – в Вену. В 1861 году его вновь избрали в венгерский парламент. И вновь избрание аннулировали. Было объявлено, что предвыборную агитацию Адольф Иванович вел «способом, опасным для государства». Якобы он обещал избирателям, что отдаст Закарпатье под власть русского царя.
Любопытно, что таким образом австрийцы фактически признали: лозунг воссоединения с Россией наиболее популярен в крае. Но как бы то ни было, Добрянского лишили мандата. Венгерские депутаты не согласились допустить в свою среду «москаля». Впрочем, парламент тот вскоре распустили.
А в 1865 году Адольф Иванович победил на выборах в третий раз. Теперь помешать ему не смогли. Закарпатские русины получили своего представителя, отстаивавшего с парламентской трибуны их права.
Вот только возможностей у Добрянского оказалось там немного. Почти все парламентарии послушно исполняли волю правительства. Оппозиция была немногочисленна и бесправна. Законопроекты, предложенные закарпатским депутатом, не принимались. Его предложения отвергались. Через три года Адольф Иванович покинул негостеприимные стены парламента, отказавшись баллотироваться на следующий срок…
Тем энергичнее участвовал он во внепарламентской деятельности. Вокруг Добрянского сплотились другие русские деятели Закарпатья. Он возглавил просветительское Общество святого Василия Великого, ведшее работу на русском литературном языке. Плодотворно сотрудничал в основанной Обществом русскоязычной газете «Свет». Руководил политической жизнью русинов не только в Закарпатье, но и в Галиции и Буковине. Всячески поддерживал идею русского национального единства. «Трехмиллионный народ наш русский, под скипетром австрийским живущий, является одною только частью одного и того же народа русского, мало-, бело– и великорусского», – писал Адольф Иванович.
Власти пытались его нейтрализовать. Уговаривали отказаться от поддержки русского движения. Обещали взамен блестящую карьеру. Премьер-министр Венгрии Кальман Тиса лично предлагал Добрянскому пост министра торговли. Рисовали перед ним и заманчивую перспективу получения должности при австрийском императорском дворе.
Когда подкупить не удалось, стали запугивать. Дважды на Адольфа Ивановича организовывались покушения. Сам он не пострадал, но во время одного из терактов был тяжело ранен его сын. Развернулась кампания травли популярного деятеля. К светским властям подключились церковные. Униатский епископ Штефан Панкович заявил, что Добрянский и его сторонники «заражены чумой православия и москальства».
В начале 1882 года Адольфа Ивановича арестовали во Львове по подозрению в государственной измене и вместе с несколькими единомышленниками отдали под суд. Примечательно, что среди судей не было ни одного русина, только поляки и евреи. В обвинительном заключении Добрянского назвали русофилом, что, по мнению следователей, являлось тяжким преступлением.
«Это название я принимаю без протеста, – сказал Адольф Иванович в судебном заседании. – Каждый поляк, в свою очередь, полонофил… Странно, каким образом нас могут обвинять в русофильстве: это ведь дело чувства, а за чувства нельзя привлекать к ответственности».
Несмотря на явную предвзятость суда, обвинение рассыпалось. Продержав Адольфа Ивановича в тюрьме полгода во время следствия, власти вынуждены были отпустить его на свободу. Но заставили покинуть пределы Австрийской Руси.
Добрянский переселился в Вену. Последние годы жизни он сосредоточился на занятиях публицистикой. Слово русинского лидера было авторитетно не только для одноплеменников, но и для прочих населявших Австро-Венгрию славянских народов – сербов, чехов, словаков, хорватов. Исключение составляли лишь поляки.
Следует отметить, что статьи Адольфа Ивановича о единстве Руси во многом не утратили актуальности до сего дня. Противники русского движения требовали, чтобы австрийские русины перестали называть себя русскими. Дескать, для того, чтобы не смешиваться с великорусами, которые будто бы являются не славянами, а обрусевшими финнами и татарами (сей «аргумент» часто используется украинскими «национально сознательными» деятелями и поныне).
В ответ Добрянский указывал, что восточные русские (великорусы) и западные русские (малорусы и белорусы) – это одна нация. Не подлежит сомнению, что восточные русские ассимилировали некоторые финские и татарские племена. Точно так же как западные русские сделали это в отношении части половцев, хазар, литовцев. Но такое «мнимое загрязнение» славянской крови не привело и не могло привести к разделению русской нации.
Адольф Иванович приводил в пример немцев, ассимилировавших «великое множество полабских славян», а также славяно-летских пруссов, поморян, латышей и финнов (эстов). «Даже теперь, – продолжал он, – немцы еще нисколько не перестали посредством поглощения славян Познани и Лужиц загрязнять свою кровь… Несмотря на то, я не думаю, чтобы вовсе не смешанные с летскими и финскими элементами и даже менее смешанные со славянскими южные немцы, в видах сохранения своего более чистого немецкого происхождения, были склонны отделять себя по происхождению от северных немцев и даже сделавшееся им милым имя «немцы» («deutsche») заменять другим».
Выступал Добрянский и против попыток заставить коренных жителей Австрийской Руси отказаться от русского литературного языка, подменив его новосо-здаваемым «украинским». Адольф Иванович указывал на роль поляков в стремлении произвести эту подмену: «Все польские чиновники, профессора, учителя, даже ксендзы стали заниматься по преимуществу филологией, не мазурской и польской, нет, но исключительно нашей, русской, чтобы при содействии русских изменников создать новый русско-польский язык», – констатировал он. В результате русский народ в Галиции должен вести из-за русского языка отчаянную борьбу «с вековыми своими врагами – поляками и их орудием, так называемыми украинцами», а в Закарпатье такую же борьбу «с мадьярами, этими самыми свирепыми гонителями всего русского, стремящимися к искоренению русского языка».
…До самой смерти оставался Добрянский верен своим убеждениям. Умер он в 1901 году. В 1928 году ему было открыто два памятника – в Ужгороде и Михаловцах. Но в 1939 году оба памятника были снесены – в Ужгороде венгерским фашистским режимом, а в Михаловцах – словацким фашистским режимом.
Сегодня его тоже стараются забыть. Слишком многим он неудобен. И не только своими взглядами. Повторю еще раз: Добрянского пытались подкупить – высокими должностями, материальным благосостоянием, наградами. Его преследовали, сажали в тюрьму, старались запугать и даже убить. Но он не продался и не испугался, продолжал защищать интересы своего народа. Найдется ли среди современных украинских политиков хотя бы один такой деятель? Вряд ли. Может, потому и молчат о Добрянском?
Двуликий Янус украинофильства Владимир Антонович
Нельзя сказать, что имя этого деятеля сегодня в Украине неизвестно. Его чтут, о нем говорят, пишут статьи и книги, переиздают его сочинения. Но в число главнейших кумиров современного украинства он не включен. Подлинное значение этого человека остается сокрытым в наше время. Как сокрыто оно было и для его современников. Играя главную роль в украинском движении, он умел находиться в тени. Звали его Владимир Бонифатьевич Антонович.
Правда, отчество Бонифатьевич принадлежало ему только номинально. Бонифатий Антонович покрыл своим именем грех жены. Настоящим отцом будущего украинского деятеля являлся выходец из Венгрии Янош Джидай, с которым втайне от мужа сошлась польская шляхтянка. Таким образом, согласно тогдашним нравственным законам, родившийся 30 января 1834 года ребенок был незаконнорожденным. Что, конечно, нельзя ставить ему в вину. Тем более что рос мальчик весьма способным. По окончании гимназии поступил на медицинский факультет Киевского университета. Закончил его. Стал врачом, но вскоре осознал, что медицина – не его призвание. В 1856 году вступил на другой факультет того же университета. На сей раз на историко-филологический.
В стороне от общественной деятельности он тоже не стоял. В семье Владимир воспитывался как патриот Польши. Естественно, что в период учебы в университете он примкнул к польской студенческой гмине (общине).
Поляки тогда были заняты подготовкой восстания с целью восстановления независимого государства. В состав возрожденной Речи Посполитой они собирались включить Правобережную Малороссию и Белоруссию.
Успех вооруженного выступления был невозможен без поддержки населения. И польские студенты Киевского университета (Антонович в том числе), переодевшись в крестьянскую одежду, странствовали по малорусским селам, занимаясь политической пропагандой.
Общаясь с простолюдинами, наблюдательный молодой человек очень быстро сообразил, что надеяться на всенародную поддержку планируемого восстания не имеет смысла. Русская власть воспринималась малорусами как своя. Русский царь был для них своим царем. На поляков же смотрели как на врагов.
Наблюдениями Антонович поделился с товарищами и высказал мнение, что польскому движению нужно изменить тактику. Прежде чем браться за оружие, считал он, следует внести раскол в русскую нацию, вбить клин между малорусами и великорусами.
Сложно сказать, сам ли Владимир додумался до этого или кто-то ему подсказал. Позднее в мемуарах он как-то глухо упомянул об иезуитах. Возможно, без них тут не обошлось.
Но как бы то ни было, предложение Антоновича оказалось отвергнутым. Откладывать восстание польские шляхтичи не желали. Горячие головы рвались в бой, а Владимира сочли трусом.
Однако он проявил упорство, настаивая на своей правоте. И в конце концов вместе с небольшой группой единомышленников объявил о выходе из гмины. Группа Антоновича создала свой кружок, положив начало новому движению – украинофильскому. Первоочередную свою задачу украинофилы видели в том, чтобы убедить малорусов в необходимости отмежеваться от великорусов, зажить отдельной национальной жизнью, а затем и жизнью политической.
Кружок начал с того, что основал подпольную школу, для учебы в которой привлек полтора десятка крестьянских мальчиков. Детям пытались изменить национальное сознание. Внушали им, что малорусы (наименование «украинцы» пустили в ход позже) – самостоятельная нация, а не часть нации русской.
Будущее подтвердило разумность выбранной тактики. Стремившиеся к открытому выступлению поляки в 1863 году подняли восстание и в короткий срок были разгромлены. Причем в истреблении повстанцев малорусские крестьяне приняли не меньшее участие, чем регулярные подразделения русской армии. Кто-то из восставших погиб, кого-то взяли в плен и отправили на каторгу, кто-то бежал за границу. А Антонович с единомышленниками продолжали свою деятельность.
Украинофильское движение постепенно разрасталось. Поначалу в нем участвовали почти исключительно поляки. Однако с течением времени группе удалось вовлечь в свой состав немалое количество малорусов.
Власти же ничего не замечали. Владимир Бонифатьевич пользовался хорошей репутацией. Он официально отрекся от католичества, перешел в православие. После завершения образования учительствовал. Потом стал делать научную карьеру. Устроился преподавать все в тот же Киевский университет. Занимался наукой. Стал профессором. Одно время даже выбирался деканом факультета. Периодически получал чины и ордена.
И был максимально осторожен. В университетских лекциях и открыто публикуемых научных трудах не допускал ничего крамольного. Между тем для специально отобранной молодежи тайно читал другие лекции. Под псевдонимом печатал за границей (в Австрийской Галиции) иные труды. Если требовалось вбросить в публику какую-либо сомнительную с точки зрения закона идею, действовал через посредников.
«Антонович – человек не малороссийской, а польской породы, выдержанной, глубоко скрытной, до высшей степени самообладающий, – записывал в дневник Александр Кистяковский, также украинофил и дальний родственник Владимира Бонифатьевича (они были женаты на родных сестрах). – Это человек под в высшей степени скромной наружностью скрывающий властолюбивый дух. Он получил образование среди польского общества, и потому ловкость его изумительна. Несомненно, он был и есть душа киевских украинофилов, но он умеет стоять на втором плане».
Подобная осмотрительность, помимо прочего, способствовала сохранению за Антоновичем положения вождя движения. Другие претенденты на лидерство, не менее способные, но менее осторожные (например, Михаил Драгоманов), подвергались гонениям, оказывались в эмиграции или в ссылке, а он – нет.
Когда весной 1876 года по Киеву распространился слух о грядущих репрессиях против украинофилов, Владимир Бонифатьевич лично явился к начальнику губернского жандармского управления генералу Александру Павлову, чтобы узнать, не подозревают ли его в чем-либо. Генерал успокоил профессора – власти, безусловно, доверяли ему. Репрессии (знаменитый Эмский указ) действительно грянули, но Антоновича обошли стороной.
Только однажды, в 1880 году, над ним вроде бы сгустились тучи. До профессора дошли сведения, что киевский генерал-губернатор Михаил Чертков засомневался в его благонадежности. На всякий случай Владимир Бонифатьевич выхлопотал себе долгосрочную командировку в Париж, якобы для научной деятельности.
Через много лет после смерти Антоновича обнаружилось, что в столице Франции он занимался не только наукой. Командировочный заседал в масонской ложе. Как известно, посторонних туда не допускали, и можно предположить, что смиренный профессор состоял в масонах задолго до поездки. А пока он заседал, Черткова обвинили в каких-то злоупотреблениях по службе и сместили с должности. Вернувшийся в Киев Владимир Бонифатьевич мог не волноваться.
Огорчало его разве что отсутствие перспективы близкой победы. Движение насчитывало сотни сторонников, но все-таки этого было мало, чтобы оторвать Малороссию от остальной России. И Антонович сделал ставку на внешние силы. С 1880-х годов он уповает на завоевание малорусских земель Австро-Венгрией, строит свою деятельность в расчете на войну.
Примечательно, что в то же время Владимир Бонифатьевич заявлял о неспособности малорусов к строительству самостоятельного государства. Вторжения австрийских и союзных им германских войск в Малороссию вождь украинофилов желал не для достижения независимости края, а для присоединения к находившейся под властью австрийского императора Галиции.
Стоит заметить, что в Галиции доминировали тогда поляки, и, следовательно, присоединенная территория попала бы под их полную власть. Кстати, Антонович много постарался для заключения союза между галицкими украинофилами и польскими партиями. Спустя годы, откликаясь на смерть Владимира Бонифатьевича, еще мало кому известный Симон Петлюра упрекнет покойного в том, что пролоббированный им союз принес выгоду полякам, а не украинцам. Дело, однако, в том, что Антонович и трудился на благо не украинцев, а поляков, с которыми в действительности никогда не порывал. Украинофильство интересовало Владимира Бонифатьевича не само по себе, а исключительно как русофобский проект.
С той же целью вел он работу в университете. И относился к учащейся молодежи в соответствии со своими политическими предпочтениями. Как-то один из его студентов (Дмитрий Багалей, впоследствии известный историк) попался на плагиате. Антонович не просто замял скандал – он стал мстить разоблачившему плагиатора молодому ученому Ивану Линниченко. В связи с этим можно упрекнуть Владимира Бонифатьевича в недобросовестности. Но опять же надо помнить, что готовил он прежде всего не историков, а пропагандистов самостийности. И воспитал целую плеяду учеников. Самый известный из них – Михаил Грушевский. Сочиненная последним «История Украины-Руси» являлась в своей основе перепевом подпольных лекций Антоновича. Об этом свидетельствовали люди, также посещавшие те лекции.
Как мог, приближал Владимир Бонифатьевич миг крушения Российской империи. До счастливого для себя момента он не дожил, скончался в 1908 году. Но усилия его не пропали даром. Между прочим, кое-что из идейного наследия Антоновича актуально и теперь. Он ратовал за переориентацию Малороссии на Европу (ныне это называется «евроинтеграцией»). Переориентацию не только в политическом, но и культурном отношении. Русскую литературу Владимир Бонифатьевич считал вредной для малорусов, призывал их читать произведения любых европейских писателей, только не русских.
Если вспомнить, что после 1991 года в Украине из школьной программы исключили русскую литературу (а во многих школах и русский язык), то следует констатировать: образовательная политика независимой страны пошла по пути, указанном Антоновичем. Как тут не вспомнить слова, сказанные по адресу другого Владимира – Ленина: «Он умер, а дело его живет». К Антоновичу эта фраза тоже подходит.
Закарпатский просветитель Иван Сильвай
И этого общественного деятеля, писателя, просветителя ныне в Украине основательно подзабыли. Позволю себе предположить, что и на малой родине – в Закарпатье – знают о нем немногие. Между тем когда-то он был широко известен за пределами родного края. В самой же Угорской Руси во второй половине ХIХ века являлся самым читаемым автором. Надо бы вспомнить его имя – Иван Антонович Сильвай.
Родился он в провинциальной глуши – небольшом горном селе Сускове, 15 марта 1838 года. Угорская Русь в то время входила в состав Австрийской империи, исторически же считалась землей Венгерского королевства. Отец будущего выдающегося деятеля служил сельским священником, но по происхождению принадлежал к дворянскому роду. Был он человеком образованным, увлекался античной литературой, в оригинале читал Цицерона, а произведения Вергилия и Овидия знал практически наизусть.
Иван оказался последним ребенком в семье. И единственным сыном (кроме него у священника росли две дочери). А потому – жизненная дорога его была предопределена изначально: следовать по отцовским стопам.
К духовной карьере мальчика готовили с юных лет. Отец занимался с ним языками – латинским (тогдашним официальным) и церковно-славянским (языком богослужения). Считая, что занятия музыкой облагораживают сердце (качество, немаловажное для священника), Антон Сильвай учил сына игре на скрипке и флейте.
Значительную роль в воспитании играла и мать ребенка. Она была превосходной рассказчицей, знала множество интересных историй. Наверное, именно ей Иван обязан первоначальным развитием творческих способностей, позволивших ему впоследствии стать известным писателем.
Детство Сильвая пришлось на бурные годы. В 1848 году в Венгрии вспыхнула революция. Через Закарпатье, преследуя друг друга, то и дело передвигались отряды повстанцев и правительственных войск. Огромное впечатление на мальчика произвел приход в край русской армии, направленной Николаем I по просьбе австрийского императора для подавления восстания.
«Москалей» в Закарпатье ждали со страхом. Венгерская пропаганда уверяла, что они беспощадны и кровожадны, обликом похожи на диких зверей, опустошают все вокруг, как саранча, и питаются живыми младенцами. Поэтому, когда в Сусково пришли первые вести о том, что пришедшие совсем не звери и даже разговаривают на понятном языке, таким известиям не поверили.
Однако очевидцев, непосредственно общавшихся с русскими солдатами, становилось все больше. «Все они твердили одно, что они свободно разговаривают с москалями и без затруднения понимают их язык», – вспоминал позднее Сильвай.
Наконец и сам он увидел издали русскую воинскую часть, расположившуюся на привал. А после того, как выяснилось, что царская армия местных жителей не грабит, не обижает (в отличие, между прочим, от австрийских правительственных и венгерских революционных войск), Иван вместе с отцом решился сходить в русский лагерь.
«Мы в самом деле убедились, что за исключением очень немногих слов понимаем речь московскую, – напишет он потом в мемуарах. – Воины охотно пускались в разговор с моим отцом и, как узнали, что он священник, относились к нему с почтением и называли батюшкою».
Собственно, с тех пор и стало пробуждаться в юном сердце чувство принадлежности к великой русской нации. Тем более что обстоятельства этому благоприятствовали. В Ужгородской гимназии, где учился Иван, по инициативе крупного угрорусского общественного деятеля Адольфа Добрянского особый упор делался на изучение русского языка как общего культурного языка для всей Руси (Угорской в том числе).
И в дальнейшем, продолжая обучение в чужих краях – румынском Сатмаре, венгерском Пеште, – Сильвай ощущал себя русским, углублял познания в русском литературном языке и отмечал, что для угрорусов-интеллигентов «за малыми изъятиями это совершенно родной язык». Окончательно он убедился в том после знакомства с произведениями Николая Гоголя, когда удостоверился, что языком гоголевских повестей можно рассказывать и о жизни угрорусов. Вместе с тем хорошо владел Сильвай многими другими разговорными языками – немецким, словацким, венгерским (на последнем он даже пробовал писать стихи).
По окончании Центральной духовной семинарии при университете в Пеште Иван Антонович женился, принял священнический сан. Его ожидала в общем-то заурядная духовная карьера – с переходом (если повезет) из менее богатого прихода в более богатый. Однако сам Сильвай являлся незаурядным пастырем. Он не замыкался в стенах храма – изучал историю родного края, писал краеведческие работы, собирал фольклор.
Большую известность принесла священнику литературная деятельность. Иван Антонович обрел славу крупнейшего поэта Угорской Руси, являлся автором множества повестей и рассказов. В центре его произведений – народный быт Закарпатья, радости и печали обитателей края, людские достоинства и грехи. Даже в тех случаях, когда действие переносилось в какую-нибудь вымышленную страну или за тридевять земель, было очевидно: он пишет о русинах и для русинов.
Ну а писал Сильвай, разумеется, на русском литературном языке. Укреплению позиций этого языка в Закарпатье он придавал большое значение. Русский литературный язык, по мнению Ивана Антоновича, способен был спасти томящихся под многовековым иноземным игом угрорусов от окончательной денационализации.
«При всем истощении сил угрорусского народа, – замечал он, – есть одно обстоятельство, которое его предохраняет от конечного исчезновения. Именно: его язык есть язык исполинского народа, литература которого стоит на уровне прочих культурных народов Европы и обладает силою по мере своего величия в культурном успеянии идти вперед громадными шагами… В отношении культуры, если великий народ можно сравнить с корнями и со стволом великого дерева, одноплеменные отрасли его, на основании единства языка, можно сравнить с его ветвями. Пока ветвь не отсекается от ствола, дотоль не только живет жизнью дерева, но, как составная часть целого, не перестает соблюдать присущие свойства целого».
Не желая угрорусам (и всем малорусам) судьбы отсеченной ветви, Сильвай решительно выступал против украинского движения, стремившегося разделить малорусскую и великорусскую части русского народа, натравить их друг на друга. Такое движение при поддержке австрийских властей набирало силу в соседней Галиции. Категорически возражал Иван Антонович против разработки в противовес русскому самостоятельного украинского языка. Сильвай констатировал, что украиноязычную газету, которую власти пытались издавать в Закарпатье, «никто не читает, кроме наборщика».
«По эту сторону Карпат, – сообщал писатель видному деятелю украинского движения в Галиции Владимиру Гнатюку, – нет ни одного образованного русского человека, который увлекался бы Вашею самостийною правописью и самородными мечтами. Понапрасну станете Вы утверждать, уж хоть с клятвою, что Вы русин. Вас все будут считать поляком, портителем прекрасного русского языка. Издаваемой Вами книги Вы мне не посылайте. Мне довольно муки причинило одно прочтение Вашего самостийного письма, а не то еще целой самостийной книги».
Иван Антонович сотрудничал с издававшейся в Закарпатье русскоязычной газетой «Свет» (пока ее не запретили власти). Энергично участвовал в работе литературного Общества святого Василия Великого, также ведшего свою деятельность на русском литературном языке, что специально было оговорено в уставе (позднее власти закрыли и это общество).
Помимо прочего, с помощью литературы Сильвай боролся со страшным народным недугом – пьянством. Проблема усугублялась тем, что в свободное от работы время закарпатским крестьянам нечем было занять себя. Единственным местом досуга в селе оставалась корчма, где и пропивались кровно заработанные гроши, иногда – все до последнего.
Открывать в селе библиотеку являлось бессмысленным – почти все сельские жители были неграмотны. Но священник нашел выход. Он собирал крестьян у себя и вслух читал книги и газеты. Таким способом люди отвлекались от корчмы.
Терпящие из-за этого убытки корчмари строчили на священника доносы, жаловались в различные инстанции (как светским, так и духовным властям). Оттуда подкупленные чиновники слали Ивану Антоновичу распоряжения – прекратить публичные чтения. Но он не сдавался.
А еще Сильвай был замечательным проповедником. Послушать его приходили люди не только из соседних приходов, но и из дальних сел. Сборник поучительных слов священника был издан впоследствии в двух томах и стал хорошим подспорьем для сельских батюшек.
До самой смерти отстаивал Иван Антонович интересы своего народа, включая сюда и право населения на пользование русским языком. Умер Сильвай в 1904 году.
В 1938 году в Закарпатье (входившем тогда в состав Чехословакии) отметили столетие со дня его рождения…
Забывать его стали уже в советское время. Безусловно, это несправедливо. Как общественный деятель Иван Антонович сделал для своего края немало. Что же касается его литературного творчества, то могу утверждать: лучшие произведения писателя ничем не уступают, например, повестям Ивана Нечуя-Левицкого, рассказам Ивана Франко, Архипа Тесленко, других литераторов, официально признаваемых украинскими классиками.
Вот только писал Сильвай по-русски. А это никак не вписывалось в навязываемое коммунистами представление о том, что родной язык здесь украинский, а не русский. Потому и замалчивается личность и творчество Ивана Сильвая. Давным-давно, в 1957 году, в Чехословакии (в Братиславе) вышла на русском языке книга «Избранных произведений» писателя. А в СССР – нет. В независимой Украине конечно же тоже. А жаль.
«Недоробленый». Жизнь и смерть украинского Хлестакова – Андрея Потебни
Андрей Потебня относится к тем кумирам современного украинства, которые сохранились еще с советских времен. И тогда, и сейчас его прославляли и прославляют как борца за свободу. Только раньше отмечалось, что боролся он против царского режима. Ныне же подчеркивается, что тот режим был русским. Соответственно, светлый образ «выдающегося революционера-демократа», каковым сего деятеля изображали советские авторы, уступил место не менее светлому лику «славного украинца», «героя борьбы за независимость», даже «национального героя».
Недавно в Украине последовал очередной всплеск интереса к Потебне. Это неудивительно. Отмечалась 150-я годовщина польского мятежа, в котором он принял участие, оказавшись, между прочим, самым известным мятежником из малорусов. Правда, таким вот «самым-самым» он стал не из-за каких-то своих достоинств. Причина в другом: малорусы, участвовавшие в тех событиях (офицеры, солдаты, крестьяне), в подавляющем большинстве своем сражались с мятежниками, а не за них. Таким образом, «национальный герой» выступал против собственного народа. Но об этой подробности его биографы, как правило, умалчивают. Как, впрочем, умалчивают они и о многом другом, о чем следует рассказать.
Андрей Потебня родился 19 августа 1838 года в небольшом хуторе близ села Перекоповцы Роменского уезда Полтавской губернии, в семье мелкого помещика (владельца пяти крепостных душ), отставного штабс-капитана Афанасия Потебни. Андрей был младшим сыном у родителей. Кроме него подрастал старший на три года сын Александр, впоследствии известный филолог.
Научную славу брата составители панегириков Потебне-младшему иногда распространяют на него самого. Об их семье рассуждают как о такой, где «господствовало глубокое уважение к образованию и науке», «заботливо сохранялись благородные, прогрессивные традиции освободительной борьбы украинского народа», «были достаточно ярко выражены украинские симпатии» и т. п. При этом не учитывается, что родительский дом оба брата оставили рано. Да и друг с другом они практически не общались.
Андрею было всего четыре года, когда Александра отдали на воспитание в семью дяди. А спустя несколько лет отец снарядил в дальнюю дорогу и младшего сына.
Сначала его определили в Орловский кадетский корпус. Но вскоре перевели в аналогичное заведение в Полоцк. Этот перевод сыграл в судьбе Потебни фатальную роль. В Полоцкий корпус кадетов из Центральной России направляли по приказу Николая I. Таким способом царь хотел разбавить почти сплошь польскую по национальному составу военную школу русским элементом. В то время (в отличие от нынешнего) никто не сомневался, что малорусы, как и великорусы, являются русскими. И малорус Андрей Потебня вместе с другими русскими юношами уже одним фактом пребывания в кадетском корпусе Полоцка был призван противодействовать польскому влиянию там.
Увы, получилось наоборот. Мальчик сам попал под влияние поляков.
Это влияние усилилось во время завершения учебы. Поскольку в Полоцком корпусе не было тогда офицерских классов, его выпускников отправляли доучиваться в Петербург – в Дворянский полк, переименованный затем в Константиновский кадетский корпус. А в полку том находилось не только много кадетов-поляков, но и преподавателей польского происхождения было более четверти от общего числа.
Уже тогда, в середине 1850-х годов, польские деятели старались занимать места в военно-учебных заведениях. Присматривались к будущим офицерам из русских. Подыскивали среди них тех, кто мог бы пригодиться для реализации заветной польской мечты – восстановления независимости (на тот момент территория Польши была разделена между Россией, Австрией и Пруссией, причем большая часть входила в состав Российской империи).
С намеченными кандидатами поляки сближались, завязывали дружеское общение, входили в доверие и постепенно прививали им взгляды на Россию как на тюрьму народов (русского – в том числе), которую необходимо разрушить.
Привлечь на свою сторону удавалось далеко не всех. Но с Потебней это произошло.
По окончании учебы в 1856 году он был выпущен прапорщиком в полк, расквартированный в Польше. Можно предположить, что таковому распределению посодействовали польские друзья юного офицера.
Какой-то особой подпольной работы Потебня не вел. Периодически, вместе с несколькими другими офицерами-«вольнодумцами» (поляками и русскими), почитывал тайно присылаемую из Лондона газету Александра Герцена «Колокол» – печатный орган российской революционной эмиграции. Обсуждал прочитанное. Вел разговоры на политические темы. Вот, собственно, и все.
Своим ходом шла служба. В 1858 году Потебня получил направление в Царскосельскую стрелковую школу. Прошел там годовые курсы. Часто наезжал в Петербург, где, помимо прочего, познакомился с Николаем Чернышевским и другими революционерами-демократами. Вернулся в свой полк. В 1861 году ему присвоили очередное звание – подпоручик.
Но медленное продвижение вверх по служебной лестнице его не устраивало. Мечталось о большем. Хотелось быть кем-то важным. Между тем выдающихся качеств, с помощью которых можно было бы достичь значительного положения, у Потебни не имелось.
Замечательный русский писатель Всеволод Крестовский, кстати, тоже малорус по происхождению, имевший возможность лично наблюдать за Потебней (в конце 1850-х они вращались в одних кругах столичной «прогрессивной» молодежи) вывел его затем в своем романе «Две силы» под именем поручика Паляницы. «Длинного роста и жидкой комплекции, к которому как нельзя более подходило прозвище «дылды», – описывал Крестовский своего «героя». – С коротко остриженными волосами, которые торчали на голове его как жесткая щетка; в круто сведенных густых бровях его присутствовало характерное выражение неуклонности и упорства, но серые глаза уставлялись из-под этих бровей как-то тупо и неподвижно, напоминая своим выражением взгляд сонного окуня».
Характеризуя Потебню (Паляницу), Крестовский употребил малорусское слово «недоробленый» (недоделанный – в переводе на русский литературный язык). Надо признать: характеристика точная. Таким недоделанным Потебня в общем-то и являлся. Но он так грезил о собственном величии. Верил, что мечта сбудется. Терпеливо ждал. И как ему показалось, дождался.
В 1862 году лидеры польского движения сочли, что пришло время для открытого восстания против России. План вооруженного выступления поручили разработать Ярославу Домбровскому, приятелю Потебни еще с кадетской поры.
Легко увлекающийся, Домбровский был уверен, что под влиянием революционной пропаганды русские войска в Польше присоединятся к восставшим и уж в любом случае не окажут им сопротивления. Исходя из этого он и ставил задачи перед отрядами будущих повстанцев.
Потебня во всем поддакивал товарищу. Однако руководители движения смотрели на происходящее более здраво. Симпатизировавших польскому делу русских офицеров (а таких насчитывалось немного) вызвали на совещание и предложили честно ответить: сумеют ли они присоединить к восстанию хотя бы те подразделения, какими командуют? Большинство опрошенных признались: ручаться могут только за себя, чтобы увлечь в восстание солдат, их влияния недостаточно. А подпоручик Потебня утверждал обратное. Он заявлял, что приведет на помощь повстанцам целый батальон. За этим батальоном, дескать, несомненно, последуют другие. Выступление имеет все шансы на успех.
Разумеется, ему не поверили. Восстание решили отсрочить. И поступили разумно. Ни батальона, ни даже роты или взвода Потебня бы не привел. Он просто вообразил, что пришел его звездный час, настал момент показать себя, заявить претензии на лидерство. А потому – врал не стесняясь.
Конечно, это было легкомыслие. Но остановиться подпоручик уже не мог. За словом последовало дело. Чтобы показать свой «героизм», Потебня 15 июня 1862 года в варшавском парке совершил покушение на императорского наместника в царстве Польском генерала Александра Лидерса. Наверняка он был уверен, что этим актом поднимет свой авторитет в глазах польских и российских революционеров. «Я всадил ему в лоб», – хвастался начинающий террорист перед поляками. И снова врал.
Напасть на гуляющего без охраны старика (Лидерсу было семьдесят два года) спереди, «в лоб», он не решился. Подкрался со спины, выстрелил и бросился наутек.
Пуля попала генералу в шею. К счастью, рана оказалась неопасной. «Подлец стреляет сзади!» – успел крикнуть Лидере убегавшему Потебне. Стоит добавить, что наместник и так уходил в отставку со своего поста, а по подозрению в покушении на него арестовали других людей из числа революционно настроенных. Следствие, правда, установило их невиновность в этом деле. Арестованным вернули свободу. О том, что стрелял в наместника Потебня, жандармы так и не узнали.
Но сам подпоручик думал, что полиция уже идет по его следу. Он оставил службу и перешел на нелегальное положение. На улице показывался не иначе как переодетым женщиной или монахом. Зато теперь Потебня полностью сосредоточился на революционной деятельности. Прежде всего написал письмо Александру Герцену. Причем написал от имени «многих русских офицеров», хотя не представлял никого, кроме себя лично. А вскоре по поддельным документам и сам поехал в Лондон.
Герцен тогда считался вождем российских революционеров. Его авторитет признавали (во всяком случае, на словах) и поляки. Такое знакомство, безусловно, могло принести пользу.
Потебню встретили с распростертыми объятиями. Он представился руководителем Комитета русских офицеров в Польше. Сообщил, что армия готова к революции и прогрессивно настроенным офицерам с трудом удается сдерживать солдат от преждевременного выступления. Уверял, что по одному его, Потебни, слову многие тысячи солдат и офицеров поднимутся на борьбу с царизмом.
Александр Герцен, Николай Огарев, Михаил Бакунин, прочие эмигранты-революционеры не могли нарадоваться, слушали гостя с восторгом. Беглый подпоручик возвращался назад, облеченный полным доверием «лондонских изгнанников».
Впрочем, авторитета в Польше ему это не прибавило. То, о чем не знали в далекой Англии, было хорошо известно на месте. Ярослав Домбровский к тому времени был арестован. Другие же польские деятели, как и русские революционеры, Потебню не принимали всерьез. «Мощный» и «многочисленный» Комитет русских офицеров, про который он говорил в Лондоне, состоял из него одного. Общение с Потебней поддерживали разве что офицер-поляк Зигмунд Падлевский и некий Бронислав Шварц, французский подданный, чьи родители эмигрировали когда-то из Польши.
Единственное, что мог теперь уже бывший подпоручик, – это сочинять революционные воззвания, которые, однако, ни на кого не влияли. «Потебня, – вспоминал позднее участник польского мятежа Оскар Авейде, – написал несколько писем (всего не более пяти) от имени идеального русского комитета, которые Шварц скрепил старыми печатями и разослал к разным офицерам, служившим в воеводствах, но этим все и кончилось: ничего существенного, ничего серьезного не было, комитета не существовало».
О реальном положении дел поляки не поленились сообщить Герцену. Тот, наверное, устыдился собственной доверчивости. В конце концов, о Комитете русских офицеров он знал от одного человека, которого видел в первый раз. С другой стороны, Потебня продолжал слать донесения, сообщая о дальнейших своих успехах в подготовке революции.
Из Лондона потребовали доказательств существования организации. И… Потебня их предоставил.
В редакцию герценовского «Колокола» он переправил копию обращения русских офицеров к новому императорскому наместнику, великому князю Константину Николаевичу (сменившему Лидерса). Офицеры требовали прекратить насилие, дать полякам свободу. Под оригиналом обращения, пояснял Потебня, никаких подписей по понятным причинам не стояло. Но Герцену эти подписи нескольких сотен офицеров он предоставил.
Пренебречь таким доказательством редактор «Колокола» не мог.
Уже потом выяснилось, что Потебня совершил заурядный подлог. Фамилии офицеров он раздобыл у знакомого штабного писаря. Вместе с двумя подельниками (Шварцем и Падлевским) разными чернилами, меняя почерк, понаставлял множество подписей. Настоящим был лишь автограф самого Потебни и нескольких офицеров-поляков.
Но, повторюсь, выявилось это потом. А осенью 1862 года «лондонским изгнанникам» пришлось вновь стыдиться. На сей раз своего недоверия. Приехавшего опять Потебню они приняли с радостью. Проведя переговоры с Огаревым (Герцен вынужден был уехать из Лондона по срочным делам), сообщив новые «сведения» о подготовке революции, самозваный глава несуществующего Комитета русских офицеров имел основания торжествовать.
Даже польские деятели стали поглядывать на него с удивлением. Повторное доверие Герцена чего-то стоило. Может, действительно за Потебней есть сила, о которой они, поляки, не знают?
Потебня подтвердил: его Комитет – могущественная организация. Пусть только начнется восстание, тогда увидите!
Чем-то напоминал он гоголевского Хлестакова из «Ревизора». С той, правда, разницей, что персонаж Гоголя – фигура однозначно комическая. Хлестаковщина же Потебни привела к трагическому финалу.
На что он рассчитывал? Вероятно, на то, что восстание начнется еще не скоро (если начнется вообще). И все время до восстания можно будет тешиться репутацией значительного лица. Ощущать себя руководителем пускай и воображаемой организации. Пользоваться уважением авторитетных лиц.
Трудно сказать, сколько бы еще продолжалась эта история. Но вмешалась большая политика. Правительство собралось провести в Польше рекрутский набор – призыв молодежи в армию. Для польских деятелей это означало, что многие молодые люди, готовые стать повстанцами, будут одеты в солдатскую форму и отправлены в отдаленные российские гарнизоны. Движение утратит силу. На планах вооруженного выступления придется поставить крест.
Поляки решили действовать на опережение – поднять восстание, как только будет объявлен призыв рекрутов. Срок настал в январе 1863 года.
В один из дней Потебню спешно пригласили на переговоры. Спрашивали: можно ли рассчитывать на его Комитет русских офицеров? Ответ был прежним: влияние Комитета огромно, его ячейки тайно действуют чуть ли не во всех воинских частях, сам Потебня располагает внушительным боевым отрядом, готов действовать.
Тогда он и услышал новость, вероятно повергнувшую его в состояние шока: восстание начнется через несколько дней. Признаться, что соврал, мужества не хватило.
Ну а дальше случилось то, что и должно было случиться. Поляки выступили. Их отряды двинулись к крепостям, ворота которых должны были распахнуть перед повстанцами члены Комитета русских офицеров. Другие отряды подошли к военным лагерям, предвкушая, что там вспыхнут бунты и войска перейдут на их сторону. Ждали и удара по царским войскам отряда Потебни. Но…
«До сих пор ни одного русского солдата не перешло, ни один офицер не отказался от команды против поляков», – в отчаянии писал Герцен Огареву спустя две недели после начала мятежа. Польские деятели засыпали его упреками, а «лондонский изгнанник» не знал, что ответить. И Комитет русских офицеров, и отряд, будто бы собранный Потебней, оказались мифами.
Потебня же. в очередной раз помчался в Лондон. Он уверял, что поляки во всем виноваты сами. Дескать, они неправильно его поняли, действовали несогласованно, не позаботились об установлении контактов с представителями Комитета на местах. Наконец, имела место трагическая случайность…
Герцен и Огарев уже не верили. Один Бакунин, сам любивший приврать, проявил сочувствие. Он написал рекомендательное письмо польскому воеводе Мариану Лянгевичу. С такой рекомендацией, обругав за глаза Герцена, Потебня вернулся в Польшу.
К Лянгевичу он явился с проектом организации специального легиона из русских пленных, захваченных повстанцами. Командование легионом Потебня «самоотверженно» готов был взять на себя.
Только вот полякам он со своей болтовней надоел до чертиков. Воевода не стал с ним долго разговаривать. Приказал стать в строй рядовым. Ослушаться незадачливый «командир легиона» не посмел. С ним бы не церемонились.
Ему даже не дали оружия. Послали в самый низкосортный отряд, к косинерам (сброду, вооруженному косами). С косой в руке и выступил он в свой первый боевой поход.
Перед отрядом, точнее, бандой поставили задачу: ночью атаковать небольшой русский военный лагерь. Это была излюбленная тактика повстанцев: под покровом темноты нападать на расположившихся на отдых солдат и резать их спящих.
Но на сей раз головорезам не повезло. Застать русских врасплох не удалось. Косинеров встретили выстрелами. Одна из пуль попала в грудь Потебне. Первый бой стал для него и последним.
Подводя итог, нельзя не подтвердить еще раз правоту Всеволода Крестовского. Был Потебня каким-то «недоробленым». Думается, называть его сегодня национальным героем Украины – значит оскорблять украинцев. А вот в роли кумира украинской «национально сознательной» общественности он вполне сгодится. Там ведь все такие – «недоробленые».
Чужой среди своих. Малоизвестный Иван Нечуй-Левицкий
Выдающийся украинский писатель. Классик украинской литературы, чьи книги издавались массовым тиражом. Автор, произведения которого давно включены в Украине в школьную программу. Можно ли такого человека назвать малоизвестным?
Тем не менее это так. Подлинная биография Ивана Семеновича Нечуя-Левицкого и значительная часть его творческого наследия практически неизвестны широкой публике. Потому и имеет смысл присмотреться к этой фигуре прошлого пристальнее.
Он родился 13 ноября 1838 года в небольшом городке Стеблев Киевской губернии, в семье священника. Отец будущего классика был заядлым любителем малорусской старины. С увлечением читал он книги о прошлом родного края – «Историю Малой Руси» Дмитрия Бантыша-Каменского, «Историю Малороссии» Николая Маркевича и другие. Те, первые труды ученых историков являлись, конечно, несовершенными и не во всем достоверными. В частности, их авторы безоговорочно доверяли знаменитой «Истории русов», искренне считая сей опус настоящей летописью (как фальшивку его разоблачили позднее). Понятно, что знания они давали читателям неполные и односторонние. Но для провинциального батюшки такого чтения было достаточно. По-видимому, под влиянием книг в нем укреплялись украинофильские настроения.
Эти настроения (как и домашнюю библиотеку) унаследовал потом его сын. Только в выборе рода занятий он не пошел за отцом. Хоть Иван Семенович последовательно закончил духовное училище, духовную семинарию, а затем и Киевскую духовную академию, но быть священником не пожелал. По завершении в 1865 году образования он около года преподавал русскую словесность (язык и литературу) в Полтавской духовной семинарии, а потом отправился учительствовать во входившую в состав Российской империи часть Польши.
Польша в то время представляла собой печальное зрелище. Несколько лет прошло после подавления мятежа 1863 года. Кровавые сцены еще стояли перед глазами и победителей, и побежденных. Власти проявляли строгость, накладывали ограничение на развитие польской культуры, проводили политику русификации края.
Волей или неволей учитель русской словесности должен был содействовать такой политике. Впоследствии биографы писателя будут рассказывать, как тяжело и неприятно было ему русифицировать братский славянский народ. Но факт остается фактом: обязанности свои Левицкий (прибавка к фамилии «Нечуй» – это литературный псевдоним) исполнял добросовестно, место работы не менял.
В Польше он дважды чуть было не женился. Но оба раза его отговорили. Сначала – директор гимназии, где Иван Семенович преподавал. Начальник по-отцовски обратил внимание подчиненного на сомнительную репутацию его невесты. В самом деле девица любила повеселиться в компании офицеров, изображала из себя амазонку и в отношениях с мужчинами переходила грани приличия.
Директор предположил, что, выйдя замуж за учителя, она вряд ли образумится и по-прежнему будет предпочитать военных кавалеров собственному мужу. А кроме того, сделав подобный выбор, педагог подаст дурной пример подрастающему поколению.
Аргументы были не лишены основания. И Иван Семенович прислушался к ним.
Второй же раз от женитьбы его отговорила сестра. Дескать, избранница брата – барышня с претензиями, денег на нее не напасешься, а там дети пойдут…
Вскоре учителя перевели из Польши в кишиневскую гимназию. «А в Кишиневе, – вспоминал он, – молдаванки, красота у них грубая. А я грубой красоты не люблю». Так и остался он до конца жизни холостяком.
Еще до переезда в Молдавию Иван Семенович начал заниматься литературной деятельностью. Писал он на малорусском наречии. Его произведения издавались и в российской части Малороссии, и в Австрийской Галиции. Нечуй-Левицкий становится популярным. Из многих концов Российской империи читатели слали ему письма.
В октябре 1884 года одно такое письмо пришло с Кавказа. Некий юноша, отрекомендовавшийся как «тыфлыськый гымназыста» (тифлисский гимназист – письмо было написано по-малорусски), просил его стать литературным наставником. К посланию прилагалось несколько стихов и рассказов. Юноша хотел, чтобы известный писатель высказал о них свое мнение и, если найдет их достойными, помог опубликовать.
Иван Семенович не отказал в просьбе. Он внимательно прочел присланное. Что-то похвалил, что-то мягко покритиковал. Но в любом случае советовал юному автору не оставлять занятий литературой. Чуть позже, по рекомендации Нечуя-Левицкого, некоторые произведения напечатали в галицких журналах.
Обрадованный «гымназыста» повадился присылать свои писания и дальше, рассчитывая на помощь в опубликовании. Он называл писателя «благодетелем моим и учителем», всячески льстил, просил разрешения посвятить ему очередную повесть.
Повести между тем были слабенькие. Но Иван Семенович продолжал ободрять юношу, не жалея для него теплых слов. Единственное, что утомляло Нечуя-Левицкого, – это чрезмерная назойливость молодого человека. Стоило писателю из-за занятости или по нездоровью немного промедлить с ответом, как неслось новое письмо, с упреком («почему молчите?») и мольбой написать «хоть коротенько».
Однако писатель сносил все терпеливо. Пояснял, что не всегда хватает времени и сил. Извинялся. Успокаивал. Вряд ли он предполагал, что придет время и бывший «гымназыста» окажется его злейшим врагом, даже поспособствует его смерти. Звали надоедливого юношу Михаил Грушевский.
Впрочем, в середине 1880-х годов до этого было еще далеко. В 1885 году, отработав необходимые для выслуги пенсии двадцать лет, Иван Семенович вышел в отставку и целиком сосредоточился на литературной деятельности.
Деятельность, надо сказать, была плодотворной. Произведения выходили из-под его пера одно за другим. Безусловно, по размеру писательского дарования Нечуй-Левицкий уступал, скажем, Николаю Гоголю или Ивану Тургеневу, другим общерусским прозаикам. Но в литературе более низкого, областного уровня он пользовался заслуженным признанием.
Не стоял писатель в стороне и от общественной жизни. Из стихийного украинофила он превратился в украинофила «сознательного». Примкнув к украинскому движению, Иван Семенович пропитался русофобским духом. Противопоставлял Украину и Великороссию, уподобляя первую Провансу или Неаполю.
Нечуй-Левицкий считал, что рано или поздно большие европейские литературы – французская, итальянская, немецкая, русская – распадутся на областные, провинциальные литературы. К примеру, художественные произведения на провансальском диалекте вытеснят в Провансе французскую литературу. В Неаполе и окрестностях литература на местном наречии возьмет верх над итальянской. Говоры Нижней Германии превзойдут на соответствующей территории немецкий литературный язык. И так далее. Точно так же, был уверен писатель, в Украине простонародная речь со временем станет доминировать в литературе, не оставив там места для русского литературного языка.
Вместе с прочими украинскими деятелями Иван Семенович трудился над созданием на народной основе нового литературного языка, призванного заменить русский.
Работа эта велась преимущественно в Галиции, где ее поддерживало австрийское правительство. Во главе же языкотворческих усилий стоял Михаил Грушевский, к тому времени получивший образование, перебравшийся в Австро-Венгрию и удостоенный там звания профессора.
Чтобы язык получился самостоятельным, его «очищали» от «русизмов». Употребляемые простыми малорусами слова отбрасывали как неугодные, если такие же или похожие слова употреблялись в Великороссии. Их заменяли заимствованиями из других языков (прежде всего – из польского) или специально придуманными терминами.
Нечуй-Левицкий старался не отстать от единомышленников. «Чистил» собственные произведения. Помогал «очищаться» другим авторам. В Галиции сочинения писателя выходили в «исправленном» виде, после того, как с ними поработали тамошние редакторы. Иван Семенович благодарил их за заботу о «чистоте» языка его произведений.
Однако через какое-то время он обнаружил, что «исправлений» становится очень много. Получалась не просто «чистка», а подмена основы. Народного там оставалось все меньше и меньше.
Писатель обратился к галичанам с просьбой не переусердствовать. От него отмахнулись. Грушевский заявил, что все идет правильно и нечего разводить ненужные споры. Нечуй-Левицкий недоумевал, но терпел. А галицкие языкотворцы не унимались…
Гром грянул, когда новосозданный украинский литературный язык пришлось выставлять на суд широкой публики. В 1905 году в России разразилась революция. Были отменены цензурные запреты. Настала «эпоха свободы».
Украинские «национально сознательные» деятели получили возможность без ограничений издавать прессу и книги. Тут-то и выяснилось, что новый язык читателям не понятен. Он еще мог кое-как существовать в Галиции, где малорусы долгое время жили с поляками бок о бок, а польская культура доминировала. Но в российской части Малороссии сие новшество воспринимали как тарабарщину. Книги, газеты, журналы на этом языке не читал никто, кроме узкого круга самих же украинских деятелей.
Иван Семенович тяжело переживал неудачу. Он попробовал еще раз образумить Грушевского. Но тот не желал признавать ошибок. А украиноязычная литература по-прежнему не имела читателей.
И тогда Нечуй-Левицкий выступил публично. Свои взгляды он изложил в работах «Современный язык периодических изданий на Украине», «Кривое зеркало украинского языка» и других (все они ныне замалчиваются). Писатель протестовал против искусственной полонизации украинской речи, замены народных слов иноязычными заимствованиями, приводил конкретные примеры.
Сам не безгрешный по части выдумывания новых слов, он отмечал, что торопливость тут недопустима, ибо слишком большого количества новшеств народ «не переварит». В стремлении сделать украинский литературный язык как можно более далеким от русского, языкотворцы, по мнению Нечуя-Левицкого, утратили всякое чувство меры. «Получилось что-то и правда уж слишком далекое от русского, но вместе с тем оно вышло настолько же далеким от украинского».
«Нет! Это в самом деле не украинский язык! – делал вывод Иван Семенович. – Такого языка у нас не разберут и ничего из него не поймут, а если что-то и разберут, то в голове останется что-то невыразительное, каламутное, какая-то муть».
Выступление писателя вызвало шок в «национально сознательной» среде. На него невозможно было навесить ярлык «великорусского шовиниста» или замолчать его выступление. Грушевскому и его соратникам пришлось оправдываться.
Они злились. Обвиняли Нечуя-Левицкого в «измене», в содействии «врагам Украины». Но опровергнуть его не могли и только копили в себе ненависть к писателю.
Выход этой ненависти был дан после революции 1917 года. Государство Российское распалось. Небывалая до того в истории страны катастрофа повлекла за собой неисчислимое множество других, более мелких катастроф в жизни обычных людей. Затронуло происходившее и Ивана Семеновича. В царской России он получал пенсию. Теперь же остался без средств к существованию. А был уже старым, немощным, часто болел.
Друзья писателя обратились к украинским властям. Просили позаботиться о человеке, имевшем немалые заслуги перед Украиной, назначить ему пенсию. Только у власти как раз были те, кто считал себя обиженным Нечуем-Левицким. Тут-то Грушевский с приближенными и рассчитались с беспомощным стариком.
Разумеется, прямо они не отказали. Наоборот, обещали помочь. Но не сделали ровным счетом ничего. И в апреле 1918 года Иван Семенович умер в полной нищете в одной из киевских богаделен.
Зато хоронили его торжественно. За гробом шли члены правительства. Несли венки и цветы. Правда, перед этим тело покойного тайно перевезли в Софийский собор. Ведь неудобно устраивать пышные похороны из богадельни.
Всеволод Крестовский. Пророк, которого не услышали
День его рождения приходится на 23 февраля. А вот год рождения точно неизвестен. В одних источниках таковым обозначают 1840-й. В других – 1839-й. Да и вообще об этом писателе знают очень мало. Хотя, если судить по таланту, его вполне можно было бы назвать литературным классиком. В советскую эпоху на него прочно навесили ярлык реакционера, мракобеса, погромщика. Соответственно – его произведения считались недостойными внимания. Большинство из них не переиздавались вплоть до начала 1990-х годов. Лишь в последнее время отношение к нему несколько улучшилось. В России вновь вышли в свет написанные им романы (по одному из них даже сняли телесериал). Статьи, посвященные писателю, появились в ряде литературоведческих журналов. Но это в России. У нас же в Украине он по-прежнему остается неизвестным широкой публике (разве что кто-то запомнил фамилию из титров упомянутого сериала). Между тем писателя этого украинцы могут считать своим с не меньшим основанием, чем россияне.
Детство. Отрочество. Юность
Всеволод Крестовский происходил из старинного дворянского рода. Отец писателя, Владимир Васильевич, отставной офицер, служил в Петербурге комиссаром при военном госпитале. Жалованье у него было небольшое, и потому он согласился, чтобы жена его, Мария Осиповна (урожденная Товбич), переехала жить в имение своей матери – село Малая Березайка Таращанского уезда Киевской губернии. Именно здесь родился будущий великий писатель. Здесь, как напишет один из его биографов, «среди поэтической обстановки деревенской жизни в Малороссии», прошло его детство. И любовь к этому краю – своей малой родине – он сохранил на всю жизнь. Уже в зрелом возрасте, обладая неплохими вокальными данными, Крестовский, аккомпанируя себе на рояле, часто пел украинские народные песни. Пел не только в компании, но и оставаясь наедине с самим собой.
Начальное образование Всеволод (как и большинство помещичьих детей в тогдашней России) получил дома. Помимо четырех учителей и гувернанток с ним занималась мама, довольно умная и образованная женщина. С детства у маленького дворянина проявились недюжинные способности. Мальчик рано выучился читать (и читал много, иногда целые дни напролет), обладал редкой наблюдательностью и прекрасной памятью, на лету схватывая преподаваемый материал. А еще он отличался необычайной добротой, постоянно выпрашивал у матери деньги для бедняков, делился сладостями со своего стола с сыном дворника, очень любил животных.
На одиннадцатом году жизни для продолжения обучения Крестовского перевезли в Петербург. Его отдали в Первую гимназию – элитное учебное заведение, куда принимали только детей потомственных дворян. В гимназии способности Всеволода развились еще больше. Он стал писать стихи, а также рассказы из родного украинского быта. На творчество гимназиста обратил внимание учитель русского языка, видный педагог Василий Водовозов, первым отметивший наличие у ученика литературного таланта.
Удачный дебют
По окончании гимназии в 1857 году Крестовский поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. Тогда же он дебютировал в печати. Стихи молодого литератора опубликовал журнал «Общезанимательный вестник». А вслед за тем его стихотворения и рассказы начали печатать почти все выходившие в то время периодические издания. «Отечественные записки» и «Русский вестник», «Библиотека для чтения» и «Иллюстрация», «Время» и «Эпоха», «Сын Отечества» и «Русское слово» охотно предоставляли новому автору свои страницы.
«Всеволод Крестовский был избалован ранним признанием», – с неудовольствием констатирует неприязненно к нему относящийся современный российский литературовед. В самом деле, талант писателя признали и в обществе, и в литературном мире. Творчество Крестовского высоко оценил выдающийся литературный критик Аполлон Григорьев, а Федор Достоевский назвал его «самым убежденным и самым развеселым из русских поэтов».
Ради занятия литературой Всеволод Владимирович оставил университет (в котором проучился всего два года). Он продолжает публиковать рассказы и стихи (в том числе переводы, и среди прочего переводит два стихотворения Тараса Шевченко). Выступает с критическими статьями и рецензиями. В 1862 году выходит двухтомник его поэтических произведений. Но подлинную популярность принесла писателю книга об обитателях столичного «дна» – роман «Петербургские трущобы» (это по нему в современной России сняли сериал «Петербургские тайны»). Созданию произведения предшествовала большая подготовительная работа. Почти год Крестовский изучал материалы судебных архивов. Переодевшись бродягой, посещал воровские притоны (однажды даже был арестован полицией, принявшей литератора за настоящего уголовника). Бывал в тюрьмах и больницах для бедных.
Роман (с 1864 года его публиковал журнал «Отечественные записки») получился захватывающим. По воспоминаниям современников, в образованном обществе Петербурга не было человека, который не прочел бы этой книги. Ее обсуждали всюду, пытаясь за литературными персонажами угадать реальных лиц. Кроме журнальной публикации, в короткое время вышло пять изданий «Петербургских трущоб». Всеволод Владимирович стал знаменитым.
Происходили перемены и в личной жизни писателя. Еще в 1861 году он женился на двадцатилетней актрисе Варваре Дмитриевне Гриневой. Женился по любви. Первое время молодые жили душа в душу, несмотря на финансовые трудности (Крестовский вступил в брак вопреки желанию родителей, считавших его неготовым к семейной жизни, и потому гордо отказался принимать от них какую-либо помощь). Позднее благодаря литературным успехам материальное положение значительно поправилось. У Крестовских родилась дочь Маша (впоследствии тоже ставшая писательницей). Но вместе со славой Всеволода Владимировича росли и запросы его супруги. Варвара Дмитриевна считала, что, как жена известного литератора, она имеет право на большее, чем реально мог ей дать муж. На этой почве в семье начались размолвки, переросшие с течением времени в конфликт. В конце концов супруги расстались.
Может быть, под влиянием семейных неурядиц Крестовский решил поступить на военную службу. А перед этим он в своем творчестве невольно «пересекся» с биографией Тараса Шевченко (эпизод, может быть, малозанимательный для российских литературоведов, но небезынтересный для украинцев). В 1867 году писатель совершил большое путешествие по Волге и на основании дорожных впечатлений написал несколько очерков.
В одном из них – очерке «Сольгород», посвященном Нижнему Новгороду, Всеволод Владимирович разоблачил местного полицмейстера, взяточника и казнокрада Павла Лаппо-Старженецкого (изображенного под именем Загребистой Лапы). Того самого Лаппо-Старженецкого, которого Шевченко в «Дневнике» называет «нижегородским моим приятелем», «хорошим человеком», «бравым и любезным полицмейстером». Как известно, во время пребывания Тараса Григорьевича в Нижнем Новгороде «любезный полицмейстер» «засвидетельствовал» (разумеется, не бесплатно) мнимую болезнь поэта, чем помог ему избежать нежелательного возвращения в Оренбург. По этой причине и удостоился Лаппо-Старженецкий хвалебных отзывов и от «великого Кобзаря», и от позднейших «шевченкознавцев». Крестовский придерживался иного мнения и выставил в «Сольгороде» полицейского хапугу и вора в истинном, крайне неприглядном виде.
Кстати сказать, будучи убежденным монархистом, Всеволод Крестовский не боялся критиковать тогдашние порядки. Критиковать недостатки для того, чтобы их устранить и тем самым усилить самодержавный строй. «Я остаюсь – и навсегда останусь – при глубоко неизменном убеждении, что прямое слово правды никогда не может подрывать и разрушать того, что законно и истинно, – писал он. – А если наносит оно вред и ущерб, то только одному злу и беззаконию». Этим Всеволод Владимирович разительно отличался от писателей советских, которые свою лояльность властям доказывали приукрашиванием, «лакировкой» действительности.
На государевой службе
В июне 1868 года Крестовский был определен на службу в Ямбургский уланский полк, расположенный в Белоруссии. Здесь Всеволод Владимирович пишет роман «Панургово стадо» – первый из своих замечательных романов о русских нигилистах. (Панурговым стадом называют толпу, тупо идущую за своим вожаком, даже если он ведет ее в пропасть.) Вслед за ним последовали романы «Вне закона», «Две силы» (продолжение «Панургова стада»), а позднее – «Тьма Египетская», «Тамара Бендавид», «Торжество Ваала». Эти талантливо написанные произведения вызвали жгучую ненависть к писателю со стороны «прогрессивно мыслящей» части общества. Крестовский покусился на «святое». Он правдиво показал интеллектуальное убожество и моральную нечистоплотность русских революционеров-демократов (многих из которых хорошо знал лично), подчеркнул русофобскую сущность революционного движения. Такого писателю простить не могли. Посыпались злобные нападки в прессе, обвинения в клевете.
Однако Всеволод Владимирович по этому поводу особо не беспокоился, продолжая литературную деятельность. Помимо художественных произведений им была составлена история Ямбургского полка. Причем составлена столь удачно, что сам император Александр II отблагодарил Крестовского, переведя его в лейб-гвардии Уланский полк.
Успешной была и дальнейшая служебная карьера писателя. Во время Русско-турецкой войны 1877–1878 годов он находился в действующей армии. За участие в боях награжден несколькими русскими, а также иностранными (сербским, румынским, черногорским) орденами. В 1880 году Крестовского прикомандировывают к русской эскадре, совершавшей плавание по Тихому океану. Затем (уже в чине полковника) он переводится на должность старшего чиновника для особых поручений при генерал-губернаторе Туркестана. (В Туркестане Всеволод Владимирович женился во второй раз и был счастлив в браке, прижив с новой женой пятерых детей.) Еще позже – служил в пограничной страже, совершая инспекционные поездки вдоль российских границ. Наконец, в 1892 году по приглашению варшавского генерал-губернатора Иосифа Гурко писатель становится главным редактором официальной газеты «Варшавский дневник». На этой должности и застала его преждевременная (в результате болезни почек) смерть в январе 1895 года.
Малорусские очерки
Из множества мест, где Всеволоду Владимировичу приходилось бывать по долгу службы, он привозил путевые очерки и записки. Думается, прежде всего стоит обратить внимание на те из них, которые относятся к Малороссии. Это очерки «Вдоль австрийской границы» и «Русский город под австрийской маркой». Последний очерк посвящен административному центру Буковины – Черновцам, находившимся тогда вместе с другими западномалорусскими землями в составе Австро-Венгрии. Видимо, стоит напомнить, что во времена писателя малорусы считались такими же русскими, как и великорусы. Поэтому и в упомянутом очерке Крестовский назвал Черновцы русским городом.
Впрочем, русским свой край считали и сами буковинские и галицкие русины. «Закордонные крестьяне, – отмечал Всеволод Владимирович, – приходя иногда к нам, с большим участием и интересом расспрашивают, что делается «у нас» в Москве и в Киеве? Иначе они и не выражаются, как «у нас» в России, и царя называют «нашим», т. е. своим царем. Когда же им при этом напоминают, что у них есть свой цесарь в Вене, они, ухмыляясь, отвечают, что это так только пока, до времени, а что истинный царь их сидит в России, в Москве. Замечательно, что про Петербург никто из них никогда не поминает, как точно бы они и не знают о его существовании; но Киев и Москву знают решительно все и считают последнюю своею истинною столицей».
Есть в очерке и строки об украинофильском движении: «Как у нас в свое время работали чернышевщина и писаревщина, так и тут, но только несколько позднее нашего, нашли себе ретивых адептов в полуобразованной среде разные кулишовщины, драгомановщины и т. п. Это явление совершенно аналогично с нашим, и, как у нас, так и здесь, объясняется оно именно тою полуобразованностью так называемого «интеллигентного слоя», которая хуже всякого невежества, потому что не способна ни к самостоятельному мышлению, ни к здравой оценке чужого мнения, а, напротив, склонна к совершенно холопскому преклонению пред каждою либерально-яркою и хлесткою фразою, пред каждым радикально забористым выкрутасом, сколь бы ни были они сами по себе вздорны и нелепы. И замечательно, что здешние «украйнофилы» или «народовцы», совершенно так же, как и наши «народники», оторвались от истинно народной почвы и даже, разучившись понимать свой народ, воображают себе, что именно они-то и призваны преобразовывать его и повернуть на новую дорогу всю его историю, весь склад его тысячелетней жизни, быта, верований и упований».
В Малороссии (в губернском городе с вымышленным названием Украинск, под которым подразумевается, скорее всего, Каменец-Подольский) проходит и действие романа «Тьма Египетская» – первой части знаменитой антинигилистической трилогии. Третья же часть трилогии – роман «Торжество Ваала» (в связи со смертью писателя он остался незаконченным) – содержит пророческое предостережение правящим кругам Российской империи.
Крестовский предупреждал, что противники самодержавия меняют тактику. Вместо провалившегося с треском «хождения в народ» они начинают «идти в правительство», делают карьеру, стремятся к занятию ключевых постов в чиновничьей иерархии, чтоб затем взорвать государство изнутри. Они демонстрируют «верноподданность» и «религиозность», громче всех кричат «Ура!» и поют «Боже, царя храни», но при этом тайно продолжают свою разрушительную деятельность.
«Старайся всячески, хоть ужом проползай в лагерь врагов, – поучает в романе такой вот тайный революционер Охрименко соратника по борьбе. – Облекайся в их шкуру, яждь и пий, и подпевай с ними, усыпи их подозрительность, и незаметно заражай всех и вся вокруг себя своею чумою. Это, брат, рецепт верный!.. И подумай-ка сам, если бы по всем-то ведомствам да сидело бы на верхах и под верхами хоть пятьдесят процентов «наших», «своих», – го-го, що б воно було!.. Да мы бы, брат, в какой-нибудь один-другой десяток лет тишком-молчком так обработали бы исподволь и незаметно нашу матушку Федору великую (так революционеры именовали Россию. – Авт.), довели бы ее до такого положения, что ей, як тш поповш кобильщ, а-ни тпрру, ни ну!.. Сама бы пошла на капитуляцию перед нами».
Описанный в «Торжестве Ваала» план воплотился в реальность. В феврале 1917 года решающую роль в свержении монархии сыграли не хулиганствующие толпы, а тайные революционеры, занимавшие к тому времени множество ответственных должностей. Всеволод Крестовский заметил опасность еще за двадцать пять лет до катастрофы. Заметил и прямо указал на нее. Но его не услышали. Что тут скажешь? Лучше всего подходят слова Пантелеймона Кулиша: «Ни одной Трои не было без своей Кассандры».
«Великий» шарлатан Павел Чубинский
Речь в этой главе пойдет об еще одном «великом украинце». Его чтут прежде всего как автора слов песни «Щэ нэ вмэрла Украина», ставшей ныне государственным гимном. А еще – как «выдающегося деятеля украинского национального возрождения», «исполина украинского духа», «борца за свободу украинского народа», «видного украинского ученого» и т. д. Присмотримся к этому историческому персонажу – Павлу Платоновичу Чубинскому.
Родился он 15 января 1839 года на хуторе, неподалеку от местечка Борисполь тогдашней Полтавской губернии, в семье мелкопоместного дворянина. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Там, в столице империи, и началась общественная деятельность Чубинского. Он примкнул к кружку радикально настроенной молодежи, нигилистам – весьма модному тогда направлению, но ничем особенным себя не проявил. Известность пришла к нему позже.
В 1861 году, по окончании университета, Павел Платонович приехал в Малороссию и принял участие в зарождавшемся украинофильском движении. Это не являлось переменой взглядов. И нигилисты, и украинофилы стремились к разрушению Российской империи. В таковом стремлении Чубинский был последователен в течение всей сознательной жизни.
Примечательно другое. Новоявленный украинофил не являлся украинофилом по сути. Он не любил соплеменников, высказывал резкое недовольство ими. Дело в том, что малорусы, в своем большинстве, не горели желанием бунтовать, не хотели отделяться от России. За это Павел Платонович обзывал их «пропащей нацией». Одно время он носился с планом переженить малорусов на еврейках, чтобы родилось новое поколение, более энергичное, более способное к борьбе и уж точно не связанное с великорусами. Но ждать, пока такое поколение вырастет, Чубинский не собирался. И принялся «будить национальную сознательность» в малорусском населении иным способом.
Тактику он избрал своеобразную. Переодевался в крестьянскую одежду и с несколькими приятелями (наряженными так же) шел в народ, устраивать попойки с мужиками. Каждое застолье сопровождалось распеванием неприличных песен, а вместе с ними и политических куплетов, специально для подобных случаев сочиняемых революционными пропагандистами. Затем Павел Платонович и его единомышленники затевали «вольнодумные» разговоры, стараясь вовлечь в беседу сельских тружеников.
Сложно сказать, чего тут было больше – намерения достучаться до простонародья или обыкновенной склонности к выпивке. Во всяком случае, пьянствовали и вольнодумствовали члены кружка Чубинского не только с крестьянами. Без посторонних, в своей компании это получалось у них еще лучше.
Во время одной из таких пьянок-гулянок и родилась известная впоследствии «Щэ нэ вмэрла…». В тот раз украинофилы застольничали с сербскими студентами. Сербы затянули свою песню о свободе. Павлу Платоновичу песня понравилась, вызвала желание подражать. Находясь уже в изрядном подпитии, он стал сочинять нечто похожее, но про Украину. Кое-что позаимствовал у сербов. Что-то взял из слышанной ранее знаменитой песни «Еще Польска не згинела». Сам придумал несколько фраз. Упомянул о «поганых москалях», угнетающих его родной край. Добавил имена малорусских исторических деятелей (Богдана Хмельницкого, Тараса Трясило, Наливайко и др.). И дело сделано!
Существует версия, что творил новое произведение Павел Платонович не один – прочие собутыльники помогали. Но слава автора досталась потом исключительно ему. А текст в дальнейшем дорабатывали неоднократно, что в общем-то неудивительно – вряд ли, упражняясь на пьяную голову в стихосложении, Чубинский предполагал, что создает будущий государственный гимн.
Возвращаясь же к пропагандистской деятельности нашего «героя», нужно заметить, что одобрялась она далеко не всеми украинофилами. «Чубинский – дурак, – писал, например, литератор Анатолий Свидницкий этнографу Петру Ефименко. – Лишь языком ляпает, а дела – из птицы молока. Всех поднял против себя… Часто на хуторе бывал у себя под Борисполем и водит из Борисполя шлюх, да еще и ругается, если кто скажет, что плохо поступает». Однако Павел Платонович на критику внимания не обращал, продолжая в том же духе.
Закончилось все внезапно. До поры до времени крестьяне снисходительно смотрели на чудачества переодетого барина. Вероятно, они считали его не совсем нормальным и старались не вступать в спор. Чубинский же отсутствие возражений на свои крамольные речи воспринимал как молчаливое согласие. А потому смелел в разговорах все более. И однажды преступил черту.
Когда до мужиков дошло, что гость подбивает их выступить против царя, они без долгих рассуждений схватили «оратора» и тут же выпороли. Скандал разразился немалый: крестьяне высекли дворянина. Полиция начала разбирательство. Тут и выяснилась вся подноготная «хождений» Павла Платоновича по окрестным селам. Помимо прочего, было установлено, что один из пропагандистских «туров» он организовал под предлогом паломничества на могилу Тараса Шевченко. В лежащих на пути на Тарасову гору населенных пунктах Чубинский энергично занимался подстрекательством.
И как ни пытался теперь Павел Платонович доказать свою «верноподданность» (даже организовал публичный молебен о здравии государя императора), было поздно – избежать наказания не удалось. Осенью 1862 года Чубинского выслали из Малороссии.
Впрочем, ему повезло. Выслали Павла Платоновича не в какую-нибудь Сибирь, а в Архангельскую губернию, где губернаторствовал Николай Арендаренко – его крестный отец.
Ну как не порадеть родному человечку? Начальник губернии пристроил крестника на работу судебным следователем. Удивительное занятие для политического ссыльного, но таковой была Российская империя, слишком уж милосердная к врагам.
Позднее Павел Платонович занимал должность секретаря Архангельского статистического комитета, возглавлял редакцию неофициальной части газеты «Архангельские губернские ведомости». Еще позже стал старшим чиновником для особых поручений при губернаторе. Арендаренко в Архангельске уже не было, но его преемники продолжали покровительствовать Чубинскому.
А сам Павел Платонович неустанно вел борьбу за собственное освобождение. Между прочим, за помощью он обратился к «поганым москалям» – старым петербургским знакомым. Уверял, что страдает безвинно. Оказался, дескать, жертвой клеветы. Утверждал, будто сослан за ношение простонародного костюма и поездку на могилу Шевченко. Тут же делано недоумевал: «Какая же в этом вина?»
«Москали» приняли судьбу несчастного близко к сердцу, взялись хлопотать за него. Но результат не мог быть быстрым. Пока суть да дело, Чубинский выпросил себе другую помощь – денежную. С такой просьбой он обратился в Литературный фонд, организованный для поддержки нуждающихся литераторов. Примечательная деталь. На тот момент литературное достояние Павла Платоновича состояло из одного (!) опубликованного стихотворения. Этого оказалось достаточно, чтобы назваться поэтом и попросить денег. И деньги (150 рублей серебром) ему, как «литератору», таки дали!
«Ларчик» открывался просто. В Литературном фонде всем распоряжались «прогрессивные» деятели, выпестованные Николаем Чернышевским. Они готовы были объявить гением любого противника царского режима. И Чубинский воспользовался ситуацией.
А вот освобождения из ссылки пришлось ждать дольше, добиваться его окольными путями. Сначала Павла Платоновича приняли в Императорское Русское географическое общество (ИРГО). Затем, уже как члена этой организации, включили в Комиссию по изучению Печорского края. Надо полагать, трудился там Чубинский добросовестно, за что и был награжден серебряной медалью ИРГО. Его вызвали в Петербург для отчета о проделанной работе. Назад в Архангельск Павел Платонович уже не поехал.
Оставалось добиться разрешения на возвращение в Малороссию. Тут снова пригодилось ИРГО. Общество поставило Чубинского во главе научной экспедиции в Юго-Западный край (Правобережную Малороссию). В 1869 году Чубинский отбыл на родину.
Руководство указанной экспедицией считается главной заслугой Чубинского перед наукой. Собранные материалы составили семь томов. Выглядело все очень солидно. В Петербурге Павла Платоновича расхваливали на все лады. ИРГО наградило его золотой медалью. Императорская Академия наук присудила Уваровскую премию.
В Малороссии, где об экспедиции знали лучше, восторгов было значительно меньше. «Одним из величайших шарлатанов» назвал Чубинского крупный ученый, председатель киевской Временной комиссии для разбора древних актов Михаил Юзефович. Можно было бы заподозрить его в предвзятости (Юзефович был идейным противником украинофилов), но аналогичным образом оценил труды экспедиции другой ученый, один из лидеров украинофильского движения Михаил Драгоманов: «Бездна шарлатанства». Правда, оценку эту он дал в узком кругу, не вынося сор из избы.
О том, что участники экспедиции фальсифицировали полученные данные, свидетельствовал (но опять же только в частном письме) еще один украинский деятель, писатель Иван Нечуй-Левицкий. В 1920-х годах к тому же выводу о допущенных подтасовках пришли украинские исследователи (вновь-таки из числа «национально сознательных», то есть не испытывавших к Чубинскому политической антипатии).
Все было объяснимо. Экспедиция являлась для Павла Платоновича лишь прикрытием. Главная цель, которую он ставил перед собой, доказать, что малорусы – самостоятельная нация, отличная от русской. Потому и прибегал к нечестным методам. Ученым же Чубинский вообще не являлся. Для плодотворной научной деятельности ему не хватало ни знаний, ни способности к исследовательской работе, ни (это, пожалуй, самое важное) стремления к истине. А вот политиком, хитрым, изворотливым, он был настоящим.
Точно так же политическим, а не научным центром являлся организованный Павлом Платоновичем в 1873 году Юго-Западный отдел ИРГО. По позднейшим признаниям украинофилов, их забавляла возможность вести подрывную деятельность под самым носом у генерал-губернатора. Занимавший этот пост Александр Дондуков-Корсаков был буквально убаюкан разглагольствованиями членов Отдела о научных интересах, а заодно обильными славословиями в свой адрес, которые старательно расточались на официальных заседаниях. Помимо тех заседаний, наполнившие отдел активисты украинофильства делали иную работу. Но сколько веревочке ни виться, конец все равно будет.
В 1876 году по приказу центральной власти отдел все-таки закрыли. А Чубинского снова выслали из Малороссии.
Очутился он в… Петербурге. Так называемый Эмский указ, предусматривавший закрытие отдела и высылку Чубинского как его фактического руководителя, трактуется сегодня как ужасный по своей жестокости запретительный акт. Между тем наглядное проявление сей «жестокости» можно наблюдать на судьбе высланного.
Павел Платонович устроился на работу в Министерство путей сообщения. Столичное общество было в то время захлестнуто либеральными настроениями. «Репрессированного» украинофила жалели, ему сочувствовали. Сам министр взял Чубинского под покровительство. В стаж государственной службы ему зачли годы пребывания в экспедиции ИРГО. Уже через восемь месяцев после начала работы в министерстве присвоили гражданский чин коллежского советника (соответствовавший званию армейского полковника). Еще через три месяца, в марте 1878 года, повысили до статского советника. Таким образом, Павел Платонович стал гражданским генералом и мог благополучно делать карьеру дальше. Но не все в этой жизни зависит от людей.
Почти одновременно с производством в статские советники у Чубинского случился инсульт, частично парализовавший правую половину тела. Состояние больного усугублялось последствиями недолеченного сифилиса, перенесенного украинским деятелем в молодости. Бедняге пришлось выйти на пенсию, размер которой более чем в четыре раза превышал положенный по закону. На сей счет министр лично ходатайствовал перед императором, и Александр II дал согласие.
Естественно, Павлу Платоновичу разрешили вернуться на родину. Врачи уверяли, что климат Малороссии благоприятно скажется на его здоровье. Но в 1880 году случился новый инсульт. Чубинский впал в слабоумие. Смерть в январе 1884 года явилась для него концом уже не жизни, а существования.
Таков был этот «великий украинец». Являлся ли он великим на самом деле? Выше приведены факты. А выводы пусть каждый делает самостоятельно.
Башибузук революции Дмитрий Лизогуб
«Дмитрий Андреевич, вставайте! Пора» – этими словами начинался мини-спектакль, коротенькая сценка, которую одно время часто передавали по Первому (общенациональному) каналу Украинского радио. Тюремный надзиратель будит заключенного Дмитрия Лизогуба. Будит, чтобы вести его на казнь. В то воспроизводимое в спектакле августовское утро 1879 года по приговору военного суда Лизогуба вместе с двумя сообщниками повесили в Одессе.
Далее в радиосценке повествовалось, что русское общество было потрясено несправедливым и жестоким приговором. Потрясено, ибо вся вина Дмитрия Андреевича заключалась якобы лишь в том, что принадлежащее ему огромное состояние Лизогуб пожертвовал в пользу своего народа. Но так ли все было на самом деле? Наверное, имеет смысл поговорить о случившемся подробнее.
«Денежный мешок» террористов
Дмитрий Лизогуб родился 29 июля 1850 (по другим сведениям – 1849) года. Он принадлежал к старинному казацкому роду, многие представители которого оставили свой след в истории Малороссии. Не были в этом отношении исключением и отец Дмитрия, и его младший брат. Первый – Андрей Иванович – был известен как богатый помещик-либерал, приятель Тараса Шевченко. Второй – Федор Андреевич – являлся крупным общественным деятелем дореволюционной России, а впоследствии, при гетмане Павле Скоропадском, занимал пост премьер-министра.
Что же касается Дмитрия Андреевича, то он проявил себя на ином поприще – стал революционером. И не просто революционером, а фанатиком революционной идеи. Будучи чрезвычайно состоятельным человеком (от отца он унаследовал богатейшие земельные владения), Лизогуб жил в крайней бедности, отказывая себе в самом необходимом. Экономил на одежде и еде. Чтобы не тратиться на извозчика, готов был ходить пешком из одного конца Санкт-Петербурга в другой. (По этому поводу знакомые сравнивали его с Плюшкиным.) Все доходы от помещичьих имений Дмитрий Андреевич отдавал на революционную деятельность. Сначала на пропаганду, затем на террор. На деньги Лизогуба готовились и осуществлялись убийства чиновников, жандармов, полицейских, а также тех, кого революционеры подозревали в доносительстве. Покушение на товарища (заместителя) прокурора Киевского окружного суда Михаила Котляревского. Убийство адъютанта киевского жандармского управления Густава Гейкинга. Убийство харьковского генерал-губернатора Дмитрия Кропоткина. Наконец, подготовка покушения на Александра II. Эти и многие другие преступления финансово обеспечивал Дмитрий Лизогуб. (Такая вот «работа» именуется в наше время на Украинском радио «жертвованием» в пользу своего народа.) Даже после ареста он ухитрялся посылать из тюрьмы своему управляющему Владимиру Дриго записки с соответствующими распоряжениями.
Пользуясь мощной денежной поддержкой, революционеры увеличивали размах своей «деятельности».
Кровавые волны террора захлестнули Россию. При этом гибли не только «слуги самодержавия». Если на пути убийц случайно оказывались простые люди – крестьяне, рабочие, студенты, – беспощадно расправлялись и с ними – «в целях революционной самообороны». Вероятно, не зря современники называли борцов с царизмом российскими башибузуками. (Только что закончилась Русско-турецкая война, и рассказы о бесчинствах башибузуков, солдат турецких иррегулярных войск, уничтожавших мирное христианское население, были памятны в русском обществе.)
Справедливости ради следует отметить, что Дмитрий Андреевич лично участия в терактах не принимал. Его берегли. Революционеры опасались лишиться источника финансирования, в случае если Лизогуба схватит полиция. И может быть, именно поэтому, не сталкиваясь со смертью лицом к лицу, не видя, как, обливаясь кровью, падают застреленные или зарезанные люди, он требовал еще большего усиления террора. Дмитрий Андреевич являлся не только «спонсором», но и инициатором ряда политических преступлений.
Его кровожадность ярко проявилась при подготовке к покушению на Михаила Котляревского. Убить прокурора собирались за то, что тот, как утверждали слухи, во время следствия издевался над двумя студентками и приказал тюремщикам раздеть их донага. Однако буквально накануне «акции» террористы неожиданно узнали, что вся история с раздеванием – вымысел. Не было никаких издевательств, да и вообще делом этих студенток занимался другой прокурор. И все-таки Котляревского решили убить. Так рассудил Лизогуб. Дескать, если прокурор не виноват в этом случае, значит, виноват в чем-нибудь другом. А если не виноват, то будет виноват – должность у него такая. Доказательства тут искать незачем.
Приговаривая незнакомого человека к смерти, Дмитрий Андреевич не колебался. Между тем решение это сыграло злую шутку с ним самим.
Возмездие
«Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». Запечатленные в Евангелии, эти слова Иисуса Христа должен помнить каждый христианин. Но убежденный атеист Лизогуб ими пренебрег. А напрасно…
Его арестовали через несколько месяцев. Отдали под суд. Судьи же не стали искать безупречных доказательств вины Дмитрия Андреевича. Обвинение против него строилось только на информации, полученной агентурным путем. Суди Лизогуба суд присяжных, жандармам пришлось бы выставить своих агентов в качестве свидетелей (то есть рассекретить их) либо отказаться от попыток осудить террориста. Но дело рассматривал военный суд. Суд, который удовлетворился донесениями неназванной агентуры. (И как потом выяснилось, поступил правильно – донесения были точными.) Подсудимого приговорили к смертной казни через повешение.
Говорят, на суде он держался вызывающе. Был уверен: доказательств против него нет. Когда услышал приговор – испытал шок, испугался. Но было уже поздно. Через день временный одесский генерал-губернатор Эдуард Тотлебен (тот самый, герой Крымской войны) утвердил судебное решение. Еще через день приговор привели в исполнение. Дмитрия Андреевича повесили на Скаковом поле, возле скотобойни. В какой-то мере символично. Так закончился его жизненный путь.
И еще одно. В этой главе ничего не сказано о личной жизни Лизогуба. Дело в том, что таковой у него не было. Дожив почти до тридцати лет, Дмитрий Андреевич ни разу не вступал в интимные отношения с противоположным полом. «Лизогуб не любил ни одной женщины, и его ни одна женщина не любила», – писала подпольная газета «Народная воля». Писала с одобрением. Мол, между любовью и революцией Дмитрий Андреевич выбрал последнюю, «безраздельно отдавшись одной страсти высшего порядка».
Не исключено, впрочем, что отсутствие женщин в жизни Лизогуба объяснялось не только его политическими убеждениями. Уже упоминавшийся Владимир Дриго позднее написал довольно откровенную записку (исповедь) о своих отношениях с Дмитрием Андреевичем, охарактеризовав их как «любовь мужчины к мужчине» и даже «гораздо больше». Будь таковая исповедь написана нашим современником, ее следовало бы понимать однозначно. Но признание сделано в ХІХ веке. Тогда в вышеприведенные слова могли вкладывать и какой-то иной смысл. Правда, некоторые другие детали жизни Лизогуба также дают основание говорить о его нетрадиционной ориентации. Но прямых указаний на этот счет не имеется. Не имеется, по крайней мере, в опубликованных материалах.
Тем не менее в подробности жизни Дмитрия Андреевича историки предпочитали не углубляться. Что-то там их не устраивало. Хотя в советское время о революционерах писали много и, как правило, в восторженном тоне, но к Лизогубу это не относилось. Нет, его не замалчивали. В книгах по истории революционного движения фамилию Дмитрия Андреевича упоминали среди прочих. Нашлось для него место и в энциклопедиях. Однако, кроме этих упоминаний и кратких биографических справок, о нем не написано ни одной монографии, ни одной научной статьи. Небольшая и, надо признать, талантливая повесть Юрия Давыдова, вышедшая в серии «Пламенные революционеры», – вот и вся советская литература о Лизогубе.
Подлинная известность пришла к нему только теперь благодаря Украинскому радио. Что ж… У каждой эпохи свои герои.
Демон в рясе. Штрихи к биографии Георгия Гапона
9 января 1905 года… Кровавое воскресенье… Поп Гапон… Все это мы слышали с детства. В СССР каждый школьник мог рассказать о том, как, чтобы остановить надвигавшуюся революцию, царское правительство организовало расстрел рабочих, мирно шедших во главе со священником Георгием Гапоном (по совместительству – агентом охранки) для вручения Николаю II прошения о своих нуждах. Неясным, правда, оставалось, почему с революцией боролись столь оригинальным способом – стреляя не в бунтовщиков, а в «отсталых» (если пользоваться терминологией советских историков) религиозных рабочих, «по-детски веривших в доброго царя». Непонятным было и поведение Гапона после 9 января. Зачем «агенту охранки», успешно выполнившему задание, бежать за границу? Да еще куда! К эмигрантам-революционерам, которые, в свою очередь, вместо того чтобы расправиться с «полицейским провокатором», встретили его с распростертыми объятиями. Кем же на самом деле был Георгий Аполлонович Гапон?
Начало пути
Он родился 5 февраля 1870 года в селе Беляки Кобеляцкого уезда Полтавской губернии. Отец будущего «героя 9 января», зажиточный крестьянин, хотел видеть сына священником. И когда пришел срок, определил его на учебу в Полтавское духовное училище. Причина такого выбора заключалась вовсе не в религиозности родителя, а, как утверждал сам Гапон, в материальном расчете, выражавшемся поговоркой: «Поп – золотой сноп».
Вот только Георгия перспектива стать «золотым снопом» особо не прельщала. Несмотря на природные способности, прилежанием в учебе он не блистал, рос дерзким, непослушным, водил дружбу с городскими босяками, общение с которыми помогало самоутвердиться и заработать авторитет среди одноклассников. К тому же во время пребывания в училище, а затем и в семинарии крестьянский сын попал под влияние сектантов-духоборов, свивших в Полтаве тайное гнездышко, и заканчивал обучение убежденным противником церкви и поддерживающей ее государственной власти. Идти по стезе служения Богу он не желал по причине принципиального несогласия с православным вероучением и собирался поступать в университет. Но человек предполагает…
Дерзость бурсака, его приятельство с криминальными элементами, частые пропуски занятий были по достоинству «оценены» учебным начальством. Выпускной аттестат Гапон получил с отметкой о плохом поведении, что, по тогдашним правилам, закрывало путь не только в университет, но и в любое другое высшее учебное заведение. Несостоявшийся студент был в отчаянии. Пылая жаждой мести, он даже пытался с помощью знакомых уголовников организовать убийство инспектора семинарии, но приехавший в город отец предотвратил преступление.
На мечтах об университете можно было ставить крест. Но и в село возвращаться не хотелось. Нелегкий крестьянский труд выглядел малопривлекательно. Чтобы заработать на жизнь в городе, выпускник семинарии стал давать уроки детям полтавских обывателей.
В одном из домов он познакомился с купеческой дочерью, ставшей впоследствии его женой. Девица оказалась не только симпатичной внешне, но и духовно близкой Георгию. То есть исповедующей «прогрессивные» взгляды. Она объяснила молодому человеку, как удобно и выгодно вести пропаганду, выступая перед народом в обличье православного батюшки. «Это меня убедило, и я решил сделаться священником, а она решилась выйти за меня замуж», – писал Гапон в воспоминаниях.
Правда, со свадьбой поначалу возникли проблемы. Мать невесты ни в какую не соглашалась отдать ее за сомнительную личность, каковой ей казался избранник дочери. Однако не по годам ушлый кандидат в зятья нашел выход. Он обратился за содействием к полтавскому епископу Иллариону. Поплакался на судьбу, высказал «раскаяние» в прежних заблуждениях, объявил о намерении стать священником, а в конце беседы доверил владыке «сердечную тайну». Добродушный архиерей, искренне радуясь за «исправившегося» грешника, взялся хлопотать о нем перед неприступной купчихой. Согласие было получено, и вскоре Гапон с возлюбленной встали под венец.
Для молодых началась новая, семейная жизнь. Появились новые заботы. У супругов родилась дочь, потом сын. Революционные идеалы отошли на второй план.
Успешной была и церковная карьера Гапона. Покровительствуемый епископом, он устроился дьячком в один из храмов, а через год был рукоположен в священники. Пастырские обязанности новоявленный отец Георгий выполнял с удовольствием. Ему льстило, что прихожане (а среди них были люди разного возраста и общественного положения) испрашивали у него благословения, раскрывали на исповеди самое сокровенное, почтительно выслушивали от молодого батюшки советы. «Мне нравилось мое положение духовного наставника», – откровенничал он позднее.
Может, так и прожил бы Георгий Аполлонович тихую жизнь провинциального священника, если бы судьба не уготовила ему сокрушительный удар. Тяжело заболевает и умирает жена. Рушится надежда на семейное счастье. Вдовец вне себя от горя. Он близок к умопомешательству. Но сильная воля помогла справиться с бедой. Чтобы не оставаться в Полтаве, где все напоминало об умершей, Гапон решает уехать из города. Он выразил желание обучаться в Санкт-Петербургской духовной академии. И владыка Илларион, тронутый несчастьем своего подопечного, ходатайствует о разрешении ему поступать туда без предъявления аттестата. Просьбу епископа уважили. Оставив детей на попечение тещи, отец Георгий едет в столицу, где, успешно сдав экзамены, становится студентом.
Проучился он, однако, недолго. Заниматься в академии оказалось сложновато, да и с однокурсниками отношения не заладились. Гапон слишком любил устраиваться за чужой счет и для достижения комфорта не гнушался ничем, включая доносы. А это мало кому нравилось. Очень скоро начались конфликты с товарищами по учебе, и, не желая накалять обстановку, Георгий Аполлонович объявляет себя больным, берет отпуск и уезжает в Крым «поправлять здоровье».
Период этого «лечения» – самый малоизученный в биографии «героя 9 января». Прожил он в Крыму около года. Пользовался гостеприимством монахов Георгиевского монастыря (которых потом облил грязью в своих мемуарах), а заодно наладил связь с местными сектантами. С кем конкретно встречался «выздоравливающий», о чем говорил – так и осталось неизвестным. Но вернулся он с юга с твердым намерением участвовать в революционной борьбе.
А в Петербурге его ждала удача. Вняв давним просьбам, епархиальное начальство предоставило ему место священника в церкви при детском приюте Синего креста. Это давало возможность поселиться за стенами академии. Но, заняв комнату в приюте, Гапон откровенно пренебрегает своими обязанностями. Как-то он даже отказался исповедовать умирающего от тифа больного, мотивируя свой поступок боязнью заразиться.
Зато неудержимо влекло отца Георгия в петербургские трущобы, места скопления уголовников. Влечение объяснялось просто: согласно популярным тогда анархистским теориям, именно криминальные элементы должны были стать ударной силой будущей революции.
Поп разворачивает кипучую деятельность, заводит обширные знакомства среди преступников. Одновременно он составляет и рассылает во властные структуры проекты устройства работных домов для босяков, призванные облагодетельствовать обитателей столичного «дна». Гапон уже видел себя в роли защитника обездоленных. Но защита скоро понадобилась ему самому.
Юные воспитанницы приюта, находящиеся совсем рядом, стали неодолимым соблазном для молодого еще священника-вдовца, обреченного, по церковным канонам, на безбрачие. Не в силах справиться с искушением, отец Георгий настойчиво приглашает девушек к себе в комнату, якобы для переписки проектов работных домов, и в конце концов совращает одну из них.
История получила огласку. Разразился скандал. Попа с позором лишили места, выгнали из приюта, исключили из академии. Вдобавок ко всему выяснилось, что любвеобильный батюшка присвоил немалую сумму денег, собранных верующими на нужды церкви. Отцом Георгием заинтересовалась полиция. И вероятно, пришлось бы ему разделить судьбу тех, для кого составлял он свои проекты, но помощь пришла неожиданно.
Высокопоставленный покровитель
Личность Сергея Васильевича Зубатова до сих пор остается загадочной. Ярлык провокатора, творца так называемого «полицейского социализма», прочно прилепленный к нему советскими историками, не посчитали нужным снять и в постсоветские времена. На самом деле все было не так просто.
В юности Сергей Зубатов участвовал в революционном движении, примыкал к народникам, но, взятый в оборот жандармами, не выдержал психологического давления и дал согласие на сотрудничество с полицией. Этого своего поражения он так и не простил царскому режиму. Вынужденный совершить предательство соратников, он навсегда затаил ненависть к тем, кто принудил его к этому. Официально поступив на службу в охранку, достигнув там степеней известных, в душе Сергей Васильевич остался прежним бунтарем, жаждавшим революционной бури.
А бурей в конце прошлого века в России и не пахло. Мелким группкам социалистов было не под силу поднять массовое движение против самодержавия. Они явно нуждались в подмоге. И подмога явилась в полицейском мундире.
Под предлогом необходимости отвлечения пролетариев от противозаконной деятельности Зубатов выдвинул идею создания легальных рабочих организаций. Первый эксперимент поставили в Москве, где Сергей Васильевич занимал должность начальника охранного отделения. Субсидируемые охранкой лекции и вечера отдыха наряду с благонамеренными рабочими привлекали и неблагонамеренных, склонных к бунту. Опытным глазом Зубатов выявлял их, отбирал и начинал «работу». Потенциальные революционеры снабжались нелегальной литературой (якобы для ознакомления с враждебной идеологией), поддерживались материально и постепенно выдвигались на роль вожаков организации.
Сергей Васильевич рассчитывал постепенно охватить сетью своих обществ всю страну и в нужный момент поднять всероссийский бунт. Переведенный в октябре 1902 года в Петербург на должность начальника Особого отдела Департамента полиции, он сумел распространить действие эксперимента из Москвы на ряд других городов, в том числе и на столицу империи. Здесь-то обратил на себя внимание полицейского революционера автор проектов работных домов.
Зубатову не стоило большого труда уладить неприятности Гапона с законом. Он устроил проштрафившегося попа священником в пересыльной тюрьме. Для отца Георгия такое назначение было ценным вдвойне, ибо давало возможность оказывать специфические услуги друзьям-уголовникам. Благодарный Гапон стал ближайшим помощником Сергея Васильевича по созданию Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга. Но сотрудничеству двух авторитетов не суждено было длиться долго.
Слабым звеном в зубатовской системе было отсутствие доверия между главным руководителем и его подручными. Страшась разоблачения, Зубатов не решался открыться даже приближенным. Между тем все более наполнявшие рабочие общества революционеры (многие из которых стали таковыми именно благодаря Сергею Васильевичу) были уверены, что водят полицейского полковника за нос, и упорно не замечали в нем единомышленника. Они стремились быстрее использовать предоставленные возможности для организации выступлений, пока власть не одумалась. Преждевременные акции и сгубили хитроумный план. Волна проведенных зубатовцами летом 1903 года забастовок на юге России привела к разоблачению. Сергей Васильевич был уволен из МВД и отправлен в ссылку, а его «детища» одно за другим полиция стала закрывать.
Нависла угроза и над Гапоном. Министр внутренних дел Вячеслав Плеве приказал тщательно расследовать его деятельность. И не сносить бы попу головы, если бы Плеве не был вскоре убит террористами. Новый министр Петр Святополк-Мирский придерживался либеральных взглядов. Он прекратил следствие и разрешил отцу Георгию продолжать деятельность. С этого времени начался период наивысшего расцвета Собрания.
Оказавшись после удаления Зубатова фактическим руководителем организации (формально председателем числился один из рабочих), поп развернулся вовсю. Привыкшие верить человеку с крестом, простые труженики с интересом слушали его проповеди о Христовом учении, посещали концерты, лекции, вечера отдыха и охотно записывались в Собрание.
Тем временем Гапон налаживал связи с революционным подпольем, вел переговоры о закупке оружия. Вокруг него складывался тесный кружок борцов с самодержавием, своеобразный «штаб», разрабатывавший планы свержения царского режима. Здесь «батюшка» не стеснялся, откровенно говорил о своем неверии в Бога, ненависти к царю, насмехался над догматами церкви.
К осени 1904 года моральный облик отца Георгия вырисовывался весьма неприглядным. Пьяные гулянки, во время которых подвыпивший поп, задрав рясу, участвовал в похабных плясках, обильно «удобряя» свою речь матерщиной. Связь с некоторыми престарелыми вдовами, от которых Гапон не брезговал брать деньги («Они сделают для меня все, что захочу», – хвастался он собутыльникам). Богохульство. Но от рядовых членов Собрания все это скрыто. Для них отец Георгий по-прежнему оставался благочестивым священником.
Видимо, к тому же времени относятся и контакты попа с представителями японской разведки (по крайней мере, именно тогда руководитель Собрания слишком уж пристальное внимание стал уделять заводам, выполнявшим военные заказы правительства). Воюющая с Россией Япония выделяла огромные средства на поддержку революционного движения. А деньги Гапону просто необходимы для организации вооруженного выступления. «Штаб» взял курс на восстание. Вопрос стоял только о его технической подготовке и выборе подходящего момента.
Кровавое воскресенье
Момент настал, когда в конце декабря в Петербург пришло известие о падении крепости Порт-Артур. Неудачный ход войны вызвал недовольство в обществе, и новое поражение должно было только усилить негодование.
Поводом для начала действий выбрали увольнение за пьянство и лень одного из рабочих Путиловского завода. И хотя выгнали забулдыгу еще три недели назад, и, без сомнения, справедливо, гапоновцы попытались поднять волну возмущения. Пущенный в народе слух гласил, что уволен не один, а четверо рабочих, и не за пьянство и лень, а за членство в Собрании. Отец Георгий призвал к забастовке протеста. Выяснилось, однако, что свое влияние на трудящийся люд он переоценил. С благоговением внимая проповедям о Христе, рабочие совсем иначе встретили зов к бунту. Явившиеся на предприятие гапоновские активисты натолкнулись на неожиданное сопротивление.
«Положение делалось неловкое, – вспоминал начальник одного из отделов Собрания Николай Петров. – Кого заставишь бросить работать – одеваться не идут, или оденутся – из мастерской не выгонишь. Некоторых чуть ли не силой приходилось всовывать в пальто, а некоторые постоят, одевшись, и опять раздеваются. Чувствовалось нехорошо, слезы навертывались на глаза, присыхал язык к гортани от уговоров и убеждений».
Выручили уголовники (вот когда пригодились попу прежние связи!). Сплоченные банды врывались на заводы и фабрики, беспощадно избивая всех, кто отказывался бастовать. Полиция не вмешивалась. Святополк-Мирский запретил своим подчиненным применять силу. Вирус измены уже начинал поражать правящий слой Российской империи. «Наверху» появились лица, прочно усвоившие критический взгляд на самодержавие и тайно желавшие революции. Министр внутренних дел был одним из них.
А «стимулированная» криминал-революционерами забастовка расширялась. За несколько дней она охватила более 100 тысяч человек. Но Гапон понимал, что торжествовать победу рано. Необходимо было поднять народ на вооруженную борьбу. Сделать это предполагалось, уговорив рабочих отправиться к Зимнему дворцу для подачи царю челобитной, а затем спровоцировать кровавые столкновения с полицией и войсками.
Следует отметить, что замысел не был оригинальным. В сознании православного человека царь – помазанник Божий, неповиновение ему – тяжкий грех. Поэтому вовлекать народ в мятежи возможно было на Руси только с помощью лжи. Иван Болотников вел крестьян на бой за «царя Дмитрия». Степан Разин поднимал казаков вызволять царя-батюшку, якобы плененного боярами. Емельян Пугачев сам выдал себя за императора Петра III. Декабристы выводили солдат из казарм за «законного наследника Константина». Народники разъезжали по селам с подложными «царскими» манифестами, «высочайше повелевавшими» крестьянам жечь помещичьи усадьбы. Так что разработанный Гапоном со товарищи план опирался на богатый исторический опыт. Новым было только то, что на этот раз обман совершался православным священником.
О самом Кровавом воскресенье написано немало. До середины 1930-х годов издавалось большое количество документов и воспоминаний очевидцев событий, в которых содержалось много интересного. Позднее, когда в исторической науке утвердилась концепция «Краткого курса истории ВКП(б)» о расстреле мирного шествия рабочих, бдительная цензура принялась старательно вычищать из литературы все подробности, позволяющие пролить свет на случившееся. Например, сведения о том, что в колонны направлявшихся ко дворцу празднично одетых рабочих, уверенных, что их ждет царь (так ведь говорил отец Георгий!), были заранее внедрены группы революционных боевиков.
Последние при приближении к воинским заставам открывали револьверную пальбу, швыряли в солдат камни и куски льда, выкрикивали антиправительственные лозунги, махали красными флагами (до тех пор тщательно скрываемыми от рабочих) – словом, делали все, чтобы спровоцировать войска на применение силы. Пролития крови они жаждали как манны небесной. «Убежден, что нас расстреляют, – говорил накануне событий Гапон одному из приближенных, – но за один завтрашний день благодаря расстрелу рабочий народ революционизируется так, как другим путем нет возможности это сделать и в десять лет».
Итог провокации – массовые беспорядки, 96 убитых, 333 раненых (революционная пропаганда приумножит затем эти цифры в несколько десятков раз) – вызвал бурный восторг среди революционеров. «Итак, началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренне и серьезно поздравляю, – писал жене «пролетарский гуманист» Максим Горький, имевший непосредственное отношение к организации случившегося 9 января. – Убитые – да, не смущают – история перекрашивается в новые цвета только кровью».
А что же Гапон? Он шел во главе колонны Нарвского отдела Собрания. Когда приблизились к солдатам, прокричал: «Вперед, товарищи! Свобода или смерть!» – и нырнул в ближайший сугроб. Он уже не видел, как бросились в атаку боевики, как был застрелен ими полицейский офицер (ставший первой жертвой того дня) и как, вызвав ответные выстрелы войска, революционеры разбегались, пытаясь подставить под пули растерявшихся рабочих.
Когда все стихло, поп благополучно поднялся, перелез через забор, с помощью своего соратника, эсера Петра Рутенберга, состриг заранее припасенными ножницами бороду и усы и, переодевшись в «штатское» (опять же заранее припасенное), отправился на квартиру к Горькому, где его уже ждали другие организаторы провокации.
Закат
Организаторы событий 9 января полагали, что ответственность за пролитую кровь удастся переложить на власти. Однако расчет не оправдался. Вопреки надеждам революционеров и позднейшим утверждениям советских историков вера в царя расстреляна не была. Петербургские рабочие сумели отличить грешное от праведного. Партийные агитаторы, явившиеся на следующий день подбивать народ к новым беспорядкам, нарвались на решительный отпор. Молва прямо обвиняла в случившемся «студентов и социалистов».
В этих условиях оставаться далее в России Гапон не рискнул – его разыскивали не только полицейские, но и рядовые члены Собрания, родственники и друзья погибших 9 января. По эсеровским каналам попа переправили в Швейцарию, где располагались центры российской революционной эмиграции. Тут бывшему отцу Георгию (постановлением Святейшего синода он был лишен духовного сана) оказали радушный прием. Эсеры, социал-демократы, анархисты жаждали познакомиться с «героем», наперебой приглашали в свои партии. Гапон купался в лучах славы.
Особенно понравился ему Владимир Ленин. Георгий Аполлонович отзывался о будущем «вожде мирового пролетариата» как о «хорошем и умном человеке». Симпатия была взаимной. Выступая на III съезде РСДРП, Ильич именовал нового знакомого не иначе как товарищем.
Но вот в ленинскую партию «товарищ» почему-то не вступил, предпочтя ей социал-революционеров. Впрочем, не задержался он долго и там. Не без основания полагая, что заслуги перед революцией дают ему право на первенство, Гапон рвался руководить. Но все начальственные должности как у эсеров, так и в других партиях были давно разобраны.
Помыкавшись несколько месяцев по Западной Европе, написав мемуары, снарядив в охваченную смутой Россию пароход с оружием для революционеров (благополучно севший на мель у берегов Финляндии), изведя груду бумаги на составление воззваний, Георгий Аполлонович после манифеста 17 октября 1905 года и амнистии политическим преступникам решается вернуться в Петербург.
Но и там он оказался никому не нужен. Бывшие активисты Собрания разбрелись по революционным партиям, а появиться перед широкой рабочей аудиторией, чтобы попытаться вновь создать массовую организацию, Гапон не рискнул. Он сконцентрировал усилия на подготовке террористических актов против чинов полиции, рассчитывая, что несколько удачных покушений вернут ему былой авторитет.
Однако все надежды оказались тщетны. Вожди революции не собирались делиться с расстригой ни влиянием, ни ожидавшимися лаврами победителей царизма. Чтобы устранить путающегося под ногами конкурента, они распространили слух о сотрудничестве Георгия Аполлоновича с царской охранкой.
Гапон не остался в долгу, намекнув, что может раскрыть закулисную сторону деятельности революционных партий, обнаружить перед всеми реальных заправил революционного движения. Он даже козырнул некими документами, разоблачающими тайны российской революции.
Знал бывший поп действительно немало – в период кратковременных теплых отношений с партийными вожаками последние ничего от него не скрывали. Это-то и погубило Георгия Аполлоновича. Церемониться с ним не стали. Из-за границы пришел приказ о ликвидации много знающего шантажиста. Гапона выманили за город, якобы для переговоров, и в небольшом дачном домике тихонько придушили. Случилось это 28 марта 1906 года.
Говорят, последние дни перед смертью он был мрачен, подавлен, чувствовал приближение конца. Компрометирующие лидеров революции документы передал своему адвокату Сергею Марголину с поручением опубликовать их в западноевропейской прессе, если с самим Гапоном что-то случится. Может быть, Георгий Аполлонович таким шагом думал обезопасить себя, но спасти его уже ничто не могло.
Разлагающийся труп бывшего священника обнаружили лишь в конце апреля. Сразу после похорон Марголин выехал за границу. Собирался ли он продать гапоновские материалы газетчикам или (что более вероятно) вступил в торг с теми, кого компромат касался прежде всего, достоверно установить уже невозможно. Через несколько дней адвоката нашли мертвым в гостиничном номере. Никаких бумаг при нем не оказалось.
Жертва матери. Малоизвестная Леся Украинка
Эту поэтессу давно возвели в ранг великих. Ее гениальность, кажется, не оспаривается никем. Даже современная «Большая энциклопедия русского народа», издание вроде бы солидное, относит Лесю Украинку к числу наиболее выдающихся малороссийских писателей, а ее гражданскую лирику считает «шедевром». В Украине же «нашу Лесю» именуют «красой и гордостью нации», «духовным вождем украинской интеллигенции рубежа позапрошлого и прошлого столетий», «настоящей дочкой Прометея» и т. п. Хор ценителей и хвалителей звучит достаточно громко. В частных беседах кое-кто ставит ее выше самого Тараса Шевченко. Хотя тут, наверное, главную роль играет не столько преклонение перед творениями «гения в юбке», сколько желание пококетничать собственной оригинальностью. Вот, дескать, все отдают первое место в украинской литературе «батьке Тарасу», а я – Лесе.
Одним словом, в современной Украине царит «лесемания». Лично я от этого слегка «пострадал». В одну из моих газетных статей сотрудники редакции, руководствуясь конечно же наилучшими побуждениями, без согласования со мной внесли маленькую «поправку», назвав Лесю Украинку «великой поэтессой» (в авторском тексте стояло: «известная поэтесса»). Мысль о том, что кто-то может не признавать эту даму великой, им в голову не пришла.
Но нет худа без добра. Упомянутый случай побудил меня более пристально взглянуть на жизнь и творчество этой персоны, попробовать осветить ее объективно, без заранее заданной цели восхваления или очернения. Насколько мне это удалось – судить читателям.
Нелюбимая дочь
Лариса Петровна Косач (таковы настоящие имя и фамилия поэтессы) родилась 13 февраля 1871 года в Звягеле (Новоград-Волынском), уездном центре Волынской губернии. Ее отец – Петр Антонович – занимал значительную в масштабах уезда должность председателя мирового съезда. Судебной реформой, начатой в Российской империи в 1864 году, для рассмотрения незначительных гражданских исков (до 500 рублей) и мелких уголовных преступлений учреждался особый мировой суд с упрощенным порядком судопроизводства. Каждый уезд делился на несколько мировых участков с мировыми судьями во главе. Эти судьи составляли уездный мировой съезд, в обязанности которого входило утверждение решений мировых судов, а также рассмотрение жалоб на их приговоры. Во главе такой судебной инстанции в Звягельском уезде стоял Петр Косач.
Ограниченный, но добрый человек, он искренне любил дочь и на протяжении своей последующей жизни как мог заботился о ней. Однако если в отцовской любви и заботе будущая поэтесса недостатка не испытывала, то с матерью была другая история.
Ольга Петровна Косач (урожденная Драгоманова), более известная под псевдонимом Олена Пчилка, превозносится сегодня в Украине как «выдающийся педагог», «великая мать великой дочери», мудрая, заботливая, любящая хранительница (берегиня) семейного очага и т. д. Ее педагогический опыт предлагают использовать нынешним родителям.
В действительности же чуть ли не иконописный образ «великой воспитательницы» бесконечно далек от реальности. Взаимоотношения Пчилки, особы взбалмошной, психически не совсем здоровой (врачи поставили ей диагноз: истерия), со знаменитой дочкой иллюстрируют это в полной мере.
Лариса оказалась для Ольги Петровны нежелательным ребенком. Мадам Косач не оправилась еще от рождения в 1869 году первенца – Михаила. Вторая беременность протекала тяжело, и, наверное, мать невзлюбила дитя еще до родов. К тому же кормить грудью новорожденную она не могла: пропало молоко.
Разрешившись от бремени, Ольга Петровна заявила, что чувствует себя плохо, и вскоре, оставив обоих детей на мужа, укатила на полгода за границу, поправлять здоровье. Петру Антоновичу пришлось брать отпуск и самостоятельно решать вопрос с искусственным питанием дочери (найти подходящую кормилицу не удалось), просиживать ночами у ее постели, нанимать няню. Он фактически заменил малютке мать и намучился с ней немало.
Лариса родилась очень слабой, болезненной. Вдобавок ко всему искусственное питание являлось тогда чем-то новым. Что и как делать – толком никто не знал. В результате девочка сильно маялась животом. Существовали серьезные опасения, что она не выживет. Но Петр Антонович выходил свое чадо.
А мадам Косач не жаловала Ларису и в дальнейшем. Она буквально третировала ребенка, в глаза называла девочку глупой, некрасивой, недотепой, недоразвитой. При этом «великая мать» противопоставляла нелюбимую дочь ее старшему брату, не переставая нахваливать последнего. От постоянных нелестных сравнений у сестры непроизвольно зародилась ненависть к Михаилу, чувство, которое она тщательно скрывала и старательно пыталась в себе задавить. Что же касается отношения к матери, то ее Лариса, несмотря ни на что, очень любила и жутко страдала от отсутствия взаимности.
Сердце мадам несколько смягчилось лишь тогда, когда Леся (так ее стали называть дома с пятилетнего возраста) дебютировала на литературном поприще. Произошло это в 1884 году. Благодаря знакомствам Ольги Петровны в писательской среде стихи девочки были опубликованы в галицком журнальчике «Зоря» и удостоились благосклонных откликов некоторых литераторов.
Успехи дочери (этот и последующие) мать целиком поставила в заслугу себе. Она гордилась Лесиной поэзией как личным достижением. «Не знаю, стали бы Леся и Михаил украинскими литераторами, если б не я? – писала Олена Пчилка спустя годы крупному галицкому литературоведу Омельяну Огоновскому. – Может, и стали, но скорее всего нет».
Справедливости ради нужно отметить, что появлением поэтессы Леси Украинки отечественная литература и в самом деле обязана прежде всего ее родительнице. Только роль, сыгранную тут Ольгой Петровной, трудно назвать положительной.
Мадам Косач упражнялась в сочинительстве сама и желала сделать писателями всех своих детей (кроме Михаила и Ларисы в семье были еще младшие – сестры Ольга, Оксана, Исидора и брат Николай). Михаил и Ольга даже печатались (опять же благодаря связям матери) под псевдонимами Мыхайло Обачный и Олеся Зирка, но литературной известности не приобрели. Остальные дети – тем более.
Лишь Лесины творческие потуги дали серьезные плоды. Потому что усилий она прилагала неизмеримо больше. Нелюбимая дочь упорно стремилась доказать матери, что не такая уж она, Леся, глупая и никчемная. А поскольку Ольга Петровна важное значение придавала литературным занятиям, девочка силилась проявить себя здесь. Чисто по-детски хотела она заслужить материнскую любовь, не понимая еще, что такое чувство, в отличие, скажем, от уважения или признательности, заслужить невозможно.
Родись Леся в нормальной семье, получи от матери ласку и заботу (то есть то, что другие, в том числе ее братья и сестры, получали, как правило, с момента появления на свет), может быть, никогда не стала бы она поэтессой. В лучшем случае в компании с Мыхайлом Обачным и Олесей Зиркой пополнила бы ряды третьесортных, теперь уже давно и заслуженно забытых литераторов. Но история сослагательного наклонения не знает. Случилось то, что случилось.
Упорство и настойчивость (унаследованные, между прочим, от матери) давали результат. Девушка усердно трудилась, кропая стих за стихом. Усилия не пропали даром. В бедной талантами провинциальной литературе проявить себя было не сложно. На Лесю обратили внимание украинские «национально сознательные» деятели. Слушавшая похвалы способностям дочери, Ольга Петровна постепенно улучшала отношение к ней, воспринимая добрые слова о Лесе как комплименты себе.
Еще больше Олена Пчилка стала ценить дочь после утраты любимца – Михаила. Напившись в общественной столовой несвежего кваса, он заболел дизентерией и через несколько дней скончался. («Умер как последний заср…ц!» – сказали бы циники.)
Мечтавшая о том, чтобы гордиться детьми (желание естественное для любой матери, но у безмерно тщеславной Пчилки принявшее гипертрофированные размеры), мадам Косач вынуждена была возложить упования на Лесю. Остальные дети никаких оснований для надежд в этом отношении не давали.
Материнское внимание наконец-то обернулось на отверженную. Безусловно, это был всего лишь суррогат родительской любви. Но, наверное, Леся радовалась и такому, явно запоздавшему проявлению чувств. Впрочем, все это будет потом. В детские же годы будущая знаменитость пережила немало неприятностей.
«Эксперимент огромного значения»
Неприятности были связаны не только с персонально плохим отношением Ольги Петровны. Существовал и другой, не менее важный фактор.
Мадам Косач являлась фанатичной служительницей того, что будет названо потом «украинской национальной идеей». Психологам (а может быть, психиатрам) предстоит еще дать оценку этому «феномену». После долговременной украинизаторской работы властей (советских и постсоветских) украинство представляется многим чем-то вполне нормальным, естественным. Во второй половине XIX века оно воспринималось по-другому – как дикость или, по крайней мере, странность. Некоторые малорусы, природные русские, составляющие вместе с великорусами и белорусами единую нацию, к удивлению окружающих (даже собственных родителей!), внезапно отрекались от своей национальности, от русского имени, от родного языка. Слово «манкурты» в то время известно не было, но именно оно лучше всего характеризует последователей нового учения. Они провозглашали малорусов самостоятельной, оторванной от русских корней нацией (как ее назвать, сразу не придумали, термин «украинцы» пустили в ход позже), сочиняли новый, демонстративно отличный от русского литературный язык и мечтали о расчленении исторической Руси, противопоставлении друг другу Малороссии и Великороссии.
Не без оснований можно говорить в связи с этим о польской интриге (движением за национальную обособленность малорусов первоначально руководили поляки), о тайных обществах, об особенностях общественно-политического развития России. Однако всего этого недостаточно, чтобы объяснить маниакальную настойчивость, с которой отдельные особи пытались вытравить из себя русскую природу. Вероятно, причина парадоксального поведения заключалась в каких-то повреждениях психики. Слишком уж украинство оказалось похоже на проявления шизофрении. С той только разницей, что, в отличие от шизофрении обычной, оно было заразным. Причем заражались им по своей воле (это уже позднее, при большевиках, заразу распространяли, не спрашивая ничьего желания).
Одной из добровольно заразившихся оказалась мадам Косач. Болезни она отдалась с радостью и, конечно, постаралась распространить ее на детей. Их Ольга Петровна прежде всего оградила от русского языка. Родной для самой Пчилки (доказательством чему служит ее переписка со своей матерью) и для ее мужа язык этот по прихоти мадам не должен был стать таковым для их отпрысков.
Задача стояла непростая. В уездных городах, тем более в Киеве, где часто проживали Косачи, семья пребывала в русскоязычном окружении. По-русски говорили родственники, соседи, друзья, знакомые. Это был язык повседневного общения культурного общества, наконец, государственный язык. Но трудностей Ольга Петровна не боялась.
Всем домашним, включая слуг, она строжайше запретила употреблять в присутствии детей русскую литературную речь. Общаться с малышами разрешалось исключительно на простонародном малорусском наречии (украинский литературный язык еще не был создан). Вторым пунктом домашней инструкции являлось запрещение учить детей «поповским суевериям». Будучи убежденной атеисткой, мадам возжелала отпрысков сделать такими же, в чем затем и преуспела. Только антирелигиозное воздействие сказалось не сразу. А вот языковые ограничения домочадцы ощутили немедленно. Наиболее чувствительно табу на русский язык ударило по формальному главе семейства. Петр Антонович других языков не знал, говорить по-простонародному не умел (хотя и пытался). Его общение с сыновьями и дочерьми свелось к минимуму. Но привыкший во всем повиноваться жене, он смирился без сопротивления, что Пчилка восприняла как должное.
Не смутило суровую мамашу и то, что ограждение детей от русского языка лишало их общения со сверстниками. До таких крайностей не доходили даже ее соратники. Почти все тогдашние последователи украинства (за редчайшими исключениями) оставались русскоязычными. Дети их, понятное дело, тоже были таковыми (малорусское наречие они изучали потом) и, следовательно, по мнению Ольги Петровны, не годились в товарищи ее чадам.
«Мне в Киеве хорошо, только не с кем играть, – будет жаловаться десятилетняя Леся в письме к бабушке, – потому что которые есть знакомые – или большие, или маленькие, или не хотят ходить ко мне». Не ведала она, что причина этой ее детской беды не в «не хотят ходить», а в капризе «великой матери».
Сей каприз удостоится потом всяческих похвал. «Вы дали Украине первый пример образованной семьи, в которой лелеется родной язык», – станут умиляться идейные вожди украинства Михаил Грушевский, Иван Франко и Владимир Гнатюк, сочиняя приветствие Олене Пчилке. Уже в нашу эпоху «национально сознательные» публицисты назовут его (каприз) «огромного значения педагогическим экспериментом». Правда, как справедливо заметит Оксана Забужко (современный литературовед из того же «национально сознательного» лагеря), вряд ли кто-либо из почитателей «педагогического таланта» Ольги Петровны захотел бы лично подвергнуться подобному эксперименту – «быть ребенком такой матери слишком большое и суровое пожизненное испытание».
Кстати сказать, однажды «эксперимент» чуть не сорвался. В очередной раз отправившись отдыхать за границу, мадам поручила детей попечению бабушки (своей матери) и двух теток (сестер мужа). Те же в отсутствие домашнего «цербера» позволили себе расслабиться и разговаривали при детях на родном русском языке.
Кроме того, они наняли новую няню, забыв проинструктировать ее в духе указаний «великой матери».
Когда последняя вернулась с курорта, то пришла в ужас. В лексиконе ее девочек и мальчика в обильном количестве появились слова из русского литературного языка, а няня научила маленьких «дурацким кацапским поговоркам» (выражение Пчилки).
С Ольгой Петровной случилась истерика. А придя в себя, она бросилась исправлять положение. «Неблагонадежную» няню немедленно рассчитали. Родственницы получили строгий выговор и были отстранены от дальнейшего воспитательного процесса. Детей же мадам Косач запроторила в глухое волынское село, где услышать литературную речь они просто не могли.
Русофобские всходы
Задаче ограждения юных членов семьи от русского языка было подчинено и их обучение. В начальную школу младшие Косачи не ходили, чтобы не подвергнуться «русификации». Мадам сама обучала их на малорусском наречии, выписав себе в помощь парочку «национально сознательных» студентов. Само собой разумеется, что русский язык, а также Закон Божий из курса домашнего образования исключили. «Опасным» учебным предметам детей выучивали в предподростковом возрасте, перед тем, как отправить их в гимназию. К тому времени языковая основа личности уже сформировывалась, русский язык не мог стать для будущих гимназистов родным, а официальный школьный аттестат все-таки был необходим, и скрепя сердце Ольга Петровна соглашалась отдавать сыновей и дочерей в государственные учебные заведения начиная с четвертого, пятого, а то и седьмого класса.
Только вот Лесе и здесь не повезло. В десять лет (то есть еще до достижения возраста, с которого «великая мать» разрешала идти в школу) девочка заболела туберкулезом – страшной и практически неизлечимой тогда болезнью. Некоторые биографы поэтессы полагают, что развитие недуга спровоцировали постоянные психические травмы, наносимые нелюбимой дочери Ольгой Петровной. Это предположение подтверждается выводами докторов о нервной первопричине Лесиного заболевания.
Но мадам своей вины не ощущала. Ужасный диагноз вызвал у нее очередной всплеск раздражения. В одном из частных писем «великая мать» даже пожалела, что отошел в прошлое спартанский обычай умерщвлять слабых детей в младенчестве.
О гимназии Лесе можно было забыть. Так и осталась она необразованной, что впоследствии не раз сказывалось на ее творчестве. Зато такой, во многом невежественной, она больше соответствовала материнским представлениям о настоящей украинской женщине. Леся выросла убежденной русофобкой. По-другому быть не могло.
Влияние Пчилки на мировоззрение дочери переоценить сложно. Оно было громадным. До некоторой степени русофобский настрой девушки смягчал дядя – Михаил Драгоманов, при всем своем радикализме зоологическим русоненавистником не являвшийся. Но только до некоторой степени (с племянницей он общался нерегулярно). Зерна же, посеянные в детской душе Ольгой Петровной, дали закономерные всходы.
Повзрослев, Леся могла бы осознать неправоту матери. Но для этого требовались знания, которых ей как раз и не хватало. Русофобские нотки явственно прослеживаются не только в творчестве поэтессы, но и в ее поведении. Например, обожая музицировать на фортепиано, Лариса Косач упрямо избегала исполнения мелодий русских композиторов. Исключение она сделала один раз – для музыки Чайковского. И то по просьбе Драгоманова.
Трудясь (совместно с другими «национально сознательными» писателями) над сочинением украинского литературного языка, Леся Украинка решительно выступала против «засорения» его «русизмами» (заимствованиями из русского литературного языка). В то же время в заимствованиях из языка польского ничего плохого она не видела (то есть беспокоилась не о чистоте новосоздаваемого творения, а о его отгораживании от русского влияния). Антирусские высказывания можно найти и в переписке поэтессы (чаще всего в письмах к матери). Пчилка добилась своего. Дочь стала ее политической единомышленницей.
На политико-литературной службе
В сущности, и литературные занятия, к которым так своеобразно приучила Лесю мать, были формой служения украинству. «Национально сознательные» деятели озаботились созданием украинской самостоятельной (именно самостоятельной, а не малорусской, разновидностью русской) литературы. Об их стремлениях хорошо написал тогда один из галицко-русских публицистов: «Это не писатели, не поэты, даже не литературные люди, а просто политические солдаты, которые получили приказание: сочинять литературу, писать вирши по заказу, на срок, на фунты. Вот и сыплются, как из рога изобилия, безграмотные литературные «произведения»… Ни малейшего следа таланта или вдохновения, ни смутного понятия о литературной форме и эстетике не проявляют эти «малые Тарасики», как остроумно назвал их Драгоманов; но этого всего от них не требуется, лишь бы они заполняли столбцы «Зори» и «Правды», лишь бы можно было статистически доказать миру, что, дескать, как же мы не самостоятельный народ, а литература наша не самостоятельная, не отличная от «московской», если у нас имеется целых 11 драматургов, 22 беллетриста и 37 с половиной поэтов, которых фамилии оканчиваются на «енко»?»
«Политическим солдатом» стала и Лариса Косач, начавшая «службу» под руководством «политического капрала» – Олены Пчилки. «Великая мать» выбрала для дочери псевдоним – Леся Украинка. Любопытно, что на тот момент это прозвище не содержало в себе этнической характеристики и обозначало исключительно указание на территориальную принадлежность автора. Украиной называлась часть Малороссии, входившая в состав Российской империи. Малороссия австрийская – Галичина, Буковина, Закарпатье – Украиной не считалась.
Указала Ольга Петровна Лесе и жанр, в котором следовало творить. Тут все было ясно. «Кто помнит… 80—90-е годы, тот знает, какая большая стихотворная эпидемия тогда господствовала, – вспоминал известный «национально сознательный» деятель Александр Лотоцкий. – Каждый, кто хоть чуть-чуть чувствовал «пленной мысли раздраженье», неминуемо брался за перо, чтобы написать украинские стихи. Это была ни в каком писаном уставе не утвержденная, но в обычном употреблении общепринятая обязанность для тех, кто хоть немного ощущал в своей душе какие-то связи с родным народом и краем».
Ольга Петровна направила дочь по стезе лирической поэзии. В ряду других посредственных виршеплетов Леся писала как умела. Иван Франко, друг семьи Косачей, весьма благожелательно настроенный к новоявленной поэтессе, все же назвал ее ранние сочинения «примитивно рифмованными детскими впечатлениями», «произведениями достаточно слабыми и манерными», «слабеньким откликом шевченковских баллад».
«Цветы и зори, зори и цветы – вот и все содержание этих поэзий, – подмечал Иван Яковлевич. – А если прибавить к этому монотонную форму, многословность, недостаток пластических картин и недостаток выразительного, сильного чувства, то не удивляемся, что эти стихи не будят в нас никакого настроения и читаются без вкуса, как шаблонная работа, иногда хорошая и старательная, но все-таки без души».
Надо подчеркнуть, что и выйдя позднее за рамки «цветов и зорь», Лесино поэтическое творчество продолжало оставаться примитивным. «Предрассветные огни» («Досвітні вогні») – наиболее популярное в советское время стихотворение Леси Украинки – и подобные революционные произведения не блещут литературными достоинствами. «Нет внутренней силы, есть только жестяной пафос и патриотическое завывание», – писал о гражданской лирике поэтессы Мыхайло Драй-Хмара, один из первых «лесеведов».
Эта лирика тоже была следствием эпидемии. Вслед за воспеванием природы стало модным вести политическую пропаганду в стихотворной форме. Выдающийся украинский литературный критик Мыкола Евшан (Федюшка) пытался объяснить соратникам, что «проповедование чего-либо, пусть и самой великой идеи, не может быть содержанием поэзии, а только публицистических, популярных брошюр». Но в «освободительном» угаре объяснений никто не слушал. В общем стаде поэтов-пропагандистов находилась Леся Украинка. Неудивительно, что те ее незатейливые стишки, вопреки уверениям «лесеведов» эпохи «развитого социализма», украшением литературы не стали.
Тем не менее усердие поэтессы приносило плоды. Необычайно старательная, нехватку таланта она компенсировала трудолюбием и постепенно набиралась мастерства. Когда украинство охватила очередная эпидемия, Леся встретила ее во всеоружии.
На сей раз то была эпидемия драмоделания. «Теперь… ударились писатели в драму, – констатировал литературовед Гнат Хоткевич. – Идея новой драмы, хотя бы и исполненная старыми парикмахерами, целиком овладела мыслью писателя. На сцену возлагаются колоссальные надежды освобождения родного края, дорогой Украины от всяких там пут. И вот, чтобы притарабанить и свой кирпич на строительство общеукраинского счастья – лепит, переводит, жарит, шкварит человек драмы».
Охваченная стадным чувством, Леся лепила, жарила, шкварила вместе с другими. Однако, нужно признать, получалось у нее лучше, чем у большинства других драмоделов. Многие пьесы Леси Украинки уже не кажутся такими бездарными, как ее стихи. На сером фоне новосоздаваемой литературы она, пожалуй, могла бы стать популярной, эдаким «гением» местного масштаба. Но…
Но тут и сказались пробелы в образовании. В украинстве спросом пользовались сочинения на темы родной истории. А Леся в прошлом Малой Руси ориентировалась слабо. Возможно, кто-то другой на ее месте постарался бы наверстать упущенное, занялся бы самообразованием…
Увы, Лесино трудолюбие, проявлявшееся в процессе написания, на чтение не распространялось. По позднейшему свидетельству вдовца поэтессы Климентия Квитки, «Леся любила писать без информаций в книжках, без проверки исторической точности, без изучения». Чтобы не демонстрировать свое невежество, она предпочла брать материал для пьес из истории зарубежной. (Исключение составила драма «Боярыня», столь пропагандируемая сегодня в Украине за русофобскую направленность, но крайне невысоко оцениваемая самой поэтессой, так и не решившейся ее опубликовать.)
Конечно, зарубежную историю Леся Украинка знала так же плохо. Но здесь ее ошибки не бросались в глаза. «Национально сознательная» публика, сразу заметившая бы неточность в изображении подробностей, например, казацкого быта, сама не разбиралась в деталях жизни древних римлян, египтян, американских колонистов и т. д.
Этим соображением и можно объяснить тематику Лесиных драм. Она оставалась верна своим пристрастиям. Рассказывая о чужом, фактически писала об Украине (только действие переносила в другие времена и страны). Однако узколобая аудитория фанатиков украинства аналогий, намеков, обобщений и т. п. не понимала. Другой же аудитории у Леси Украинки не было. Она писала на новом, украинском литературном языке (который, повторюсь, нельзя путать с малороссийским наречием), еще не понятным никому, кроме «национально сознательных» деятелей. Выйти за пределы украинства, перейти на русский язык поэтесса не хотела, да и не могла. Собственные литературные способности она оценивала довольно здраво и как-то в тесном кругу призналась, что занять приличное место в богатой талантами русской литературе никаких шансов не имеет.
Это был тупик. Лесю Украинку называли талантливой, но не читали. Театральные постановки ее произведений часто заканчивались провалом, несмотря на привлечение к спектаклям лучших артистических сил. «Все ее творчество, – сокрушался упомянутый Мыкола Евшан, – не имеет «популярности», не имеет даже признания».
«Лесю Украинку мало понимали, а то и совсем не понимали ее современники», – вторил ему Мыхайло Драй-Хмара. Признания и понимания она так и не дождалась.
Личная жизнь
Не сложилась и личная жизнь поэтессы. Некрасивая, Леся изначально имела тут мало шансов. В девятнадцать лет, чтоб устроить судьбу дочери, мать отправила ее к старшему брату, учившемуся в Киевском университете. Когда-то Ольга Петровна (тоже далеко не красавица) таким образом нашла собственное счастье. Она приехала к своему брату Михаилу Драгоманову, познакомилась с его университетскими товарищами и понравилась одному из них – Петру Косачу.
Мадам надеялась, что Леся повторит ее путь. Но на этот раз дураков, грубо говоря, не нашлось. Леся энергично знакомилась со студентами, встревала в их разговоры, старалась сказать что-нибудь умное, обратить на себя внимание. Ей отвечали. Бывало, вступали в спор. Но как женщиной не интересовались. Через три месяца несолоно хлебавши девушка вернулась в родительский дом.
Попытки наладить личную жизнь она повторит еще неоднократно. Временами откровенно, на грани приличия, будет навязываться малознакомым мужчинам, но с тем же результатом. А годы шли…
Отчаявшись, Леся попробовала сойтись с туберкулезником Сергеем Мержинским. Думала, что хоть этот, чахоточный, позарится на нее. Но чахоточный умер…
Возможно, постоянные неудачи в общении с мужским полом толкнули девушку к познанию однополой любви. Современные «лесеведы» уже не отрицают «розовых» наклонностей поэтессы, оговариваясь только, что лесбиянство нельзя считать развратом, что, по данным современной науки, человек вообще по природе своей бисексуален (весьма модное ныне в Западной Европе утверждение) и т. д. Углубляться в эту тему не входит в задачу данной работы.
В конце концов в тридцатилетнем возрасте Леся вышла замуж (сперва неформально). Супругом ее стал Климентий Квитка. Инфантильный неврастеник неясного происхождения (его воспитали приемные родители), Кльоня, так называла его жена, был моложе на девять лет. Вряд ли поэтесса мечтала о таком спутнике жизни, но крутить носом не приходилось.
Неизвестно, могла ли эта парочка иметь детей. Во всяком случае, Леся заводить их не собиралась. Тут она вновь оказалась жертвой матери. Как уже упоминалось, Ольга Петровна страдала истерией. Заболевание передалось по наследству Лесе и еще одной Пчилкиной дочери – Оксане. Плодить нервнобольных дальше Леся не хотела.
Вопрос о недопустимости продолжения рода лицами с дурной наследственностью она подняла в своем творчестве (в пьесе «Голубая роза»), проповедуя «возвышенную», бестелесную, не могущую дать потомство любовь между мужчиной и женщиной. Не исключено, что такая «любовь» и была у них с Кльоней. Однако выяснение таких подробностей не тема этой работы.
Скажу лишь, что брак укоротил поэтессе жизнь. Зарабатывал Кльоня мало, да еще должен был содержать престарелых приемных родителей. На них в значительной мере и ушли Лесины средства, оставленные ей в наследство отцом специально на лечение от туберкулеза. В последний год жизни поэтессы семья очень бедствовала. Смерть в июле 1913 года стала избавлением от земных страданий.
На похороны ее собралось мало людей. Младшая Лесина сестра – Исидора – поясняла, что стояло лето, все разъехались по курортам и дачам, студенты (всегда составлявшие массовку на подобных мероприятиях, превращая их в политические демонстрации) отправились на заработки. И все-таки…
Леся умерла в Грузии. Больше недели прошло, пока тело доставили в Киев. Желающие проводить «духовного вождя украинской интеллигенции» в последний путь могли бы успеть приехать на погребение. Но не сочли нужным, ограничились присылкой венков и телеграмм (что еще раз доказывает: не была Леся никаким вождем).
Слава пришла к ней посмертно. И не благодаря литературным заслугам.
Как известно, большевики переименовали малорусов в украинцев и объявили их самостоятельной нацией. А у нации должна быть самостоятельная культура, самостоятельная литература. Срочно потребовались литературные классики. Так вытащили на пьедестал «великого Кобзаря». За ним «великого Каменяра» (Ивана Франко) и «дочку Прометея». Затем еще дюжину «классиков», калибром поменьше.
Лесю Украинку провозгласили гениальной поэтессой. Заслуженно ли? На мой взгляд, нет. Несчастная женщина, искалеченная духовно, интеллектуально и физически собственной матерью, заслуживает жалости, сочувствия, но никак не поклонения.
Впрочем, у каждого на сей счет может быть свое мнение.
Мера Николая Скрыпника
…Жизнь становилась невыносимой. Она теряла всякий смысл. А раз так – то выход оставался только один…
Он покинул заседание. Вышел на улицу. Медленно пересек площадь. Вошел в здание, где работал последние месяцы. Поднялся в рабочий кабинет. Сел за письменный стол. Написал короткую записку. Потом достал револьвер и направил его себе в грудь. Через секунду прозвучал выстрел… Так окончил свой жизненный путь Николай Скрыпник, выдающийся деятель украинского движения, борец за «национальное возрождение» Украины.
Он родился 13 января 1872 года на Екатеринославщине, в слободе Ясиноватой, в семье железнодорожного служащего. Учился в Изюмском реальном училище, но был исключен оттуда за ведение революционной пропаганды. Экзамены сдавал потом экстерном, чтобы получить право на поступление в Петербургский технологический институт.
В институт поступил, однако и там проучился недолго. Уже с первого курса Скрыпника отчислили за участие в студенческой демонстрации. Случилось это в марте 1901 года. А дальше – закружилось, понесло…
Скрыпник примкнул к социал-демократам. С головой ушел в революционную деятельность. Был арестован. Приговорен к ссылке в Сибирь. Бежал. Продолжил революционную деятельность. Вновь был арестован. Опять приговорен к ссылке. Снова бежал. Продолжил революционную деятельность. Был арестован… И так далее. Известие о Февральской революции застало его в очередной ссылке – в Тамбовской губернии…
В мае 1917 года Николай Алексеевич приехал в Петроград и спустя несколько месяцев принял участие в Октябрьской революции. В конце того же года по личному указанию Владимира Ленина он отправляется в Украину, где входит в состав первого советского правительства республики, а в марте 1918 года возглавляет его. Здесь и проявилось в первый раз непомерное властолюбие Скрыпника.
Возглавляемое им правительство (Народный секретариат) являлось фиктивным. Задумывая его создание, большевики наивно надеялись убедить немцев (с ними шли тогда переговоры о мире) признать «народных секретарей» законной властью в Украине. Но у Германии уже были собственные марионетки, на роль которых охотно согласились деятели Центральной рады.
К моменту назначения Николая Алексеевича председателем Народного секретариата Брестский мир был подписан. По его условиям красногвардейские отряды покидали Украину. Германская армия уже заняла Киев и продолжала двигаться на восток. «Украинскому советскому правительству» не оставалось ничего другого, как бежать из страны.
В начале апреля 1918 года председатель Народного секретариата явился в Москву. Никакими реальными полномочиями он не обладал. Но когда услышал от Иосифа Сталина (советского наркома по делам национальностей): «Достаточно наигрались в правительство и республику, кажется, хватит, пора бросать игру», обиделся и подал жалобу в Совнарком.
Кое-кто из биографов Николая Алексеевича усматривает в этом отстаивание им суверенитета Украины. На самом деле все было проще. Суверенитет тут ни при чем (Народный секретариат суверенным не являлся). Скрыпнику всего лишь не хотелось расставаться с высокой (пусть и не имеющей пока реального значения, но кто знает, что будет потом?) должностью.
Впрочем, действительность диктовала свои условия. Народный секретариат все равно ликвидировали. А Николая Алексеевича направили на другой участок работы – в ЧК, заведующим отделом по борьбе с контрреволюцией.
Об этом периоде жизни Скрыпника его «национально сознательные» поклонники вспоминать не любят. Но факт есть факт: он являлся одним из проводников политики красного террора. Любое инакомыслие Николай Алексеевич считал достаточным основанием для репрессий. Как-то ему поручили «разгрузить» Бутырскую тюрьму, переполненную заключенными. Недолго думая борец с контрреволюцией приказал расстрелять более трех тысяч человек, большинство из которых отношения к контрреволюции не имели и содержались за решеткой как заложники, из-за своего непролетарского происхождения.
Те же методы деятельности (не по форме, а по сути) перенес он позднее в Украину, где последовательно занимал посты наркомов внутренних дел, юстиции и, наконец, с февраля 1927 года – просвещения. Последняя должность оказалась самой важной в карьере Скрыпника. Из-за проводимой в то время политики тотальной украинизации Наркомату просвещения придавалось огромное значение. Помимо системы образования Скрыпнику подчинялись научные учреждения, учреждения культуры, издательства, пресса. И все это он должен был украинизировать.
Любопытно, что для самого Николая Алексеевича украинский язык родным не являлся. Как, впрочем, и для почти всех жителей бывшей Малороссии. Создаваемый преимущественно в Галиции, с использованием множества заимствований из польского, немецкого, других языков, украинский язык (который не следует путать с малорусским наречием) был понятен в основном галичанам, привыкшим жить бок о бок с поляками и немцами. В начальный период украинизации (будучи еще наркомом юстиции) Скрыпник сам признавал, что владеет этим языком слабо. И хотя говорить по-украински он пытался, но, по свидетельству очевидцев, получалось это у него настолько плохо, что речи наркома вызывали у окружающих только насмешки.
Однако язык он выучил. И, оказавшись по должности во главе украинизаторских процессов, принялся навязывать его силовыми методами всем. Учебные заведения принудительно переводили на украиноязычное обучение. На украинском же по приказу наркома велась работа государственных и общественных учреждений, театров, концертных организаций, средств массовой информации. Библиотекам запрещалось выписывать не на украинском языке более чем 25 процентов литературы. Ограничили подписку даже на общесоюзную партийную газету «Правда» (как на русскоязычную).
Под непосредственным руководством Николая Алексеевича приняли новые правила украинского правописания, насколько возможно сильнее отгораживавшие украинский язык от русского. Речь даже велась о переходе на латинский алфавит, но такая мера, требующая многих финансовых затрат, признана была пока преждевременной.
Всех недовольных украинизацией преследовали, применяя различные методы воздействия на них вплоть до открытых репрессий. Русскоязычным украинцам Скрыпник вообще отказывал в праве на существование, объявив их «жертвами русификации» и вознамерившись помочь этим «жертвам» вернуться к «родному» украинскому языку.
Поскольку в народе украинизаторские потуги властей не встречали поддержки, нарком опирался на выходцев из Галиции. Уже к концу 1925 года в республике орудовала 50-тысячная армия «национально сознательных» галичан, расставляемых на ключевые посты (прежде всего в системе образования). С каждым годом их количество увеличивалось. Но новому наркому просвещения этого показалось мало. Он выдвинул проект переброски из Галиции в УССР ровно половины тамошних учителей (вдобавок к уже имеющимся). Галичанами был плотно обсажен аппарат наркомата. Им поручали самые важные участки работы. Так, директором Географического института был назначен Степан Рудницкий, директором Института истории – Матвей Яворский, Института философии – Владимир Юринец и т. д.
Поддерживаемые Скрыпником пришельцы вели почти неприкрытую войну против русского языка. Например, назначенный директором Украинского института лингвистического образования Иван Сияк запретил в своем учреждении всякое общение по-русски. Когда один из студентов (великорус по происхождению) посмел нарушить запрет, над ним устроили «общественно-показательный суд» и исключили из института.
Все эти меры не являлись чем-то особенным. Ту же политику проводил предшественник Николая Алексеевича в Наркомпросе Александр Шумский (которого, между прочим, Скрыпник и подсидел, освобождая «теплое» место для себя). Новым был культ личности Скрыпника.
Его публично прославляли как великого ученого, выдающегося государственного деятеля, славного революционера, мудрого руководителя, крупного специалиста в марксистско-ленинской теории и даже первого в мире (!) разработчика научной теории национального вопроса. Помимо постов наркома просвещения и члена Политбюро ЦК КП(б)У Николай Алексеевич занимал должности директора Всеукраинской ассоциации марксо-ленинских институтов, главного редактора Украинской советской энциклопедии, председателя Ассоциации историков и прочая, прочая, прочая. Он учил писателей и журналистов писать, ставил задания перед учеными, вмешивался в работу Академии наук и оценивал труд академиков, давал указания педагогам, озабочивался хлебозаготовками. В республике было предпринято многотомное издание его сочинений («Возомнил себя украинским Лениным», – скажет о нем потом Иосиф Сталин).
Возжелав стать академиком, Николай Алексеевич, несмотря на отсутствие высшего образования, добился принятия Академией наук соответствующего решения и, кажется, не собирался останавливаться на этом.
Апогея культ достиг в январе 1932 года, когда отмечалось 60-летие деятеля. Торжественное заседание по этому поводу с участием всей властной верхушки республики прошло в Харьковском оперном театре. Более четырехсот статей, посвященных юбиляру, появилось в украинской прессе. В Харькове его именем назвали улицу. В Киеве прошла выставка «60 лет жизни и этапы революционной борьбы Н.А. Скрыпника». В честь Николая Алексеевича назвали ряд учебных заведений, переименовали село, учредили специальные стипендии, создали фонд строительства эскадрильи имени Н. Скрыпника…
Правда, первый «звоночек» прозвенел для него тогда же. Многочисленные «просьбы трудящихся» (у которых, надо полагать, не было других забот) наградить «выдающегося большевика» орденом Ленина в Кремле проигнорировали.
…Тучи над Скрыпником сгустились в феврале 1933 года. ОГПУ неожиданно арестовало личного секретаря наркома – Николая Эрстенюка (галичанина, естественно) и обнаружило у него на квартире секретные документы из наркомата. Вряд ли Эрстенюк был шпионом (в чем его обвиняли). Скорее всего, дело было в халатном отношении самого наркома к хранению бумаг, не предназначенных для широкого пользования.
Однако перепуганный Скрыпник поспешил отмежеваться от приближенного. В специальном приказе он объявил, что давно уже не доверял Эрстенюку. Поступок являлся откровенно глупым и убедить никого (чекистов особенно) не мог – зачем тогда Николай Алексеевич держал галичанина в личных секретарях, если давно не доверял ему?
Дальше – больше. Украинизаторская ретивость Скрыпника стала вызывать недовольство Сталина. Приступая к украинизации, коммунистический режим строил планы мировой революции. Кремль собирался привлечь на свою сторону деятелей украинского движения в Галиции, с их помощью устроить революцию в Польше, откуда она потом должна была распространиться далее.
Однако в начале 1930-х годов окончательно выяснилось, что надежды на мировую революцию в ближайшем будущем реализоваться не смогут. Вместо триумфального шествия большевизма по планете, приходилось готовиться к долговременному противостоянию с капиталистическим окружением. Нужно было укреплять СССР. Украинизация же его только расшатывала. Поэтому, не отменяя украинизаторскую политику совсем (она продолжалась до самого конца советской власти), в Кремле решили сбавить темп. Из Москвы пошли указания на допущенные украинизаторами перегибы.
Скрыпник отреагировал в присущей ему манере – всю вину свалил на подчиненных. Оказалось, что властолюбивый, славолюбивый, амбициозный деятель в то же время не умеет нести ответственность за собственные просчеты. В Кремле это видели.
В конце февраля 1933 года Николая Алексеевича освободили от обязанностей наркома просвещения, переведя на формально более высокий, но в той ситуации менее самостоятельный пост заместителя председателя Совнаркома УССР и председателя Госплана республики. Одновременно началось негласное расследование деятельности Наркомпроса.
Недостатков выявлялось все больше. Скрыпника стали критиковать. Сначала – в узком кругу, потом – публично. Привыкший к славословиям из уст подхалимов, он превратился в объект для нападок и даже насмешек. Николай Алексеевич растерялся. Он пытался оправдываться, затем каялся, унижался, просил дать ему возможность еще поработать (то есть умолял оставить его на ответственном посту), чтобы исправить допущенные ошибки. Следует учесть, что в то время смещение с высокой должности еще не означало гибели (это будет позднее). Бывшие руководители (Каменев, Зиновьев, Бухарин, Рыков) получали хорошую работу, сохраняли многие привилегии. Они лишались только власти.
Однако Скрыпник уже не мог без всеобщего поклонения, не видел для себя иной судьбы, кроме как в ранге вождя. А изгнание с властного олимпа приближалось неотвратимо…
Судный день настал 7 июля 1933 года. На заседании Политбюро ЦК КП(б)У был поднят вопрос о выводе Николая Алексеевича из состава этого руководящего органа. Освобождение от обязанностей члена правительства следовало за принятым решением автоматически. Это была катастрофа. Жизнь без власти являлась для Скрыпника невыносимой. Она теряла всякий смысл. А раз так – выход оставался только один…
Позднее, после смерти партийного фанфарона, в кругах украинской эмиграции стали поговаривать о самоискупляющей ценности его самоубийства. Дескать, маленькая револьверная пуля, направленная им в себя, на весах истории перевесит все его прегрешения. Думается, это неверно. Не перевесит!
И еще одно замечание. За несколько лет до трагической развязки Скрыпник принимал активное участие в травле других впавших в немилость высокопоставленных функционеров (Рыкова, Шумского и др.). Они тоже каялись, просили не лишать их должностей, дать шанс искупить вину на прежнем месте работы.
Но Скрыпник среди прочих (даже впереди многих прочих) отказывал им в последнем шансе, ставил под сомнение искренность кающихся, был к ним беспощаден. Перед смертью он столкнулся с тем же, но уже по отношению к себе. Зло, сделанное Николаем Алексеевичем, начало к нему возвращаться. Нет сомнения, что через несколько лет его ожидала пуля в тюремном застенке – тот самый расстрел, на который когда-то обрек он тысячи людей.
Выстрелив в себя, Скрыпник лишь ускорил развитие событий. Истинность библейского изречения «Какою мерою мерите, такою и вам отмеряно будет» он ощутил на себе. Ощутил в полной мере.
Юлиан Яворский: жизнь в борьбе против ига
Имя Юлиана Андреевича Яворского тоже известно сегодня немногим. Крупный ученый – историк и литературовед, публицист, общественный деятель, ныне он забыт, как и многие другие выдающиеся деятели. Забыт основательно и незаслуженно. А рассказать о нем нужно.
Он родился 27 ноября 1873 года в галицком селе Бельча, в семье священника. Галиция в то время входила в состав Австро-Венгрии, и коренное население края – русины – томились под двойным польско-немецким игом.
Австрийское правительство очень опасалось утратить эту провинцию. В Вене прекрасно понимали, что существующее национальное единство Галицкой Руси с Россией рано или поздно сделает актуальным вопрос о единстве политическом. А потому власти настойчиво пытались денационализировать эту территорию. Все русское преследовалось, подвергалось репрессиям, сопротивление подавлялось.
Еще в детстве Юлиан остро ощущал этот гнет. И реагировал на него тоже по-детски – бескомпромиссно. В одной из биографий Яворского отмечалось, что процесс получения им образования протекал «бурно». Сказано слишком мягко. Мальчика трижды исключали из гимназий – в Дрогобыче, Самборе, Львове. Сначала за то, что читал на уроке русскую книгу. Потом потому, что посмел написать сочинение на русском языке. Наконец, за издание в гимназии рукописного журнала, также русскоязычного.
В конце концов экзамены он сдал экстерном, после чего осенью 1892 года поступил во Львовский университет. Но на этом «бурная» эпопея не закончилась. Как писал тогда Яворский: «Мы принуждены быть постоянно в решительной и энергичной оппозиции к правительству, до поры, пока оно не исполнит всех справедливых требований трехмиллионного русского населения Австрии. О Риме даже не стоит и говорить, потому что мы не обязаны никакими законами, а тем менее какой-нибудь благодарностью постоянно падать на колени перед папскою тиарою или иезуитами».
В феврале 1893 года во Львове пышно праздновался 50-летний юбилей со времени возведения в епископский сан тогдашнего римского папы Льва ХІІІ. На торжественном заседании рекой лились льстивые речи, прославлявшие первосвященника и восхваляющие «благодеяния», якобы изливаемые им на галицких русинов. Вдруг посреди этих славословий с галерки раздался громкий выкрик: «Тучапы!»
Тучапами называлось галицкое село, униатская община которого перешла, вслед за многими другими общинами, в римско-католическую веру. Выкрикнул наименование села Юлиан Яворский. Таким образом он напоминал, что римский престол стремится к полному окатоличиванию русинов (что являлось одним из способов денационализации), а уния рассматривается папством всего лишь как переходный этап к католицизму.
Возглас Яворского произвел тягостное впечатление на присутствующих. Он указал на очень неприятное явление. Как бы ни лояльны к папе были униатские священники, полностью сливаться с римско-католиками большинство из них не хотело.
Разумеется, дерзкое выступление не прошло молодому человеку даром. Его тут же арестовала полиция, а учебное начальство поторопилось исключить смелого студента из университета.
Продолжил Яворский учебу уже в Венском университете. Но опять ненадолго. Через несколько месяцев он возглавил демонстрацию студентов-русинов против львовского митрополита Сильвестра Сембратовича.
Митрополит являлся послушным орудием папского престола. Его личность была исчерпывающе охарактеризована в коротком стишке (переделке пушкинской эпиграммы), распространявшемся тогда среди львовской молодежи:
Всей Галичины мучитель,
Клира русского гонитель,
Иезуитам друг и брат;
Полон злобы, полон мести.
Без ума, без чувств, без чести,
В Торквемады кандидат.
Юлиан с товарищами встретили митрополита на Венском вокзале, когда «кандидат в Торквемады» возвращался из Рима с очередными инструкциями, и забросали его тухлыми яйцами. Для Яворского это вылилось в новый арест (в тюрьме он просидел месяц) и увольнение из числа студентов.
Получить высшее образование ему удалось в Черновицком университете. Там, в православной Буковине, гнет был не таким тягостным.
Непросто складывалась и личная жизнь Яворского. Он был обручен с любимой девушкой. Но после первого ареста Юлиана родители его невесты решили, что такой зять им не нужен. Они насильно выдали дочь замуж за другого. Через год, не в силах жить с нелюбимым, молодая женщина покончила собой.
Ну а Юлиан женился по окончании университета, в 1896 году. Семья переехала во Львов. Один за другим родилось трое детей.
Яворский занялся литературной и научной деятельностью. Он сотрудничал в галицких русскоязычных газетах и журналах. Публиковался в некоторых российских изданиях. Некоторое время даже издавал свой журнал – «Живое слово».
Основной темой научных статей Яворского была русская литература. Названия его работ говорят сами за себя: «Пушкин в Прикарпатской Руси», «Гоголь в Червонной Руси», «Русская женщина в поэзии Некрасова», «Русские народные певцы А.В. Кольцов и Т.Г. Шевченко» и др. В то же время пренебрежительно отзывался Юлиан Андреевич о современных ему украинских литераторах, усматривая в их «творческих» потугах средство для раскола русской нации.
«Нужно только ближе рассмотреть всю современную малорусскую или, как она величается, «украинскую» литературу, – писал он, – чтобы убедиться, что это только болезненный нарост на русском народном теле, не имеющий ни основания, ни будущности. Присмотревшись, мы увидим, что все эти Школиченки, Подоленки, Торбенки и другие «-енки» не писатели, не поэты, даже не литературные люди, а просто политические солдаты, которые получили приказание – сочинять литературу, писать вирши, на заказ, на срок, на фунты. Вот и сыплются, как из рога изобилия, безграмотные литературные «произведения», а в каждом из них «ненька Украина» и «клятый москаль» водятся за чубы. Ни малейшего следа таланта или вдохновения, ни смутного понятия о литературной форме и эстетике не проявляют эти «малые Тарасики» (как остроумно назвал их Драгоманов), но этого всего от них не требуется. Лишь бы статистически доказать миру, что, дескать, как же мы не самостоятельный народ, а литература наша не самостоятельная, не особая от «московской», если у нас имеется целых 11 драматургов, 22 беллетриста и 33 с половиной поэта, которые свои фамилии оканчивают на «енко»?»
В 1901 году Яворский занял должность секретаря научно-литературного общества «Галицко-русская матица», становится редактором издаваемого обществом журнала «Научно-литературный сборник».
На фоне этих успехов Юлиану Андреевичу пришлось пережить сильнейший удар судьбы. В августе 1902 года у него умирает жена.
Жить с тремя маленькими детьми на руках было непросто. Тем не менее Яворский не сдается. Он едет в Вену и под руководством крупного ученого, академика Ватрослава Ягича, защищает диссертацию. Получает степень доктора славянской филологии. Его научный авторитет растет, и, вероятно, Юлиан Андреевич вправе был рассчитывать на успешную карьеру.
Увы! Тут выяснилось в очередной раз, что австрийским властям ученые русины не нужны. Его принимают на государственную службу, но места в родном крае доктору наук не нашлось. Юлиана Андреевича запроторили учительствовать в глухое польское село. Дело обыденное для Австро-Венгрии. Русинам, кроме тех, кто придерживался украинского мировоззрения, старались не давать работы в сфере образования в русских провинциях – Галиции, Буковине, Закарпатье. Находившемуся в тяжелом материальном положении Яворскому как бы подсказывали: чтобы сделать карьеру, следует поменять убеждения.
Но отрекаться от своих русских взглядов Юлиан Андреевич не собирался. Он предпочел сменить страну пребывания. В 1904 году, женившись во второй раз, Яворский вместе с семьей уезжает в Россию.
Поселился ученый в Киеве. Он преподавал русский, латинский и немецкий языки в элитной Первой городской гимназии. А позднее, сохранив работу в гимназии, стал еще и приват-доцентом кафедры славяноведения Киевского университета. Вел научную работу – исследовал древнерусские литературные памятники, собирал фольклор. По заданию Императорской академии наук несколько раз ездил в командировки в Галицию.
Не оставался Юлиан Андреевич в стороне и от общественной деятельности – участвовал в работе Галицко-русского благотворительного общества, состоял членом киевского Клуба русских националистов. Когда разразилась Первая мировая война, Яворский, вместе с другими проживавшими тогда в Киеве уроженцами Галиции, организовал Карпато-русский освободительный комитет, целью которого, как написал потом Юлиан Андреевич в автобиографии, было «содействовать русской армии в предполагавшемся освобождении ею от австрийско-мадьярского ига карпато-русского народа и всемерно отстаивать и защищать при этом желания последнего». Ученый занял пост председателя комитета.
«Шестьсот лет стонала наша Галицкая Русь в чужом ярме, – говорилось в принятом организацией манифесте (написанном, вероятно, Яворским). – Казалось, не будет искупления, не засияет на нашей несчастной родине луч русского свободного солнца. Но велик Бог Земли Русской! Он подверг тебя, русский народ Галича, тяжкому испытанию, но не забывал о тебе. Он готовил тебе свободу и лучшее будущее!.. Бери крест и хоругви и с торжественным пением молитвы «С нами Бог!» встречай Православное Русское Воинство, которое несет тебе не только широкий простор земли и хлеб для утоления голода телесного, но несет тебе также твое незапятнанное имя Руси, несет тебе православную веру твоих предков, несет тебе волю и свободу русского человека на своей родной русской земле».
После освобождения в сентябре 1914 года большей части Галиции русской армией Яворский возвратился во Львов. Он имел возможность занять пост в администрации временного русского генерал-губернатора, но выбрал иной род занятий – возглавил редакцию местной газеты «Прикарпатская Русь».
К сожалению, освобождение оказалось кратковременным. Летом 1915 года из-за неудач на фронте русская армия вынуждена была отступить. Вместе с ней отступало огромное количество галицких русинов (по разным подсчетам – от 150 тысяч до полумиллиона человек). Шли на восток целыми селами.
Юлиан Андреевич вновь уехал в Киев. Здесь он занялся оказанием помощи беженцам-галичанам, сочетая эту деятельность с работой в университете и гимназии.
Революцию он встретил враждебно. В Гражданскую войну поддерживал белогвардейцев. После их поражения эмигрировал. Жил в оккупированной поляками Галиции, затем в Чехословакии. По-прежнему писал научные работы. Преподавал в эмигрантском Русском народном университете. Принимал участие в подготовке «Талергофского альманаха» – издания в память жертв австро-венгерского террора во время Первой мировой войны. А также противодействовал по мере сил «тлетворной пропаганде» украинства в Закарпатье, присоединенном после войны к Чехословакии.
Умер Яворский в 1937 году.
Еще в одной из своих ранних статей, проживая в Австрийской Галиции, Юлиан Андреевич призвал к борьбе за «освобождение бедного нашего народа от ига всяких паразитов». И названной борьбе посвятил всю свою жизнь. Уже хотя бы поэтому его стоит помнить. Тем более что иго-то остается реальностью и сегодня.
Калиф на час по-закарпатски. Августин Волошин: известный и неизвестный
Исторического персонажа, о котором пойдет речь, называют в Украине выдающимся политиком, видным ученым, крупным педагогом, талантливым публицистом и, пожалуй, самое важное, «еще одним украинским президентом». Правда, несмотря на обилие хвалебных эпитетов, знают об этом деятеле мало. Всеукраинской известности сей «украинский президент» никогда не имел. Был он фигурой сугубо регионального масштаба. Но вспомнить о нем нужно. К тому же повод есть соответствующий. Недавно отмечалась очередная «круглая» дата со дня рождения Августина Волошина. И вот что примечательно: ныне, когда Украина стремительно превращается в тоталитарное государство, многие СМИ приурочили к юбилею хвалебные материалы. Героизация фашистского диктатора Закарпатья пошла полным ходом. И это вполне логично. В свете сегодняшних обстоятельств сей деятель выглядит предтечей некоторых современных политиков. Потому и рассказ о нем будет своевременным.
Родился он 17 марта 1874 года в закарпатском селе Келечине, в семье грекокатолического священника. В современных панегириках Волошину можно прочитать, что родители воспитывали его патриотом, у мальчика с детства сформировалось «украинское национальное сознание» и т. п. На самом деле никакого «украинского национального сознания» в Закарпатье тогда не было и быть не могло.
В административном плане край принадлежал к венгерской части Австро-Венгрии, и это существенно сказывалось на развитии местного общества. Если австрийские власти, стремясь денационализировать подведомственные русские земли – Червонную (Галицкую) и Зеленую (Буковинскую) Русь, – прибегали к взращиванию украинского движения, то венгры в Угорской (Закарпатской) Руси действовали менее изощренно. Они откровенно мадьяризировали подконтрольную территорию, пытаясь превратить местных русинов в венгров (мадьяров).
Пытались, впрочем, не очень успешно. Какие бы принудительные меры ни использовало правительство, коренные жители Закарпатья в своем большинстве все равно относили себя к единой русской (велико-, мало-и белорусской) нации.
Волошин исключением не являлся. Окончив Высшую педагогическую школу в Будапеште и приняв по примеру отца духовный сан, он тоже считал себя русским. Это доказывается его ранними произведениями. Сочиняя в молодости учебники грамматики для начальных школ, Августин Иванович называл там русский литературный язык общим для всей Руси (Угорской – в том числе).
А вот по поводу создаваемого галичанами украинского литературного языка писал, что тот «не соответствует ни малороссам в России, ни нам». Не надо думать, что таким образом Волошин проявлял гражданское мужество. Он просто повторял распространенное среди закарпатцев мнение (иначе его писания просто не восприняли бы в народе).
Что же касается патриотизма, то Августин Иванович всегда был патриотом того государства, в котором жил. Но лишь до тех пор, пока это государство являлось сильным.
Крушение Австро-Венгрии вызвало в душе молодого педагога смятение. К кому примкнуть, он не знал. Налаживал контакты и с русскими, и с украинскими организациями. Когда край вошел в состав Чехословакии, стал заядлым чехофилом. Даже утверждал, что закарпатские русины по языку и культуре ближе к чехам, чем к украинцам (малорусам).
Однако новые правители Закарпатья, поначалу возжелавшие превратить его жителей в чехов, сообразили затем, что быстрая чехизация населения невозможна. И тогда официальная Прага обратилась к старому австрийскому опыту. Она стала поддерживать украинское движение, резонно полагая, что украинизация будет лишь переходным этапом к окончательной денационализации русинов. Несколько позже сей поворот в политике пояснил в узком кругу министр просвещения Чехословакии Вавро Шробар. «Никто не согласился бы променять русский литературный язык на чешский или словацкий, – говорил он. – Но с украинским языком мы можем конкурировать».
Вот тогда (и только тогда!) Волошин стал «национально сознательным украинцем». Он занялся политикой. Занялся без особого успеха. Возглавляемая им Христианско-народная партия (ХНП), выступавшая в блоке с Чехословацкой народной партией (ЧНП), неизменно оказывалась на выборах в числе аутсайдеров. В 1925 и 1929 годах благодаря особенностям чехословацкой избирательной системы (позволявшей «перебрасывать» полученные голоса из одного региона в другой) Августин Иванович все же получал депутатский мандат. В 1935 году выборы закончились для него сокрушительным поражением. Блок ЧНП – ХНП получил всего 2,2 процента голосов, заняв последнее место. Волошин остался за бортом парламента. Его политическую карьеру можно было бы считать завершенной, но…
Со второй половины 1930-х годов над Чехословакией начали сгущаться тучи. Стремительно усиливавшаяся гитлеровская Германия становилась все более агрессивной. Угроза нападения гитлеровцев приобретала реальные очертания. Августин Иванович, улавливая политическую конъюнктуру, поспешил тайно завязать отношения с немцами. И получил от них поддержку. В 1938 году, преданная в результате Мюнхенского сговора, Чехословакия превратилась в послушную марионетку Адольфа Гитлера. Волошин же, по настоятельной рекомендации из Берлина, был назначен премьер-министром правительства Закарпатья, получившего статус автономии.
Он сразу взялся устанавливать в крае тоталитарный режим по образцу гитлеровского. Украинские политические организации были сведены в единую партию «Украинское народное объединение» (УНО) во главе с самим Волошиным. Остальные политические партии, прежде всего русские – наиболее влиятельные в Закарпатье, запрещались (исключение сделали для Немецкой партии, организованной «на основах национал-социалистических»). Закрыты были и все оппозиционные газеты. Ликвидировалось местное самоуправление. Избранных населением сельских старост заменили на правительственных комиссаров.
И конечно же проводилась тотальная украинизация. Украинский язык объявили государственным. На него в приказном порядке перевели работу всех учреждений, преподавание в учебных заведениях. В городах спешно меняли вывески и таблички с указанием улиц (раньше они были на русском языке). Все ответственные посты замещались украинскими «национально сознательными» деятелями. Поскольку таковых в Закарпатье не хватало, их (преимущественно членов Организации украинских националистов) в большом количестве «импортировали» из Галиции. Угорскую, или, как ее называли в Чехословакии, Подкарпатскую, Русь переименовали в Карпатскую Украину.
Разумеется, подавлялось инакомыслие. С недовольными не церемонились. По краю прокатилась волна арестов. 18 ноября 1938 года приказом Волошина на горе Думен (возле Рахова) был создан концентрационный лагерь. Первый концлагерь в истории Закарпатья. Без судебного приговора бросали туда всех, кого по тем или иным причинам волошинцы считали опасными. Свободы лишали не только оппозиционных политиков и журналистов. За колючую проволоку попадали обычные крестьяне, рабочие, представители интеллигенции, посмевшие нелестно отозваться о новоявленном «вожде» и «отце» народа (так называла новоявленного правителя официальная пресса).
Закарпатский диктатор теперь уже явно ориентировался на Берлин. По распоряжению Августина Ивановича в автономии распространялась «Майн кампф». Сам он всячески заискивал перед германским консулом, не упуская случая, чтобы выразить «свои симпатии фюреру Германии». Любая антигитлеровская пропаганда строжайше запрещалась.
В таких условиях в феврале 1939 года были проведены «выборы» в местный парламент – сойм. Право выдвигать кандидатов имело только УНО. О какой-то альтернативности не могло быть и речи. На 32 мандата претендовало 32 кандидата, список которых был утвержден лично Волошиным. Агитация против претендентов не допускалась.
Однако и этого показалось мало. Для обеспечения «правильного» результата «выборов» на каждый избирательный участок УНО назначило своего комиссара с неограниченными полномочиями. Комиссары, как сообщала потом зарубежная (американская, венгерская и другая) пресса, получили четкий приказ: добиться нужного итога голосования, не останавливаясь перед фальсификациями.
«Выборы» действительно были сфальсифицированы (сегодня это признают даже украинские «национально сознательные» историки). Причем сфальсифицированы грубо, почти открыто. Всех кандидатов объявили «избранными». Они-то, собравшись через месяц на первое и единственное заседание сойма, провозгласили «независимость Карпатской Украины», избрав ее «президентом» Августина Волошина. Произошло это как раз тогда, когда гитлеровские войска без сопротивления оккупировали Чехословакию.
Августин Иванович мог торжествовать. Не учел он только одного. С уничтожением Чехословакии в Берлине пропал всякий интерес и к Карпатской Украине, и к ее диктатору. Гитлер решил отдать край своему союзнику, правителю Венгрии Миклошу Хорти. И пока сборище «депутатов» провозглашало Волошина «президентом», в край входила венгерская армия. От венгров же Августину Ивановичу не стоило ждать ничего хорошего – их в его Карпатской Украине притесняли не меньше, чем русинов.
Волошин метнулся в германское консульство с просьбой взять Закарпатье под протекторат. Нарвался на отказ. Отбил телеграмму с аналогичной просьбой в Бухарест. Но Румыния предпочла не вмешиваться. И Августину Ивановичу не оставалось ничего другого, кроме как пуститься в бега. Главой «государства» он побыл всего несколько часов.
Что было дальше? Через Румынию и Югославию Волошин перебрался в Германию. Его поселили в оккупированной нацистами Праге. Стоит отметить, что немцы все-таки попробовали вступиться за своего прислужника. Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп посоветовал венгерскому правительству назначить Августина Ивановича главой администрации Закарпатья. Но в Будапеште сумели уклониться от следования такому совету.
Волошина пристроили на работу в так называемый Украинский свободный университет (УСУ), функционировавший в Праге под контролем гестапо. Когда Германия напала на СССР, Августин Иванович обратился к Гитлеру с письмом, скромно предлагая себя в президенты «освобожденной» Украины. Как известно, у фюрера были иные планы, и обращение проигнорировали.
Впоследствии, как бы в утешение, Волошина сделали ректором УСУ. На этой должности он и доработал до конца войны. Когда к Праге подходили советские войска, Августин Иванович не уехал на Запад. Почему? Вероятно, он решил еще раз сменить хозяина и заранее установил связь со спецслужбами СССР. На это указывает то, что, арестованный Смершем, Волошин в тот же день был освобожден, отвезен на машине домой и получил своеобразную «охранную грамоту», гарантировавшую от дальнейших неприятностей подобного рода. Но через несколько дней его арестовали во второй раз и переправили в Москву. Там, согласно официальной версии, он в том же 1945 году умер в тюрьме от сердечного приступа. Как было на самом деле – неизвестно.
Фиаско заезжего гангриновича Степана Рудницкого
Сразу поясню: гангриновичами в Галиции когда-то называли псевдоученых – самозванцев, выдававших себя за светил науки, не имея для этого оснований. Впервые сей термин я обнаружил в письмах видного деятеля украинского движения Степана Рудницкого, обзывавшего так своих оппонентов.
Не могу сказать, насколько Рудницкий был тут прав, – о тех оппонентах мало что известно. Зато небезызвестен сам Степан Львович. В Украине он прославляем сегодня как «ученый с мировым именем», «основоположник украинской географической науки» и даже как «отец украинской географии». На деле же Рудницкий как раз и являлся типичным гангриновичем.
Тайны биографии
Родился он 3 декабря 1877 года в Галиции, входившей тогда в состав Австро-Венгрии, в старинном русском городе Перемышле. Современные биографы Степана Львовича сообщают, что отец его работал учителем в городской гимназии, преподавал историю, географию, немецкий язык. Затем переехал вместе с семьей в Тернополь, где стал директором гимназии. А дед Рудницкого по отцу был сельским священником.
Гораздо меньше внимания уделяется матери будущего «основоположника». Точнее, о ней просто молчат. Лишь изредка в посвященных Рудницкому текстах указывается, что девичья фамилия ее Таборская и она не славянского происхождения, а будто бы армянка (хотя названная фамилия, кажется, не армянская).
Данному обстоятельству можно было бы не придавать большого значения, если бы Степан Рудницкий не стал впоследствии яростным блюстителем «чистоты расы», решительно протестуя против заключения украинцами браков с представителями «неарийских», «расово неполноценных» народностей.
Также в биографиях, похожих скорее на панегирики, утверждается, что Рудницкий учился во Львовском и Венском университетах. Тут же добавляется, что Венский университет справедливо считался тогда авторитетнейшим научным центром, студенты там получали первоклассное образование и т. п.
Так оно и было: достоинства столичного вуза сомнению не подлежат. Но при чем здесь Рудницкий? Будучи как-то во время отпуска в Вене, Степан Львович посетил здание университета, поприсутствовал на нескольких лекциях. К этому и свелась «учеба».
А вот во Львовский (Лембергский) университет он таки поступил – на философский факультет. Правда, заканчивал его уже заочно. Из-за смерти отца на хлеб насущный пришлось зарабатывать самостоятельно. И Рудницкий устроился на работу заместителем учителя (была раньше такая должность в Австро-Венгрии).
А еще во Львовском университете Степан Львович познакомился с крупным украинским деятелем профессором Михаилом Грушевским. Потом Рудницкий скромно именовал себя «одним из лучших учеников» Михаила Сергеевича, но был ли тот согласен с такой оценкой – неизвестно.
Под влиянием Грушевского молодой человек занялся историей. В редактируемых профессором «Записках Научного общества имени Шевченко» он опубликовал несколько статей (подписываясь, кстати, как Стефан Рудницкий). Однако вскоре отошел от штудирования исторической науки, предпочтя ей географию.
Но если историк из Рудницкого не получился, то адептом украинства (к которому его тоже приобщил Грушевский) он остался на всю жизнь. В этом смысле следует признать Степана Львовича достойным учеником профессора. Хотя вряд ли лучшим.
Начало карьеры
По окончании университета Рудницкий учительствовал – во Львове, в Тернополе, опять во Львове. В 1902 году он женился на Сибилле Шенкер, дочери австрийского офицера. Постепенно обзавелся детьми (сыном и двумя дочерьми).
Принадлежность к украинскому движению способствовала карьере. Австрийское правительство покровительствовало украинским деятелям, видя в них орудие денационализации Галицкой Руси. Во Львовском университете для них создавались специальные кафедры, с которых велась пропаганда русофобии. На одну такую кафедру взяли в 1908 году Степана Львовича, присвоив ему звание приват-доцента.
Новое место работы позволяло Рудницкому жить безбедно и беззаботно. Занятиями наукой он себя особо не обременял, в основном сочиняя примитивные статейки для «читанок» (книжек для чтения, рассчитанных на учеников младших классов школы). Ругал «москвофилов» – галицких русинов, не отрекавшихся от национального единства с великорусами и белорусами. Учил студентов любить Австрию и ненавидеть Россию. Вот, собственно, и весь круг нехитрых обязанностей, с которыми Степан Львович успешно справлялся.
А на каникулах вместе с семьей он ездил отдыхать в Карпаты. Летом 1914 года тоже отправился туда, как обычно. Там и застала Рудницкого весть о Первой мировой войне.
В вихре событий
Надо полагать, поначалу Степан Львович не очень встревожился. Как известно, украинские «национально сознательные» деятели не сомневались в легкой победе австро-германского блока и уже назначали друг другу свидания через месяц в Киеве. Разгром австрийцев и наступление русской армии стали для них настоящей неожиданностью.
Насмерть перепуганный Рудницкий бежал из Карпат, бросив жену и детей. Лишь в Вене он несколько успокоился и стал вызывать к себе семью. Но супруга Степана Львовича, неприятно пораженная постыдным поведением мужа, отказалась тронуться с места. Она требовала, чтобы глава семейства лично приехал за ними и привез теплые вещи (приближалась зима).
Рудницкий же, ввиду близости русских войск, приезжать боялся. Он направил строптивой супружнице полное упреков письмо. Называл ее «нерассудительной и недоброй». Пояснял, что прибыть за ними не может «по причинам, которые вам расскажу, когда вас увижу». Ставил в пример «обычных людей», убегавших «из занятого москалями края» без всяких вещей и без гроша в кармане.
Пока велись переговоры, в село, где проживала с детьми пани Рудницкая, пришли «москали». Но ничего плохого мирным жителям не сделали. Когда же линия фронта вновь отодвинулась на восток, семейство смогло наконец воссоединиться.
Любопытная деталь: эвакуировать жену и детей Степану Львовичу помогал полковник австрийской жандармерии Эдвард Фишер. Это был жестокий палач, на руках которого кровь тысяч русинов, заподозренных в симпатиях к России. Но Рудницкому полковник покровительствовал. И данный факт, наверное, говорит о многом.
«Патриотизм» по сходной цене
Позднее Степан Львович служил военным географом при штабах австрийских подразделений. В конце войны он вернулся во Львов. Там было неспокойно. С распадом Австро-Венгрии в ноябре 1918 года вспыхнули боевые действия между войсками возрождавшейся Польши и самопровозглашенной Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР). Поляки довольно быстро выбили своих противников из города. Но Рудницкий, хотя и называл борьбу западных украинцев с Польшей «святой войной», за отступающими не последовал. Он остался во Львове, пытаясь приспособиться к новым условиям.
Приспособиться получилось ненадолго. В июле 1919 года, после уничтожения ЗУНР, польские власти развернули репрессии против всех, кого считали подозрительными. Степана Львовича уволили из университета. Он остался без работы. А как-то жить было надо.
Правительство петлюровской УНР (Украинской народной республики) пригласило его преподавать в недавно открытый Каменец-Подольский университет. Но обстановка в том регионе также являлась небезопасной – шла Гражданская война. И Рудницкий решает опять уехать в Вену. Любить Украину он предпочитал издалека. И за деньги.
Последнее обстоятельство было определяющим. Патриотизм, по логике Степана Львовича, должен приносить прибыль. Рудницкий сочинил книгу «Украинский вопрос и великие державы» и в конце февраля 1920 года предложил петлюровским деятелям купить у него рукопись. Сочинение свое автор считал необходимым издать на украинском, немецком и английском языках (для пропаганды «украинской национальной идеи» в Европе). За каждый вариант он требовал по 110 тысяч крон.
Надо знать то время. УНР в реальности уже не существовала. Ее армия потерпела полное поражение. Правительство сбежало за границу. Там же укрылись остатки войск. Солдаты и офицеры ютились в специальных лагерях, в ужасающей нищете, страдая от голода и холода. Вдобавок ко всему свирепствовала эпидемия тифа. Люди умирали в тифозных бараках, лишенные лекарств и элементарного ухода. На все это не находилось средств. А Рудницкий требовал себе 330 тысяч крон.
С другой стороны, можно понять и Степана Львовича. Деньги в казне республики были. Ободрав Украину как липку, Петлюра и его окружение вывезли за рубеж огромные суммы. Теперь высокопоставленные чиновники и дипломаты УНР тратили государственные средства на кутежи в ресторанах и содержание любовниц.
Обо всем этом Рудницкий прекрасно знал. А потому возжелал и для себя урвать часть награбленного. Реализовать свое намерение ему удалось на две трети. Петлюровское Министерство образования выразило готовность выплатить Степану Львовичу 220 тысяч крон – за украиноязычный и немецкоязычный варианты. На английском языке книгу решили не издавать – из соображений экономии.
Последнее очень расстроило автора. Все-таки из рук уплывали 110 тысяч! На договоре Рудницкий сделал приписку, что соглашается на предложенные условия с «болью в сердце», надеясь, что правительство закупит у него рукопись еще одной книги под названием «Экономическая география Украины».
Примечательно, что, по неоднократным позднейшим признаниям Степана Львовича, специалистом в экономической географии он вообще не являлся. То есть хотел «впарить» покупателям явный «неликвид». Ну очень он любил деньги!
Эта любовь определила весь дальнейший жизненный путь Рудницкого. Он устроился работать в организованном эмигрантами Украинском вольном университете (УВУ). Учреждение финансировалось правительством Чехословакии. Но денежные возможности Праги были ограниченны, а аппетиты Степана Львовича – нет. И он предложил свои услуги советской власти.
Гангринович
Тут, вероятно, будет целесообразным сказать несколько слов о вкладе Рудницкого в науку. Собственно, вклада-то никакого не было. Именно научных трудов у Степана Львовича насчитывалось немного (да и те содержали ошибки). Большинство его статей носили ярко выраженный пропагандистский характер. В этом Рудницкий ничем не отличался от прочих украинских «национально сознательных» деятелей. О чем бы ни писали подобные «ученые», все у них сводилось к заявлению о том, что украинцы – самостоятельная нация, а ни в коем случае не часть русского народа.
Факты, противоречащие данному утверждению, либо замалчивались, либо извращались, либо просто голословно отвергались. Так вели себя все «национально сознательные» авторы – «историки», «языковеды», «литературоведы». Так поступил и «географ» Рудницкий.
Чтобы доказать существование самостоятельной украинской нации, он придумал «самостоятельный украинский расовый тип». Объявил, что украинцы обладают «самостоятельным строением тела» (отличным от строения тела представителей соседних наций). Степан Львович «обнаружил» в Украине «самостоятельный рельеф», «самостоятельный животный и растительный мир». И климат в Украине был, по уверению Рудницкого, «самостоятельным», независимым от России (отсюда он выводил необходимость государственной независимости Украины).
Видимо не потрудившись взглянуть на карту, «основоположник украинской географии» провозгласил, что Украина обладает «самостоятельной системой рек», никак не связанной «с Московщиной» (правда, тут же оговорился, что Дон является «исключением из этого закона»).
Степан Львович полагал необходимым утвердить в массовом сознании новые этнонимы – «Украина», «украинец», ибо прежнее имя «Русь» и производные от него теперь непригодны. «Старое наше название присвоили себе москали, и невозможно у них его отобрать», – сокрушался он.
Новые термины Рудницкий употреблял постоянно, к месту и не к месту. Например: «Между украинскими горами и холмами, по украинским возвышенностям и низинам протекают украинские речки». При этом он сыпал иногда курьезными «откровениями» типа: «Украинские реки отличаются тем, что они большие и богаты водой» (другие реки, неукраинские, надо полагать, по мнению «ученого», быть большими и богатыми водой не могли).
Ну и, конечно, украинский язык, по Рудницкому, самый богатый и чистый, украинское народное творчество – лучшее в Европе, украинская культура – «несомненно выше» культур всех соседних народов.
Другой «научной заслугой» Степана Львовича являлась разработка им концепции «биологической национальной политики». В будущей независимой Украине, считал он, власти должны взять под строгий контроль половые связи украинцев, чтобы воспрепятствовать их смешению с «поляками, москалями, румынами, турко-татарами, жидами и т. п.». Вместе с тем полезным, по его мнению, было бы смешение украинцев с «германской расой».
Думается, правомерным будет утверждать, что никакого научного значения написанное Рудницким не имело. Единственное, что он мог предложить большевикам, – это свою «национальную сознательность». Но как раз это им и было нужно!
Затеяв украинизацию вчерашней Малороссии, советская власть столкнулась с серьезной проблемой кадров. Малорусы в своем большинстве считали себя русскими, в национальном отношении от великорусов не отделялись и совершенно не хотели украинизироваться, а тем более – украинизировать других.
Чтобы преодолеть нехватку носителей «украинского национального сознания», их импортировали из Галиции. В массовом порядке «национально сознательных» деятелей, вскормленных еще в Австро-Венгрии, стали приглашать в Украинскую ССР. Прибывших расставляли на ответственных постах, прежде всего – в сфере науки, культуры, образования. К концу 1925 года в республике насчитывалось более 50 тысяч галицких украинизаторов. Но импорт продолжался. Поэтому предложение Степана Львовича было принято.
За деньгами!
До самого последнего момента скрывал Рудницкий свой планируемый отъезд от коллег по УВУ. Наконец в октябре 1926 года, не забыв получить в университете зарплату за месяц вперед, он выехал в СССР.
Мог ли Степан Львович рассчитывать на воплощение своих идей в Советской стране? Касательно проповеди «украинской национальной идеи» – мог, но только частично! Относительно же концепции «биологической политики» – однозначно нет! Впрочем, не это для него было главным.
Даже некоторые современные биографы Рудницкого признают: принимая решение о переезде, он руководствовался материальными соображениями. Да и сам Степан Львович, явившись по приезде знакомиться с крупным украинским деятелем академиком Сергеем Ефремовым, отрекомендовался как человек «аполитичный», которому все равно где работать. Лишь бы платили хорошо!
Мечты поначалу сбывались. Его назначили профессором, определили приличное жалованье, выделили квартиру со всеми удобствами (электричество, телефон, ванна, центральное отопление).
Дальше – больше. В Харькове (тогдашней столице УССР) организовали Украинский институт географии и картографии, а Степана Львовича сделали директором. В письмах к проживавшей в Австрии сестре он хвастался своим благосостоянием и сообщал, что собирается прикупить домик у моря или над Днепром, чтобы проводить там лето. Но постепенно ситуация для него стала ухудшаться.
«Кому много дано, с того много и спросится», – говорит Библия. Чем более высокое положение занимал Степан Львович, тем заметнее становилась его несостоятельность как ученого. Выяснилось, что Рудницкий – никудышный преподаватель (учебный материал он излагал столь нудно, что студенты перестали посещать лекции). Старые профессора отзывались о Степане Львовиче как о невежде и выскочке, чей уровень знаний не выше уровня заурядного провинциального учителя. До Рудницкого доходили подобные разговоры, но он объяснял их тем, что ученые дореволюционной школы сплошь «черносотенцы» и ненавидят его как украинизатора.
Однако оказалось, что и украинские деятели (тот же Сергей Ефремов) невысокого о нем мнения. Степан Львович нашел тут другое пояснение: его не любят за лояльное отношение к большевикам.
Впрочем, главные неприятности ожидали Рудницкого не от местных, а от своих галичан. Обосновавшись в кресле директора института, он принялся зазывать к себе земляков, заполонив вскоре ими учреждение. Не учел Степан Львович одного: амбиций у новоприбывших не меньше, чем у него самого. Чуть осмотревшись, они рассудили, что ничем не хуже директора, и стали требовать себе руководящих должностей.
Началась форменная грызня с взаимными доносами в вышестоящие инстанции. Тогда и пустил Рудницкий в ход слово «гангриновичи», умалчивая, что еще недавно, мотивируя перед властями необходимость вызова из Галиции теперешних оппонентов, он характеризовал их как талантливых деятелей науки.
А тут еще в самый разгар склоки у Степана Львовича произошел конфликт с одним из аспирантов – Юрием Платоновым. Тот проанализировал зарубежную научную литературу по географии и установил, что на работы Рудницкого (ни на прежние, ни на нынешние) никто не ссылается. То есть попытка директора позиционировать себя как авторитетного ученого лишена оснований.
Известно, что обнародованием неприглядной правды можно оскорбить куда сильнее, чем самой грязной клеветой. А это была правда. Со Степаном Львовичем случилась истерика. Он потребовал немедленного увольнения аспиранта, угрожая в противном случае уволиться самому и уехать за границу.
Аспиранта, конечно, уволили. Спешно собранный «ученый совет» проголосовал за такое решение, несмотря на то Платонов являлся одним из тех энтузиастов, чьими усилиями организовывался институт. Удалось директору усмирить и взбунтовавшихся земляков (их перевели в другие учреждения).
Победа оказалась возможной, так как власть все еще поддерживала Рудницкого. Ему покровительствовал всемогущий нарком просвещения Николай Скрыпник. Но так было до поры до времени.
Жадность сгубила
Пережитая нервотрепка подорвала здоровье Степана Львовича, однако не заставила его сделать выводы. Наоборот, уверившись в собственной неуязвимости, Рудницкий продолжил погоню за деньгами.
В 1929 году Скрыпник буквально продавил «избрание» своего протеже в академики Всеукраинской академии наук. Тут же Степан Львович занял еще несколько доходных мест. Он возглавил академические кафедру географии, комиссию краеведения, музей антропологии, стал руководителем отдела географии в редакции «Украинской советской энциклопедии».
Звания и должности увеличивали доходы, но не повышали квалификацию. Гангринович оставался гангриновичем, и это выявлялось все больше.
Первый «звонок» прозвучал в 1930 году. Специальная ведомственная комиссия, обследовавшая Институт географии, констатировала, что за три года там не было подготовлено ни одного (!) специалиста. Между тем НИИ организовывали прежде всего для подготовки национальных научных кадров для молодой республики.
Современный украинский биограф Рудницкого, при явной симпатии к своему герою, признает: его провал был полный, почти по всем направлениям – на участках физической географии, современной геоморфологии, гидрографии, климатологии, биогеографии, краеведения и страноведения.
«Небольшой успех» Степана Львовича биограф отмечает лишь «на участке картографии» – директор подготовил несколько карт. Но и этот успех на поверку оказался липовым. Рудницкий трудился над картой «этнографического расселения украинского народа». В духе своих воззрений он провел этническую границу Украины по Каспийскому морю и Кавказским горам.
Даже в ведомстве Николая Скрыпника, намеревавшегося отхватить от РСФСР и присоединить к Украинской ССР часть территории, отметили, что Степан Львович погорячился – его карта «не была достаточно обоснована статистическими данными».
Это было форменное фиаско заезжего гангриновича. Именно заезжего – переписка Рудницкого свидетельствует: родиной он считал Галицию, но не восточную часть Украины.
Катастрофа
Одну за другой терял Степан Львович высокие должности. Его смещали, убедившись, что пользы от него никакой. Пока Скрыпник оставался наркомом просвещения, Рудницкий еще держался в директорском кресле. Однако в феврале 1933 года покровителя перевели на другую работу.
К тому же обострилась международная обстановка. К власти в Германии пришел Гитлер, а сходные с нацистскими взгляды Степана Львовича не являлись секретом для соответствующих органов.
Его арестовали в марте 1933 года по обвинению в сотрудничестве с подпольной Украинской военной организацией (УВО) и шпионаже в пользу Германии. С перепугу Рудницкий сразу во всем признался, а заодно дал показания на других украинских деятелей, которыми интересовалось следствие.
Модные в эпоху перестройки и постперестройки заявления, будто следственные дела такого типа были сфабрикованы ГПУ, не во всем соответствуют действительности. В начале 1930-х годов, в отличие от позднейших времен, обвинения строились на реальных фактах. Другое дело, что сами факты трактовались не в пользу подследственных.
Скажем, Рудницкий действительно придерживался убеждений, которые в СССР считались националистическими. И пытался пропагандировать эти убеждения, в чем вполне можно усмотреть содействие националистам из УВО. Он контактировал с приезжавшими в Харьков немецкими учеными, вел с ними откровенные разговоры и сообщал иногда сведения, не предназначенные для посторонних ушей. Вот и основание для обвинения в шпионаже.
Рудницкий завалил научную работу, на которую в совсем не богатой стране были выделены значительные средства. Степан Львович сделал это по глупости и бездарности, но при желании (а оно у следователей было!) легко «отыскивались» и иные мотивы. Добавьте сюда признания, данные вовсе не под пытками, а как бы чистосердечно (потом Рудницкий будет объяснять свою разговорчивость состоянием депрессии).
И еще один момент. Как видно из материалов следственного дела, в тюремной камере он занимался сочинением очередного «научного» труда, исписав сотни листов бумаги.
Данная подробность очень умиляет биографов: дескать, и в тех условиях «ученый» всего себя отдавал «науке». Но один из исследователей обратил внимание на то, что бумагу в следственном изоляторе, да еще и в большом количестве, выдавали исключительно с разрешения следователя (об этом единодушно свидетельствуют мемуары тогдашних узников). Если следователь был так добр к Рудницкому, то по какой причине?
…Степана Львовича приговорили к пяти годам лишения свободы и отправили на Соловки. Там он тоже занимался сочинительством. В 1935 году подал прошение о досрочном освобождении. Получил отказ. А в 1937 году его расстреляли.
В независимой Украине Рудницкого восхваляют. Не напрасно ли? Все-таки не Украину он любил, а деньги.
«Не хотел быть украинцем». Жизнь академика Степана Тимошенко
Выдающийся русский ученый, еще в Российской империи неоднократно удостаивавшийся высоких наград за научные достижения. Белоэмигрант, не порвавший, однако, связей с родиной и избранный в 1928 году иностранным членом Академии наук СССР. Академик Польской, Французской, Американской, Итальянской академий наук, Международной академии астронавтики. Член Американского философского общества и Лондонского Королевского общества. Человек, именем которого американцы назвали специальную золотую медаль для награждения талантливых инженеров-механиков. Основоположник науки прикладной механики в США. Все это – о Степане Прокофьевиче Тимошенко, малорусе по происхождению, уроженце Черниговщины.
Казалось бы, в современной Украине имя славного земляка должно быть у всех на устах. Им следовало бы гордиться перед миром. Дескать, вот каких гениев рождает Украинская земля! Тем более что и для Украины Тимошенко сделал немало. Он плодотворно трудился в Киевском политехническом институте (КПИ), являлся одним из организаторов Украинской академии наук (УАН), входил в число первых ее академиков.
Однако в Украине, где часто возводят в «великие» полнейшие ничтожества, о Степане Тимошенко говорят сквозь зубы, а то и вовсе молчат. Правда, ему поставили скромный памятник во дворе одного из корпусов КПИ (об этом памятнике и среди киевлян знают немногие). Назвали его именем Институт механики Национальной академии наук. И все! В пантеоне местночтимых знаменитостей Тимошенко не числится. Почему? Причину довольно откровенно поведал один из современных украинских псевдоисториков. Ученый, оказывается, «не хотел быть украинцем», не содействовал «украинскому национальному возрождению», считал себя русским. А раз так, то, по мнению «национально сознательных» деятелей, чествовать его нечего.
Надо признать: претензии, предъявляемые Степану Прокофьевичу, имеют под собой основание. Политикой он не занимался, за независимость Украины не боролся и вообще считал малорусов (и себя в том числе) частью русской нации. Осуждать за это Тимошенко или одобрять – пусть каждый решает самостоятельно. Но рассказать о нем следует.
Он появился на свет 23 декабря 1878 года в селе Шпотовке Конотопского уезда Черниговской губернии. Отец будущего деятеля науки происходил из крепостных крестьян. Но судьба Прокопа (Прокофия) Тимошенко существенно отличалась от судьбы большинства крепостных. В его старшую сестру влюбился и женился на ней тамошний помещик. Прокоп совсем маленьким был взят в барский дом, воспитывался вместе с помещичьими детьми (своими племянниками и племянницами). Потом выучился на землемера. Стал богатым и уважаемым человеком. Женился на дочери управляющего имением графов Браницких. В этом браке и родился Степан.
Вскоре после рождения первенца Прокоп Тимошенко сам стал помещиком. Заработанных за много лет денег хватило, чтобы приобрести имение.
Нужно отметить, что помимо материального благосостояния в семье Тимошенко заботились и о поднятии уровня культуры. Степан Прокофьевич вспоминал, как зимними вечерами, если отец был свободен от хозяйственных забот, все собирались в гостиной, и мать вслух читала литературные произведения, в частности стихи Тараса Шевченко.
«Шевченко писал языком Киевской губернии, и некоторые слова казались отцу непонятными, – писал ученый в мемуарах. – Но мама, знавшая польский язык, могла понимать без всяких затруднений». Данное свидетельство весьма любопытно. Оно наглядно опровергает миф о будто бы давнем существовании единого украинского языка, понятного во всех концах Украины. Как видим, даже жители соседних губерний не всегда могли уразуметь речь друг друга.
Кстати, в родительском доме Тимошенко разговаривали на распространенном в тех краях диалекте. К этому говору с детства привык и Степан Прокофьевич. Уже много позднее, учась в Петербурге, он все еще говорил по-русски с сильным акцентом.
В Петербург же Тимошенко попал в 1896 году, по окончании Роменского реального училища. Выпускники подобных учебных заведений не имели права поступать в университеты. А потому приехавший в столичный город юноша подал документы в Институт инженеров путей сообщения, в просторечии называемый Путейским. Вступительные экзамены он сдал успешно и стал студентом.
Что бы там ни рассказывали сегодня об угнетении украинской культуры, якобы имевшем место в Российской империи, в то время в столице страны шли украинские концерты, устраивались спектакли. Из Малороссии с гастролями приезжали театральные труппы. Существовало и украинское землячество – студенческая «Громада», занимавшаяся (конечно, тайно) политикой.
Но Тимошенко политическое движение украинских сепаратистов не поддерживал. А вот культурные мероприятия посещал с удовольствием. «Украинской политикой я никогда не интересовался и считал себя русским, – признается он в уже упомянутых мемуарах. – Украинский язык, на котором говорили наши крестьяне, я знал, но так называемым литературным украинским языком, разработанным главным образом в Галиции и включавшим немало польских слов, не интересовался. Относился к украинскому языку как швейцарец или баварец к местному наречию. Они любят иногда на нем поговорить с близкими, но в школе предпочитают общенемецкий литературный язык».
Учился Тимошенко хорошо. После окончания вуза отслужил год в армии (службу проходил в саперном батальоне). Женился. Устроился на работу. «В то время в России люди с высшим образованием обыкновенно без труда находили занятия, – будет вспоминать он. – Каждый студент знал, что, окончив школу, он сможет устроиться. Жизнь была сравнительно легкой».
Работать Степан Прокофьевич начал в 1902 году на должности ассистента механической лаборатории Путейского института. Зарплаты молодого специалиста вполне хватало не только на пропитание, но и на то, чтобы снять в Петербурге трехкомнатную квартиру. Кроме Тимошенко с женой, там жили два его младших брата, также приехавшие в столицу учиться.
Меньше чем через год Степан Прокофьевич перешел на работу в только что открытую механическую лабораторию при Политехническом институте. А в 1906 году его пригласили преподавать в КПИ.
В Киеве Тимошенко проработал более четырех лет. Читал лекции. Писал научные труды, за которые, между прочим, был удостоен премии имени Д.И. Жуковского. Учрежденная в 1901 году, эта премия присваивалась раз в десятилетие за выдающиеся достижения в механике. Таким образом, Степан Прокофьевич стал первым и, как оказалось, последним ее лауреатом.
В 1909 году ученый занял должность декана инженерно-строительного факультета КПИ. Только вот этот несомненный карьерный успех неожиданно обернулся через полтора года неблагоприятными последствиями.
31 января 1911 года Тимошенко подписал протест против запрещения правительством студенческих сходок. Подписал вместе с несколькими десятками других работников высшей школы, из солидарности с коллегами. Будь Степан Прокофьевич простым преподавателем, возможно, все бы для него обошлось. Но он был деканом. И спустя несколько дней приказом министра торговли и промышленности (в ведомстве которого находился КПИ) вместе с двумя другими деканами-подписантами был отрешен от должности и уволен из института.
Ученый вернулся в Петербург. Преподавал в Электротехническом, Политехническом, Путейском институтах. Трудился консультантом на судостроительных заводах. В 1913 году вновь был утвержден в профессорском звании. Во время Первой мировой войны энергично работал на оборону страны как эксперт военно-инженерного совета по строительной механике.
Политика вновь ударила по нему в 1917 году. Нет, в политической деятельности Тимошенко по-прежнему не участвовал. Но революционные потрясения не могли не сказаться на жизни самых аполитичных людей.
С Февральской революцией начался развал страны. О нормальном преподавании в вузах не могло быть и речи. Студенты не посещали лекций, предпочитая шататься по митингам. Жить становилось все труднее. Начались проблемы с продовольствием.
В конце весны 1917 года Степан Прокофьевич раньше обычного ушел в отпуск и уехал с семьей в Крым. В августе того же года, возвращаясь обратно, завез жену и детей в Киев, где к тому времени проживали его родители. А сам отправился в Петербург.
Увы, положение в столице было еще хуже, чем весной. Совет Института инженеров путей сообщения обсуждал вопрос об эвакуации вуза на юг. Тимошенко командировали в Украину подыскать соответствующие помещения.
Он посетил Харьков, Полтаву, Киев. В Харькове и Полтаве институт приняли бы с радостью, но не нашлось подходящих зданий. В Киеве же, где помещение, вероятно, найти бы удалось, уже хозяйничала Центральная рада. А она давать приют «москалям» не собиралась. Степан Прокофьевич вернулся ни с чем.
Он опять поехал в Киев на рождественские праздники – к семье. И остался надолго. Разгоралась Гражданская война. Ехать в Петербург стало небезопасно, да и незачем…
В столице нового Украинского государства Тимошенко пережил никчемное правление Центральной рады, террор большевиков, приход немцев, снова правление Рады, гетманский переворот. Степан Прокофьевич возобновил свою преподавательскую деятельность в КПИ. Когда при гетмане Павле Скоропадском была создана комиссия по организации Украинской академии наук, ученый вошел в ее состав, а затем стал академиком.
Протоколы Общего собрания УАН свидетельствуют: Тимошенко и ряд других академиков (Владимир Вернадский, Николай Кащенко и др.) выступали против насильственной украинизации, последовательно отстаивали права русского языка в Украине. Степан Прокофьевич, помимо прочего, возражал против принципов создания новой украинской научной терминологии, слова для которой брались из иностранных языков с единственной целью – заставить украинских ученых отказаться от привычных русских терминов.
«Я противник самостоятельной Украины и даже противник введения украинского языка в сельских школах», – говорил Тимошенко гетманскому министру просвещения Николаю Василенко и указывал на факты, когда сами украинские крестьяне требовали сохранения русскоязычной системы образования.
Впрочем, споры вокруг языкового вопроса были возможны только до свержения гетмана. Пришедшая ему на смену петлюровская Директория начала бесцеремонно украинизировать все подряд. Власти пригрозили уволить Тимошенко, если он не прекратит разговаривать в академии на русском языке.
Угроза не подействовала. Степан Прокофьевич продолжал говорить по-русски, а петлюровцы вскоре бежали из Киева под ударами большевиков. Однако и правление последних, с их хамским отношением к интеллигенции, было для ученого непереносимым. В конце Гражданской войны, когда стало ясно, что красные берут верх, он решился на эмиграцию…
Какое-то время Тимошенко читал лекции в Загребском политехническом институте. Позднее переехал в США. Работал инженером, потом преподавал в университетах – Мичиганском, Стэнфордском.
Первый раз в СССР он приехал в 1958 году. Из Вены самолетом прилетел во Львов. «Я в России! Кругом русские люди, русская речь» – так опишет Тимошенко свои первые впечатления от пребывания после долгого перерыва на родной земле. Эту фразу, да еще по отношению к Львову, «национально сознательная» общественность не может простить ученому до сих пор.
Степан Прокофьевич побывал в Киеве, Харькове, Москве, наконец, в Ленинграде. В Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта (бывшем Путейском) ему предоставили возможность принять экзамены у студентов.
Через девять лет Тимошенко совершил еще одну поездку на родину. Похоронив жену и выйдя на пенсию, последние годы жизни он провел в Западной Германии, в семье старшей дочери. Умер Степан Прокофьевич в 1972 году. О нем необходимо помнить. И не только как о великом ученом. Всей своей жизнью Тимошенко доказал, что можно быть и малорусом (украинцем, если пользоваться современной терминологией), и русским. Одно другому не противоречит. Кажется, понимание этого актуально сегодня как никогда.
Взлеты и падения Симона Петлюры
Так за что же, ради Бога, вы, украинцы, считаете этого человека вождем? Ведь вы называете себя великой культурной нацией, вы не готтентоты, у которых не нужно никаких культурных ценностей, чтобы быть вождем, хотя и они требуют от своих вождей своеобразного знания, умелости, храбрости, мужества, самоотдачи. Но разве было хоть это у Петлюры?
Владимир Винниченко
Долгое время его называли «злейшим врагом украинского народа», «главарем контрреволюционных банд», «предателем, продававшим Украину всем желающим». Сегодня для многих он «великий патриот», «герой украинской революции», «вождь национально-освободительного движения, отдавший жизнь за свободу Украины». Кем же на самом деле был Симон Васильевич Петлюра?
Он родился 10 мая 1879 года в пригороде Полтавы в семье извозчика. В детстве ничем особым не выделялся. Помогал отцу, учился в бурсе, затем в семинарии. Учеба давалась ему нелегко. Уже после первого курса семинарии Семена (таким было его настоящее имя) оставили на второй год. Да и в дальнейшем не блистал он успехами. В конце концов из семинарии его исключили. Некоторое время спустя Петлюра попытался сдать экзамены за семинарский курс экстерном, но провалился. Так и остался он недоучкой. А таким был прямой путь в революцию.
По этой дорожке и пошел Семен. Точнее, Симон. Еще в семинарии Петлюра стал называть себя на французский манер и требовал, чтобы так обращались к нему другие. Но и под новым именем оставался он ничем не примечательной личностью. Состоял в Революционной украинской партии (РУП). Распространял листовки. Попался. Был арестован. Освобожден под денежный залог (отцу пришлось продать единственную принадлежавшую семье десятину лесных угодий). Бежал за границу. После объявления в 1905 году амнистии вернулся в Россию. Вступил в Украинскую социал-демократическую рабочую партию, образовавшуюся на руинах РУП. Но даже в этой карликовой партии он пребывал на вторых ролях.
С поражением революции заглохла и революционная деятельность Петлюры. Он устроился в украиноязычную газету «Рада». Но там пришелся не ко двору (слишком уж был малокультурным и невоспитанным). Симон Васильевич переходит в другую украиноязычную газету – «Слово». Становится ее редактором. Пишет статьи. И помимо прочего, пытается свести счеты с бывшими работодателями. Он обвиняет «Раду» в… украинском национализме. Интересная деталь: ярлык «украинский буржуазный национализм» вовсе не изобретение советских времен. До революции навешиванием этого ярлыка на оппонентов занималась редактируемая Петлюрой газета «Слово». Разве что звучало чуть-чуть по-иному: «мелкобуржуазный украинский национализм».
В 1909 году «Слово» закрывается из-за недостатка читателей. Симон Васильевич уезжает в Петербург. Работает в частной фирме бухгалтером. Вечерами посещает заседания украинской «Громады». Вступает в масонскую ложу. Это способствует карьере. Со временем масоны помогают Петлюре переехать в Москву (там у него к тридцати годам появляется первая и единственная в его жизни женщина). Когда в 1912 году открывается журнал «Украинская жизнь», Симон Васильевич устраивается туда. Здесь встречает он начало Первой мировой войны.
На грозное событие Петлюра откликнулся специальной статьей. Призывает украинцев выполнить свой патриотический долг, в том числе на поле брани. Сам же делает все возможное, чтобы уклониться от мобилизации. Масонские «братья» определяют его в Земгор – Всероссийский земский и городской союз, общественную организацию, занимавшуюся снабжением войск. Работа в Земгоре гарантировала от призыва в армию и вдобавок была очень выгодной в материальном отношении. Так «воевал» Петлюра до 1917 года.
Революция открыла перед ним новые перспективы. Симон Васильевич едет в Киев, где активизировалось украинское движение. И поспевает вовремя. Только что созданная Центральная рада озабочена созданием собственных вооруженных сил. По ее инициативе основывается Украинский военный комитет. Но претендовавший на пост главы комитета поручик Михновский не устраивал центральнорадовских политиков. Психически неуравновешенный, мнящий себя украинским Наполеоном, он никому не желал подчиняться. Других же претендентов не было. Тут и подвернулся Петлюра. Пусть не военный, но имеющий отношение к армии, послушный (как тогда думали), Симон Васильевич был подходящей кандидатурой. И оказался во главе «украинских войск». Войск, которые еще надо было создать.
В начале «славных» дел
Задача оказалась непростой. На призыв комитета откликнулись в основном дезертиры. Как вспоминал один из участников тех событий, эти «добровольцы» готовы были объявить себя не только украинцами, но и китайцами, лишь бы не воевать. Лозунг «Не пойдем на фронт, пока из нас не сформируют украинские полки» пришелся им по душе. Разумеется, даже организовавшись в такие полки, дезертиры не хотели и слышать о фронте. Явившегося к ним с уговорами Петлюру они обругали, пригрозив прибить, если явится еще раз. Перепуганный Симон Васильевич урок усвоил. Создавать настоящие полки – дело рискованное. Гораздо безопаснее сидеть в кабинете и сочинять приказы, заранее зная, что никто их не будет исполнять. Этим Петлюра и занялся.
Впрочем, пока «военный комитет» был чем-то вроде частной лавочки, деятельность его председателя выглядела невинной забавой. Осложнения начались после падения Временного правительства и провозглашения Украинской Народной Республики (УНР). Симон Васильевич стал генеральным секретарем (министром) военных дел, но продолжал «забавляться» приказотворчеством. В ответ на угрозы Совета народных комиссаров по адресу Центральной рады Петлюра приказал украинским войскам под Петроградом начать операции против большевистской столицы.
Вряд ли можно было придумать что-то более глупое. Не было под Петроградом «украинских войск». Если только не считать таковыми солдат-украинцев Северного фронта, которые в эти дни массово бросали окопы и уходили домой. Дурацкий (ну не подберешь тут иного слова!) приказ Петлюры лишь ускорил вторжение красных в Украину. Вторжение, выявившее, чего стоят созданные Симоном Васильевичем «украинские полки». Они разбегались еще до приближения противника.
В декабре 1917 года Петлюру сместили с поста министра, обвинив в поражениях. Обвинение, по правде говоря, было не совсем справедливо. В условиях общего развала создать из дезертиров боеспособные подразделения не смог бы, наверное, и действительно мужественный человек, профессионал. Куда уж там Петлюре! Из него просто сделали козла отпущения. Но оставался он в этой роли недолго.
Успехи и неудачи
В январе 1918 года Симон Васильевич становится командиром гайдамацкого Коша Слободской Украины. Кош (около 150 бойцов) сформировал бывший офицер Николай Чеботарев. Но, будучи человеком малоизвестным, Чеботарев предложил командование фигуре более значительной – бывшему военному министру. Во главе Коша Петлюра выступил из Киева на «большевистский фронт». Правда, понюхать пороху в тот раз ему не довелось. В украинской столице вспыхнуло восстание, и гайдамакам пришлось срочно возвращаться назад.
В биографиях Петлюры (сопоставимых по лживости разве что с биографиями «великого Сталина») рассказывается, какой небывалый героизм проявил он в боях с восставшими, как под вражеским огнем бесстрашно вел свой Кош на штурм завода «Арсенал». Все это вымысел. Гайдамаки вошли в Киев, когда восстание в большинстве районов было уже подавлено. Окруженный войсками УНР «Арсенал» еще держался. Но, узнав, что к осаждавшим подошло подкрепление, защитники завода пали духом. Они прекратили сопротивление.
А вот в чем действительно приняли участие петлюровцы, так это в расстрелах пленных. Наверное, не надо судить их за это строго. Шла Гражданская война. Жестокость (иногда оправданная, иногда нет) была присуща всем воюющим сторонам. Однако и героизмом расстрел безоружных людей назвать трудно. Тем более что через несколько дней гайдамаки вместе со своим «героическим» командиром дружно бежали перед ворвавшимися в Киев красногвардейцами.
Вернулись они уже с немцами. По просьбе Центральной рады германская армия развернула наступление на большевиков, выбила их с Правобережной Украины и подошла к Киеву. Чтобы создать видимость освобождения столицы украинскими войсками, немцы остановились на окраине и пропустили в уже оставленный красными город подразделения армии УНР. Среди них был и Кош Слободской Украины. Но если большинство украинских формирований, пройдя парадом по киевским улицам, отправились дальше воевать, то петлюровцы не торопились. Симон Васильевич добивался своего назначения на высокий пост в правительстве и потому задержал Кош. Это было ошибкой.
Гайдамаки вели себя как разбойники. Каждое утро на улицах находили тела убитых и ограбленных ими людей. Терпение немцев (а реальной властью были они) лопнуло быстро. Кош вывели из города и расформировали. Петлюру отправили в отставку. Он вновь оказался не у дел.
Выручили масонские связи. Симона Васильевича сделали главой киевского губернского земства. В этой должности он встретил гетманский переворот. В отличие от большинства украинских деятелей глава киевских земцев не перешел в оппозицию сразу. Наоборот, он зачастил к Скоропадскому, выпрашивая кредит в 100 миллионов рублей («на земскую деятельность»). Гетман не возражал. Однако предложил, чтобы деньги выделялись для уплаты по определенным счетам. Петлюра же хотел получить всю сумму сразу в полное и бесконтрольное распоряжение. Отказ толкнул его в лагерь врагов режима.
Оппозиция не очень тревожила Скоропадского. С ней практически не боролись. Лишь время от времени кого-нибудь из оппозиционеров арестовывали на несколько дней. Так поступили и с Петлюрой. Но Симону Васильевичу не повезло. Через два дня после ареста российские эсеры убили в Киеве немецкого фельдмаршала Эйхгорна. Теракт повлек за собой ужесточение репрессий. Возможно, поэтому Петлюру не освободили вовремя. А может быть, в водовороте событий о нем просто забыли. Как бы то ни было, Симону Васильевичу пришлось провести за решеткой долгих три с половиной месяца. Но нет худа без добра. Тюремное сидение подняло его авторитет. И когда Петлюра вышел на свободу, ему сразу же предложили принять участие в заговоре против гетмана.
Главный атаман
Антигетманское восстание – пик в политической карьере Петлюры. Пока остальные заговорщики совещались, Симон Васильевич втайне от них устремился в Белую Церковь. Там стоял полк галицких сечевых стрельцов – ударная сила заговора. Петлюра заявил стрельцам, что уполномочен начать восстание. Он провозгласил воссоздание УНР и объявил себя главным атаманом республиканских войск. Не подозревая, что перед ними самозванец, стрельцы подчинились. Позднее офицеры армии УНР ругались, говорили, что Петлюра начал восстание «як Пилип з конопель», без достаточной подготовки. Это привело к лишним потерям. Но что значили для Симона Васильевича жизни нескольких сотен или даже тысяч людей? Главное, что он (он!) оказался во главе, он стал главным атаманом!
В самом деле, когда настоящие руководители заговора прибыли в стан стрельцов, было уже поздно. Повстанцы были уверены, что их вождь – Петлюра. Разоблачить его значило вызвать ненужную смуту. И все оставили как есть. Тем более что полководческого таланта от главного атамана не требовалось. Боевыми операциями руководили командиры стрельцов. Да и противник был слаб – сопротивление гетманцев сломили за четыре недели.
Вступление победителей в Киев ознаменовалось массовыми убийствами и грабежами. Кровавый шабаш продолжался все время петлюровщины. За период Гражданской войны власть в Киеве менялась тринадцать раз, но, по признанию киевских обывателей, не при ком разгул уголовщины не был таким буйным, как при Петлюре. Между тем надвигалась новая гроза. Повстанческие отряды состояли в основном из крестьян, недовольных земельной политикой Скоропадского. Свергнув гетмана, они разошлись по домам. В распоряжении Симона Васильевича остались только стрельцы и небольшие подразделения гайдамаков. А с востока опять наступали красные.
Еще можно было спастись. На юге Украины высадился французский десант. Французы готовы были помочь войсками и оружием, но потребовали, чтобы в отставку ушел «бандит Петлюра». На такую жертву Симон Васильевич не мог согласиться. Переговоры сорвались. УНР была обречена.
Некоторые из петлюровских деятелей деликатно называют свой исход из Киева в феврале 1919 года «ускоренным отступлением». Но это было не отступление – это было позорное бегство. Красные гнали главного атамана до самой границы. Лишь перебравшись в Галицию, он перевел дух. Все думали, что петлюровщине конец. Однако ситуация вновь переменилась.
Летом 1919 года началось наступление деникинской армии. Не в силах сдержать белогвардейцев, большевики предпочли сдать территорию украинского Правобережья Петлюре. Они рассчитывали, что главный атаман не договорится с Деникиным. И не ошиблись.
Петлюровцы (усиленные пополнением из галичан) столкнулись с белыми в самом Киеве (куда те и другие вошли с разных сторон почти одновременно). Белогвардейцы не собирались конфликтовать, но гайдамаки лезли на рожон. Стычки переросли в бой. Тут и выяснилось, кто есть кто. Численно петлюровцы в семь раз превосходили противника. Но у Деникина была армия, у Петлюры – банда. При первых выстрелах войско главного атамана стало разбегаться. Несколько тысяч солдат Украинской Народной Республики сдались в плен (число сдавшихся превышало количество взявших их в плен белогвардейцев). Симон Васильевич был в отчаянии. Он так мечтал въехать в Киев на белом коне! Крещатик уже украсили портретами главного атамана. Готовился торжественный парад. И все пришлось отменить. Для Петлюры это была трагедия.
За власть Советов
О петлюровщине написано немало. Но и советские историки, и их антиподы тщательно обходили одну тему – о роли Симона Васильевича в установлении на Украине советской власти. А роль он сыграл значительную. Желая отомстить белым, главный атаман прекратил боевые действия против большевиков. Он пропускает через свою территорию красные дивизии, разбитые деникинцами под Одессой и, казалось бы, обреченные на гибель. Делегация УНР ведет в Москве переговоры о подчинении петлюровского войска Реввоенсовету, в который должен был войти представитель Петлюры. Не ожидая окончания переговоров, Симон Васильевич приказывает начать наступление на белых.
Вроде бы он все рассчитал правильно. Основные силы белогвардейцев сосредоточены против красных. На Правобережной Украине у Деникина менее 10 тысяч солдат. У главного атамана – 40 тысяч (большинство – галичане). Большевики обещают помочь оружием и боеприпасами. В тылу деникинцев орудует батька Махно. Все складывается в пользу Петлюры. Но…
Белым понадобилось две недели, чтобы разгромить врага. Петлюровцы массами сдавались в плен. Галицкие части перешли к Деникину. Гайдамаки взбунтовались. Из подчинения Симона Васильевича вышла даже личная охрана. Он бежит на Волынь. Там есть еще верные отряды. Можно организовать оборону. Но Петлюра помышляет только о собственном спасении. И тут произошел эпизод, который следовало бы назвать смешным, если бы не сопровождавшие его грустные обстоятельства.
Наверное, многие помнят антисоветские политические анекдоты. Один из них рассказывал, как чуть было не сорвалась Октябрьская революция (белые броневик украли, а второй броневик Ленин на кепочку поменял). И мало кто знал, что эта байка основана на реальном факте. Только случилось все не с «вождем мирового пролетариата», а с «героем украинской революции».
Он бежал не помня себя от страха. Куда? Ближе всех были поляки. Последние, однако, потребовали за место в товарном вагоне, следующем в Польшу, отдать им броневик. Это был единственный остававшийся у армии УНР броневик. Захваченный в бою, он был предметом гордости гайдамаков. Но Симон Васильевич «махнул не глядя». Адъютант Петлюры Александр Доценко, поведавший эту историю, навсегда запомнил глаза петлюровских солдат и офицеров, смотревших, как забирают их «самое ценное сокровище в войне». Но главному атаману было не до сантиментов. Оказавшись в набитом разным хламом вагоне, он счастливо улыбался и радовался удачной сделке. Вероятно, в тот момент Симон Васильевич не сознавал, что пришла его политическая смерть.
Закономерный финал
Почему погибла УНР? Прежде всего по причине отсутствия народной поддержки. Не была тогда популярна идея самостийной Украины. Но была и другая причина – Симон Васильевич Петлюра.
Он оказался не на своем месте, и знал это. Главный атаман был бездарным полководцем, но в отставку не уходил. Чувствуя, как презирают его профессиональные военные, он с подозрением относился к кадровым офицерам, и это сказывалось на боеспособности его войска. Он плохо разбирался в государственных делах. Но вместо того чтобы набрать себе толковых помощников, тщательно следил, чтоб никто из его окружения не был умнее, чем он сам. В результате кабинет министров УНР состоял из людей «прямо страшных по своему интеллектуальному убожеству» (таким, по словам Доценко, было общее мнение о тогдашнем украинском правительстве). И не столь важно, являлись ли петлюровские министры «законченными идиотами» (как сказал о них Степан Баран, заместитель председателя Национальной рады – некоего подобия парламента в УНР), или просто деятелями, не обладавшими «государственной мудростью» (так выразится давний друг Симона Васильевича Александр Саликовский). У власти оказались лица, не способные управлять страной. Других рядом с Петлюрой быть не могло. И потому его финал закономерен.
На короткий срок главный атаман вернулся в Украину с поляками. Но он уже не был тут хозяином. Даже на белом коне в мае 1920 года в Киев въезжал Пилсудский. Симону Васильевичу разрешили приехать позже. А потом – новое бегство. Злоключения в эмиграции. Трагический конец в Париже. Кто стоял за спиной убийцы? Точного ответа нет до сих пор. Выдвигать версии можно долго. Об этом в следующей главе.
Убийство Симона Петлюры
25 мая 1926 года в начале третьего часа дня по одной из парижских улиц (немноголюдных в это послеобеденное время) уныло брел уже немолодой и явно потрепанный жизнью человек. Одет он был небогато. Поношенный пиджак и стоптанные туфли свидетельствовали о незавидном материальном положении. Спешить человеку было некуда. Немного не доходя до перекрестка, он остановился у витрины книжного магазина, рассматривая выставленные там издания. В этот момент его нагнал мужчина в рабочей блузе и окликнул по имени. Как только обладатель поношенного пиджака обернулся, мужчина выхватил револьвер и открыл огонь.
Первые выстрелы свалили несчастного на тротуар. Побледневший от боли и страха, он успел умоляюще крикнуть: «Хватит! Хватит!» Но убийца продолжал стрелять. Всего было выпущено семь пуль, прежде чем находившийся поблизости полицейский обезоружил преступника. Последний не сопротивлялся, не пытался вырваться и убежать. Его корчившуюся в агонии жертву повезли в ближайший госпиталь. Но помощь врачей уже не понадобилась. Так окончил свой жизненный путь Симон Васильевич Петлюра.
Личность стрелявшего установили быстро. Им оказался Самуил Шварцбард, еврей, уроженец Российской империи, долгое время живший в Украине. Но что двигало преступником? Почему он убил Петлюру? Точного ответа не дано до сих пор. Сам Шварцбард заявил, что хотел отомстить за смерть своих близких, погибших при еврейских погромах во время Гражданской войны. Эту версию принял и французский суд, оправдавший убийцу. В свою очередь, деятели украинской эмиграции почти единодушно (за единичными исключениями) отвергли обвинение в погромах и объявили Шварцбарда агентом ГПУ.
Нет единого мнения и в исторической литературе. Версию о мести за погромы поддерживали многие западные историки (преимущественно еврейского происхождения), а также историки советские. Наоборот, представители исторической науки из украинской диаспоры уверенно говорили о «руке Москвы». Правда, не приводя при этом никаких убедительных доказательств.
«Кремлевский след» активно разыскивают и современные украинские историки. Но пока безуспешно. «При всей очевидности связей Шварцбарда с НКВД документальных свидетельств причастности советской спецслужбы не обнаружено», – отмечается, например, в комментариях к мемуарам Исаака Мазепы, премьер-министра петлюровского правительства, переизданным в Украине несколько лет назад. И хотя это необнаружение доказательств не мешает отечественным петлюроведам твердить об «организованной чекистами расправе», утверждения сии звучат неубедительно.
Так что же произошло на самом деле? Попробуем разобраться.
Версия первая: преступление ГПУ
Чисто гипотетически можно, конечно, допустить, что Шварцбард действовал по указке Москвы. Но возникает вопрос: зачем? Зачем Кремлю понадобилось убивать Петлюру? Объяснения на этот счет сторонников «чекистской» версии сводятся к тому, что, дескать, Петлюра представлял опасность для большевиков как вождь украинского движения. Дело, однако, в том, что к середине 1920-х годов никаким вождем он не являлся. Это потом, после гибели Симона Васильевича, в украинской эмиграции стали говорить о том, каким он был «великим человеком». В эмигрантской печати появились некрологи с признанием «выдающихся заслуг». Были изданы сборники, посвященные памяти Петлюры, и т. п. Накануне же смерти, да и вообще в последние годы жизни, отношение к нему было иное.
Симону Васильевичу пришлось пережить немало неприятных минут. Многие бывшие соратники отвернулись от него. На Петлюру возлагали (и, надо признать, небеспочвенно) ответственность за катастрофу, постигшую украинское движение, за поражение в Гражданской войне. К тому же галичане (а костяк украинского движения составляли именно они) люто ненавидели бывшего главу Директории как предателя, согласившегося от имени Украинской народной республики (УНР) отдать Галицию полякам.
Без власти, без армии, без денег, ненавидимый и презираемый, Петлюра не имел никаких шансов вновь стать лидером. Достаточно вспомнить, что в пропетлюровский Союз украинских эмигрантских организаций Франции записалось всего несколько сотен человек. (Это притом, что во Франции находились тогда десятки тысяч эмигрантов с Украины.) Политический конкурент Симона Васильевича Николай Шаповал собрал вокруг своей «Украинской громады» в три раза больше людей. А были еще другие украинские организации, тоже откровенно враждебно настроенные по отношению к Петлюре.
Все это прекрасно знали большевики. И хотя советская пропаганда по-прежнему называла все украинское движение «петлюровским», в Кремле по этому поводу нисколько не заблуждались. Любые потуги Симона Васильевича снова стать вождем были заранее обречены на провал. Они могли вызвать в эмигрантской среде только новые склоки, что, естественно, играло на руку большевикам. Убивать такого деятеля ГПУ не было никакой надобности.
Обращает на себя внимание и другое. Убийство атамана Дутова, похищение и убийство атамана Анненкова, генералов Кутепова и Миллера, ликвидация полковника Коновальца – это операции, блестяще проведенные советской разведкой. Выполнив «работу», исполнители спокойно уходили от преследования. Ни один агент не попался. В случае же с Петлюрой убийца даже не стал убегать. На спецоперацию ГПУ это не похоже.
Таким образом, версия о «руке Москвы» если и имеет право на существование, то все-таки представляется маловероятной.
Версия вторая: месть за погромы
Эта версия кажется более правдоподобной. Опровергая ее, отечественные историки указывают на то, что Петлюра не был антисемитом, не организовывал еврейские погромы, иногда пытался даже их предотвратить. Это действительно так. «Войско» УНР в значительной своей части состояло из отдельных банд, руководимых собственными атаманами («батьками»). Командованию главного атамана Петлюры они подчинялись лишь номинально, признавая его власть на словах, но не на деле. Фактически каждый «батько» своевольно распоряжался на контролируемой территории. Вот эти-то атаманы в основном и устраивали погромы. Устраивали вопреки запретам Петлюры (плевать они хотели на его запреты). Помешать им или наказать за содеянное Симон Васильевич чаще всего не мог. А если в отдельных случаях и мог, то боялся это сделать. «Батькам» ничего не стоило выступить против него самого, подрывая и без того шаткое положение «главы государства».
Знал ли об этих нюансах Шварцбард? Вряд ли. Он видел только то, что мог видеть рядовой обыватель, оказавшийся в водовороте тех событий. Были погромы в Украине? Были. В них участвовали те, кто называл себя воинами «армии» УНР. А эту «армию» и саму республику возглавлял Симон Васильевич Петлюра. Нужно ли удивляться, что в происходящем винили его? А значит, вполне возможно, что, нажимая на курок в тот майский день, Шварцбард действительно мстил тому, кого совершенно искренне считал главным организатором погромов. Но возможно и другое.
Версия третья
Эту версию не обсуждают историки. О ней не рассказывают журналисты. Ее обходят своим вниманием любители всякого рода «исторических расследований». В отечественном (как, впрочем, и в зарубежном) петлюроведении она практически не освящена. Не напрасно ли?
Еще задолго до революции Симон Васильевич вступил в масонскую ложу. Это способствовало его карьере. Во многом благодаря содействию ордена вольных каменщиков (так иногда называют масонов) Симон Васильевич вознесся к вершинам власти, оказался во главе УНР. Однако в 1919 году между Петлюрой и орденом наметились существенные разногласия.
События, происходившие в Украине в 1917–1919 годах, убедили верховное руководство организации в преждевременности попыток воплощения в жизнь идеи о самостоятельном украинском государстве. Действительно, большинство украинцев (малорусов) в национальном отношении не отделяло себя от великорусов. Лозунги независимости не были популярны среди населения. Насильственный же отрыв Украины от России вызвал бы в массах обратную реакцию, усиливая стремление к объединению. «Украинский народ не имеет сознательности, не проявляет организационных способностей, украинское движение возникло благодаря немецким влияниям, современное положение такое хаотичное», – говорил в 1919 году в Париже бывшему военному министру УНР Александру Жуковскому влиятельный американский масон Льорд.
В связи со сложившимся положением масоны скорректировали свои политические планы. В парижских ложах (Париж являлся одним из мировых центров масонства) обсуждался проект преобразования бывшей Российской империи в Союз республик. Важное место в этом проекте отводилось Украине. Она должна была стать одной из союзных республик, состоящей в федеративной связи с другими частями распавшейся империи. Лишь по прошествии долгого времени, когда в украинцах удастся прочно утвердить сознание того, что они самостоятельная национальность (а не малорусская ветвь русской нации), масоны считали возможным поставить вопрос о государственной независимости Украины.
Проект активно поддержал глава украинского масонства Сергей Маркотун. А вот Петлюре план не понравился. Наверное, в глубине души он сознавал правоту своих масонских «братьев», говоривших о преждевременности строительства Украины как самостоятельного государства. Лучше, чем кто-то другой, видел Симон Васильевич, что народ не хочет отделения от России. В узком кругу он даже как-то обозвал за это украинцев «недозрелой нацией». Проблема заключалась в другом. В самостоятельной Украине Петлюра мог претендовать на главную роль. В Украине, находящейся в федеративной связи с Россией, – нет. А это было для Симона Васильевича решающим фактором.
Петлюра отверг проект, требуя немедленной поддержки масонами идеи полной независимости страны. Он рассорился с Маркотуном и вышел из его подчинения. Правда, чтобы не порывать с орденом, Симон Васильевич тут же основал и возглавил новую «Великую ложу Украины». Но в высших масонских инстанциях «бунт» не одобрили. Орден потому и был силен, что умел ставить стратегические планы выше амбиций отдельных своих членов. Вновь созданную «ложу» проигнорировали. Ее самозваного главу лишили поддержки. А без такой поддержки Симон Васильевич быстро стал тем, кем был раньше – политическим нулем.
Петлюра не сдавался. Оказавшись в эмиграции, он вел переговоры с вольными каменщиками, добивался признания своей «ложи», пытался вернуть поддержку ордена. Безрезультатно. И тем не менее надежда не умирала. Симон Васильевич страстно желал возвращения в большую политику. Скорее всего, это желание особенно разгорелось в мае 1926 года. Как раз тогда в Польше произошел организованный масонами государственный переворот. Член ордена Юзеф Пилсудский, несколько лет назад, казалось, навсегда утративший власть, вновь встал во главе страны. Орден помог ему вернуться.
Для себя Петлюра хотел того же. Вероятно, он вновь стал искать поддержки в масонских ложах. И может быть, снова натолкнувшись на отказ, сорвался, попытался шантажировать «братьев», угрожать разоблачением, выдачей масонских тайн. На такие угрозы орден всегда реагировал одинаково. Ответом Симону Васильевичу стали выстрелы Шварцбарда.
Стоит повториться: это только версия. Однако в ее пользу говорит демонстративный характер убийства. Средь бела дня, на улице, почти в центре Парижа, практически на виду у полицейских. Так не просто убивают – так казнят. Подтверждает данную версию и оправдательный приговор убийце. Судебная система Франции к тому времени находилась под полным контролем масонства. Можно по-разному относиться к личности убийцы и к его жертве. Можно различно оценивать степень ответственности Петлюры за еврейские погромы. Судьи могли учесть смягчающие обстоятельства и наказать преступника не слишком строго.
В конце концов, можно было добиться помилования у президента Франции. Но перед присяжными стояли четко поставленные вопросы: «Виновен ли обвиняемый Самуил Шварцбард в том, что добровольно стрелял в Симона Петлюру 25 мая 1926 года? Его ли выстрелы и раны от них привели к смерти? Имел ли Шварцбард намерение убить Симона Петлюру?» Дать отрицательный ответ на эти вопросы означало откровенно поглумиться над правосудием. Во Франции позволить себе это могла только одна сила.
В заключение – любопытная деталь. Накануне судебного процесса к видному французскому политику, депутату парламента (ставшему позднее премьер-министром) Леону Блюму, обратилась жена Шварцбарда. Она просила политического деятеля употребить все свое влияние, чтобы спасти ее мужа от смертного приговора (получить который за убийство было по закону вполне реально). Блюм ответил мадам Шварцбард, что ей не о чем беспокоиться – подсудимого оправдают. Так и случилось. Леон Блюм был масоном. Он знал, что говорил.
Такие вот версии. Какая из них истинна? Каждый волен выбирать сам. Несомненно, то, что произошло 25 мая 1926 года, – это преступление. Преступление, к сожалению оставшееся безнаказанным. Но несомненно также и то, что Петлюра полностью заслужил то, что получил. По вине возглавляемого им режима погибли сотни тысяч людей. Не только (и не столько) евреев. От петлюровщины страдали все. И больше всего – украинцы. Убийства, остававшиеся без наказания со стороны властей и, мало того, поощрявшиеся властями, стали нормой в петлюровской Украине. И наверное, есть какой-то высший смысл в том, что сам Симон Васильевич стал жертвой аналогичного преступления. Существует такая поговорка: за что боролся – на то и напоролся. К Петлюре она применима в полной мере.
Долгий путь Ивана Огиенко
В этой главе речь пойдет об очередном «великом украинце». Ныне его называют «одним из лучших сынов украинского народа», «ученым с мировым именем», «представителем славной когорты деятелей украинского возрождения», «выдающимся подвижником украинской национальной идеи» и даже «красой нации». Его имя присвоено Каменец-Подольскому национальному университету, Житомирскому училищу культуры, специализированной школе в Киеве. В его честь названы улицы многих городов (Киева, Львова, Житомира, Каменец-Подольского и др.). На малой родине – в городке Брусилове Житомирской области – ему установили памятник. Национальный банк Украины выпустил посвященную ему монету, а Укрпочта – марку. Учреждена премия его имени (вторая многоотраслевая премия в Украине после Шевченковской). Созданы Всеукраинское общество и Благотворительный фонд с аналогичными наименованиями. Проводятся научные конференции, также озаглавленные соответствующе. Массовым тиражом изданы его сочинения (хотя далеко не все). О нем пишут статьи и книги, защищают диссертации. Первый канал Украинского радио в течение полугода транслировал специальную программу – тоже о нем. Ну и так далее.
И тем не менее знают об этом историческом персонаже очень мало. Потому что во всем ворохе информации, изливающейся через СМИ, научную и научно-популярную литературу последних лет, почти нет правды. Собирать ее приходится по крупицам. Кем же на самом деле был Иван Иванович Огиенко?
Босоногое детство
Он родился 14 января 1882 года в крестьянской семье. Был шестым, последним по счету ребенком. Детство будущей знаменитости выдалось нелегким. Ему не исполнилось и трех лет, когда в результате несчастного случая умер отец (попал под конскую повозку).
Без кормильца семья оказалась на грани нищеты. Спасая детей от голода, мать раздала их по добрым людям учиться ремеслу. При себе оставила только младшего. С юных лет он вынужден был трудиться, зарабатывая себе на жизнь. В девять лет мать попыталась отдать его в школу, но тут же забрала обратно: у ученика не было сколько-нибудь приличной одежды, чтобы посещать занятия.
Учиться в Брусиловскую четырехлетку он опять пошел через год. А перед этим несколько месяцев работал вместе с матерью в панской экономии, собирая необходимые средства…
Учился Иван неплохо. Педагоги жалели его, уделяли повышенное внимание. Сам мальчик тоже старался… Выучившись грамоте, он сразу взялся обучать соседских детей (в школу ходили не все). Вот только обучал за деньги.
Подработка позволила Огиенко серьезно поправить материальное положение. Он смог позволить себе подписаться на петербургский журнал «Сельский вестник». А еще во время учебы в начальной школе Иван стал сочинять стихи. Причем на русском языке, что, кстати, в очередной раз (в который уже!) доказывает: русский язык не являлся чужим для малорусов. Местные крестьяне воспринимали русскую литературную речь как культурную разновидность того же языка, на простонародной разновидности которого разговаривали они сами.
По окончании четырехлетки Огиенко отправился в Киев, поступать в военно-фельдшерскую школу. Выбор учебного заведения объяснялся просто: обучение там было бесплатным. Правда, выпускник обязан был шесть лет отработать по специальности.
Учился на фельдшера Огиенко вместе с Ефимом Придворовым, известным впоследствии как поэт Демьян Бедный. Они сдружились, соревновались друг с другом в написании стихов, издавали рукописный журнал, где размещали свои творения. Интерес к русской филологии проявлялся у Ивана все сильнее. Но жизненная дорога пока вела его в другом направлении.
Вступление во взрослую жизнь
С окончанием фельдшерской школы Огиенко поступает на военно-медицинскую службу. Более трех лет служил он в Киевском военном госпитале, в отделении психических и нервных болезней (там зарплата была выше), но тяги к занятиям медициной не испытывал. Иван подумывает о смене профессии, учебе в университете. Он сдает экзамены в Острожской классической гимназии, получает аттестат зрелости и настойчиво добивается разрешения оставить службу для поступления в Киевский университет.
Разрешение ему дали, но с непременным условием поступать на факультет медицинский. Однако увлечение филологией все равно берет верх. Медицину Огиенко изучает формально, стараясь больше посещать лекции на историко-филологическом факультете. Декан последнего, выдающийся русский ученый Тимофей Флоринский, заметил студента-медика и, узнав, в чем дело, помог ему перевестись. Случилось это в 1904 году.
Чуть позднее тот же Флоринский снова пришел на помощь молодому человеку. Тот после увольнения из госпиталя едва сводил концы с концами и, просрочив время уплаты денег за учебу, был отчислен. Но Флоринский и другой видный ученый, Юлиан Кулаковский, помогли бедному юноше восстановиться в университете, выхлопотали ему Кирилло-Мефодиевскую стипендию (25 рублей ежемесячно плюс обучение за счет государства).
Забегая вперед, стоит отметить, что в будущем Иван отплатит Тимофею Дмитриевичу черной неблагодарностью. После окончания университета Огиенко решил стать профессорским стипендиатом (что-то вроде современного аспиранта). По какой-то причине Министерство народного просвещения затягивало его утверждение на кафедре. А деятели украинского движения (к которому уже принадлежал Иван), ненавидя Флоринского за его общерусские убеждения, распустили в обществе слух, что виной всему старый профессор, якобы сделавший политический донос на молодого ученого. И Огиенко не предпринял ничего, чтобы оградить столь много сделавшего для него человека от сплетен, распускаемых соратниками. Но все это будет потом.
Тогда же, в 1904-м, студент-первокурсник о политике не помышлял. К украинству он примкнул в 1906 году под влиянием профессора Владимира Перетца. Не будучи украинцем по происхождению, Перетц, однако, горячо симпатизировал местным сепаратистам и привлек к их организации своего ученика.
Иван начинает сотрудничать в украиноязычных газетах «Громадська думка» («Общественная мысль») и «Рада» («Совет»), записывается в сепаратистское общество ««Просвіта» («Просвещение»). Принял он участие и в издании «Записок Украинского научного общества».
В сочиненных уже в эмиграции мемуарах Огиенко назовет себя «неофициальным редактором» «Записок» и заявит, что оставил их, «разойдясь с М. Грушевским во взглядах на методы работы». Оба этих заявления не вполне соответствовали действительности. «Записки» редактировали Михаил Грушевский (лидер сепаратистов) и Перетц. Иван же работал корректором, иногда переводчиком, хотя, бывало, временно исполнял обязанности секретаря редакции. А уволили его за допускаемые в большом количестве ошибки. Сохранилось письмо Перетца Грушевскому, где первый пытается смягчить вину своего протеже указанием на пережитую трагедию (у женившегося за пару лет перед тем Огиенко умер маленький сын). Но тут же профессор оговаривается: «Конечно, все это не основание выпускать безграмотные книги».
Непросто складывалось и сотрудничество с прессой. Опять же забегая вперед, нужно указать, что, когда в начале 1919 года уже не Ивана, а Ивана Ивановича назначили министром просвещения Украинской Народной Республики, бывший издатель вышеперечисленных газет Евгений Чикаленко записал в дневнике: «Знаю его по сотрудничеству в «Раде», человек тупой, дьявольски самолюбивый». Вероятно, уместно будет привести здесь и отклик об Огиенко его университетского коллеги (также украинского деятеля) Василия Зеньковского: «Малоодаренный, но с большими претензиями, озлобленный и мстительный».
Возможно, личные конфликты, но скорее и прежде всего общая политическая ситуация способствовали постепенному отходу Ивана от украинского движения. Он увлекся политикой в период первой российской революции, когда страну сотрясали революционные бури и казалось, что государственный строй вот-вот рухнет. Однако империя устояла (как выяснилось, ненадолго, но кто ж тогда об этом знал?). И Огиенко оставляет политическую деятельность, сконцентрировавшись на научной карьере.
Профессорским стипендиатом (между прочим, по кафедре русского языка и литературы) он стал. Вопрос в министерстве разрешился благополучно благодаря связям матери его университетского товарища. Звезд с неба не хватал. Его отчет за 1911/12 год учебный комитет министерства оценил на «тройку» (это несмотря на блат). Неудачей закончилась попытка протолкнуть в печать составленные Иваном Ивановичем учебные пособия. На этот проект он возлагал большие надежды, рассчитывая получить значительную материальную выгоду, но каждый раз вердикт министерства был одинаков: «Рассмотренное издание признать для учебных заведений непригодным».
И все же карьера получалась! Огиенко сдал необходимые экзамены (в том числе профессору Флоринскому, не ставшему сводить с ним счеты). В 1915 году он становится приват-доцентом Киевского университета. Может, из него и вышел бы какой-никакой ученый, но коррективу в судьбу внесла революция.
К вершинам власти
С крушением монархии Огиенко вспомнил о своем украинстве. Только вчера составлявший пособия по русскому языку, теперь он требует вытеснить этот язык из системы образования, выступает с публичными лекциями, доказывая необходимость украинизации, и конечно же мечтает о высоких постах. Поскольку явные должности уже расхватали, Иван Иванович обратил внимание на нишу, политиками пока не освоенную. Он разрабатывает проект создания самостоятельной украинской церкви. Главный пункт плана – назначение самого Огиенко генеральным секретарем (министром) вероисповеданий.
Через знакомых церковников (и среди них нашлись политиканы) проект в конце 1917 года передали председателю Центральной рады Грушевскому. Но тот – старый масон – относился к церкви скептически и лишь отмахнулся: «Обойдемся без попов!»
Какую церковь собрался создавать Огиенко? Ответ он дал в мемуарах, подчеркнув, что «самым большим недостатком украинской революции» было то, что она «пошла без своей церкви». Будет ли церковь православной или униатской – Ивану Ивановичу было все равно. Главное, чтобы она служила украинской революции. Не понявшая глубины замысла Центральная рада тем самым нанесла разработчику проекта тяжкую обиду…
Новую карьеристскую попытку он сделал уже в 1918 году, после краха центральнорадовцев. Теперь, однако, искал должность не через религию, что было вполне объяснимо – Министерство вероисповеданий в Украине создали, но министерский портфель предложили не Огиенко.
Иван Иванович оказался в числе деятелей, явившихся к новому правителю – гетману Павлу Скоропадскому – с идеей немедленной украинизации Киевского университета. Всячески поддерживавший украинство, гетман все же понимал, что предложенная мера приведет к быстрой гибели крупнейшего научного и учебного центра страны. Он отказал посетителям (потом в мемуарах назвал ту идею абсурдной). Вместе с тем, не желая обидеть «патриотов», Скоропадский дал согласие на создание параллельно с действовавшими университетами других – украиноязычных. Вряд ли он питал иллюзии относительно научной ценности таких учреждений. Цель их создания была исключительно политическая.
Первый украинский университет решили открыть в Киеве. Но руководящие должности вновь распределили без Огиенко. А потому это заведение его не интересовало. Иван Иванович ухватился за другую возможность – учредить университет в Каменец-Подольском. Там замаячила перспектива стать ректором. Гетманский министр просвещения Николай Василенко очень сомневался в целесообразности создания вуза в глухой провинции. Но кандидат в ректоры настоял на своем.
Одновременно прославился он другим. В том же 1918 году вышла в свет книга Огиенко «Украинская культура. Краткая история культурной жизни украинского народа». Составленная на основе прочитанных автором лекций, она имела скандальный резонанс. Ученые оценили книгу крайне низко. С уничижительной рецензией выступил видный украинский литературовед Владимир Науменко. «Г-н Огиенко, – писал он, – о какой бы странице украинской культурной жизни ни заговорил, не столько внимания обращает на то, чтобы осветить ярким светом эту страницу, показав факты и разъяснив их, сколько сразу же начинает в сильных выражениях уверять, что в таком-то деле или в другом украинцы превосходят всех». Рецензент отмечал, что рассматриваемая книга относится не к научной, а к рекламной литературе, содержит множество фактических ошибок, грешит явной тенденциозностью с уклоном в русофобию.
Так же негативно отозвались об «Украинской культуре» Дмитрий Дорошенко, Юрий Иванов-Меженко, Данило Щербакивский. Зато книга привела в неуемный восторг Симона Петлюру. И, дорвавшись до власти, Симон Васильевич пригласил Огиенко занять пост министра просвещения…
Конечно, Иван Иванович согласился. Впрочем, зная, как быстро меняются в УНР министры, он обусловил согласие сохранением за собой ректорской должности. Предчувствие его не обмануло. Через три недели после получения Огиенко министерского портфеля правительство бежало из Киева (к городу подступали красные). Кочуя по стране вместе с другими министрами, Иван Иванович штамповал указы (главный из них – о тотальной украинизации всех типов школ), но реальной власти, чтобы воплотить их в жизнь, у него не было. Спустя три месяца – в апреле 1919 года – перестал он быть министром и формально.
«Несчастье да и только!»
Новый карьерный взлет последовал осенью. Огиенко получил давно желанный пост министра вероисповеданий УНР. Только территория самой УНР сжалась к тому времени до размера нескольких уездов. Вскоре, не желая сдавать свою временную столицу Каменец-Подольский наступавшим белогвардейцам, Петлюра пригласил туда польские войска, а сам сбежал, оставив договариваться с оккупантами женатого на польке Ивана Ивановича. Огиенко получил еще одну должность – главноуполномоченный…
Уже в эмиграции он напишет на сей счет специальные воспоминания, скромно озаглавив их «Спасение Украины». Иван Иванович будет рассказывать о «большом значении» своей деятельности, благодаря которой, дескать, «на целый год» сохранилась украинская государственность. В действительности никакого значения его деятельность не имела. Всем распоряжались поляки, буквально издевавшиеся над местным населением. С «главноуполномоченным» никто не считался. «Огиенко существовал фиктивно, как «ходатай» по украинским делам», – напишет потом личный адъютант Петлюры сотник Александр Доценко, присланный в Каменец разведать обстановку.
Утешался Иван Иванович только тогда, когда оккупационные власти оказывали ему знаки внимания. «О, они такой мне обед устроили – с такой помпой, как для украинского министра», – радостно сообщал он тому же Доценко непосредственно вслед за жалобами на притеснение населения. «Для меня, – вспоминал сотник далее, – сразу после этого стало ясно, что этот человек был доволен своим положением из-за одного слова «министр». Несчастье да и только!»
Реальной должностью, занимаемой Огиенко, оставалась ректорская. Вот ее он и сохранил еще почти на год. Ну а потом пришлось удирать с поляками…
На чужбине
В эмиграции Иван Иванович сотрудничал с режимом Юзефа Пилсудского. На средства польского правительства издавал свои научные труды. И надо признать, некоторые из них были довольно интересны из-за приводимых фактических данных. Интересны тем, что наглядно и помимо желания автора опровергали распространявшиеся им мифы о древности украинского языка, чуждости украинцам языка русского… Трудно сказать, включал ли Иван Иванович подобные факты в свои книги по недомыслию или руководствовался остатками совести ученого, не считая возможным замалчивать истину. Хочется думать о человеке лучше…
Потом он пошел в услужение к гитлеровцам. В 1940 году вновь взялся за реализацию давней мечты – создание украинской церкви, которая, по его словам, должна «превратить неустойчивую украинскую массу в сознательную нацию». Огиенко принял монашество (под именем Илларион), у иерархов неканонической Польской автокефальной православной церкви выпросил себе сан епископа, за ним – архиепископа и, наконец, митрополита. Слал приветствия Гитлеру. В конце войны перебрался в Швейцарию. Оттуда – в Канаду, где «церковную» деятельность продолжил.
Современные огиенковеды удивляются «поразительным переменам», произошедшим с «митрополитом Илларионом» за океаном. Горячо симпатизировавший ранее униатам, он внезапно обрушился на них с резкими нападками. Между тем объяснялось все просто. В Канаде Огиенко был поставлен в необходимость конкурировать с грекокатолическими архиереями за души (а точнее, за карманы и кошельки) украинской диаспоры. Характерно, что все обвинения против оппонентов строились «митрополитом Илларионом» не по религиозной линии. Какая церковь истинная – не интересовало ни его, ни его конкурентов, ни всю их «паству». Поэтому споры велись вокруг политики. «Уния загнала Украину под Москву!», «Уния разбивает единство украинской культуры!», «Уния – самая большая трагедия украинского народа!» – с такими лозунгами выступал Иван Иванович. Политическую борьбу он вел до глубокой старости. Умер «митрополит» в 1972 году.
Советские пропагандисты когда-то писали об Огиенко как об отщепенце, перед которым лежит «путь позора и вечного забвения». Пропагандисты «национально сознательные» сегодня утверждают обратное: забвение Огиенко не грозит, имя его золотыми буквами вписано в историю Украины. Думается, обе стороны в чем-то правы, а в чем-то – нет. Забвению сей деятель не подлежит, но имя его вписано в историю совсем не золотыми буквами. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Это касается всех. Правда об Огиенко медленно, но верно выходит наружу, освещая пройденный им долгий путь. И путь этот – путь позора.
Уроки Игоря Сикорского
Когда-то Владимир Маяковский обращался к «юноше, обдумывающему житье, решающему – сделать бы жизнь с кого» и советовал, с кого именно жизнь следует делать. Думается, тот совет был излишним. Каждый человек индивидуален. Делать свою жизнь с чужой просто неразумно. Но вот использовать опыт других, извлекать из него уроки было бы, безусловно, правильным.
В этом отношении немалый интерес представляет личность выдающегося авиаконструктора Игоря Сикорского. Наш знаменитый земляк был человеком непростой судьбы. Он испытал и радость побед, и горечь неудач. Знал и нужду, и богатство. Пребывал на вершине славы и ощутил на себе нелегкую долю эмигранта. Допускал ошибки. Преодолевал трудности. Своей жизнью Игорь Сикорский как бы преподал уроки грядущим поколениям.
Родился он 25 мая 1889 года в Киеве, в семье выдающегося ученого-медика, профессора Киевского университета Ивана Алексеевича Сикорского. У родителей Игорь был пятым (младшим) ребенком, после трех дочерей и сына. Мать будущего авиаконструктора Мария Степановна, урожденная Темрюк-Черкасова, как и муж, получила медицинское образование, но по специальности не работала, посвятив себя воспитанию детей.
Как-то она рассказала маленькому Игорю о великом итальянце Леонардо да Винчи, трудившемся, помимо прочего, над изобретением летающего корабля. Сын запомнил рассказ. Может, тогда в детской душе впервые и зародился интерес к воздухоплаванию.
Впоследствии этот интерес возрастал. Мальчик рос в окружении книг и особенно любил произведения Жюля Верна, где также встречались описания летательных аппаратов.
В 1903 году Игоря, по примеру старшего брата, определили учиться в столичный Морской кадетский корпус. Учился он хорошо. Был одним из первых учеников. Однако с течением времени все сильнее и сильнее осознавал: морская карьера не для него. Юношу неудержимо влекло небо. Тем более что как раз в те годы в прессе стали появляться заметки об американских изобретателях братьях Райт, совершавших полеты на построенном ими же аэроплане.
Отучившись три года, Сикорский твердо решил уйти из Морского корпуса. Он получил на это согласие отца. Вероятно, тут сказался личный опыт Ивана Алексеевича. Когда-то он, сын и внук сельских священников, отказался от продолжения семейной традиции, покинул духовную семинарию, поступил в университет и не ошибся. Игорь, по сути, сделал то же самое.
Для нас в этом заключается первый урок, преподанный Игорем Сикорским (как ранее и его отцом): род занятий следует выбирать по велению сердца. И, если чувствуешь, что вступил не на тот путь, пока не поздно, меняй направление.
Молодой парень на полгода уехал во Францию. Там он несколько месяцев учился в технической школе, особое внимание уделяя истории и теории авиации. А вернувшись в Россию, поступил в Киевский политехнический институт.
Но опять-таки это было не совсем то. Сикорского не интересовали теоретические дисциплины. В саду возле дома он соорудил своеобразную мастерскую и проводил там все свободное время, задумав сконструировать летательный аппарат. И не такой, какие уже строили, а способный взлетать без разбега (вертолетами машины данного типа станут называть позднее).
В начале 1909 года Игорь еще раз съездил во Францию. Поднабрался знаний. Купил двигатель и другие необходимые материалы. По возвращении приступил к работе.
Наверное, не раз вспомнил он слова, сказанные одним из французских авиаторов: «Изобрести летающую машину – легко, заставить ее летать – трудно». Первый блин вышел комом – аппарат не отрывался от земли. Вторая конструкция получилась уже удачнее – устройство поднимало в воздух свой собственный вес. Но ведь этого было мало. Аппарат должен был выдерживать хотя бы еще вес пилота.
Игорь принял решение отложить дальнейшие попытки, переключившись на создание аэропланов. Тут дело пошло быстрее. 3 июня 1910 года конструктор вывел на взлетную полосу свое детище.
Аэроплан поднялся на высоту полтора метра. Полет длился 12 секунд, за которые Сикорский успел пролететь 200 метров. Для России это был третий полет самолета отечественной конструкции. Для конструктора – несомненный успех, на котором он останавливаться не собирался.
Спустя три недели состоялся новый полет. Набранная аппаратом высота достигла четырех метров. Еще через день Игорь летал уже на высоте 25 метров.
А вот учебу в КПИ изобретатель забросил. На нее не хватало времени. Все возможные отсрочки были использованы. Предстояло выбирать: уходить из института или, оставив увлечение авиацией, пытаться наверстать упущенное по учебной программе. Иными словами, стать авиаконструктором (занятие новое, перспективы не совсем ясны) или дипломированным инженером.
Журавль в небе или синица в руках? Сикорский выбрал «журавля». Здесь второй его урок: дело по душе важнее формального диплома.
А диплом инженера Игорю вручили позднее – в 1914 году. Правда, не Киевского, а Петербургского «политеха». За выдающиеся достижения в самолетостроении.
Достижения действительно были незаурядными. На лично сконструированных самолетах Сикорский устанавливает всероссийские, а затем и мировые рекорды: по высоте, по дальности, продолжительности полета, по количеству взятых на борт пассажиров и т. п. Его разработками заинтересовались военные. В 1912 году Игорь Иванович выигрывает конкурс военных аэропланов. Тогда же его приглашают занять должность управляющего воздухоплавательным отделением Русско-Балтийского вагонного завода.
О талантливом изобретателе узнает император Николай II. Их личное знакомство состоялось на военных маневрах, в которых Сикорский участвовал на своем самолете. С тех пор государь внимательно следил за успехами авиаконструктора. В 1914 году Игорь Иванович был награжден орденом Святого Владимира 4-й степени (гражданский аналог ордена Святого Георгия). Обычно такой награды удостаивались за многолетнюю службу высокопоставленные чиновники, уже имевшие пять орденов меньшего значения. Но для двадцатипятилетнего Сикорского сделали исключение.
Авторитет, которым пользовался авиаконструктор, был огромным. Еще не получив диплома об образовании, он читал лекции студентам столичных вузов, имел европейскую известность.
Случались, однако, и неудачи. Однажды в самолете Сикорского отказал двигатель, потому что туда попал комар. Это тоже являлось уроком: в ответственном деле учитывай даже мелочи. А чуть было не ставшее трагичным происшествие подтолкнуло Игоря Ивановича к мысли о создании многомоторных самолетов.
Конструктора поднимали на смех. Многие уверяли, что создание самолета такого типа невозможно – он, дескать, не взлетит. Но Сикорский шел к цели, не оглядываясь на скептиков (еще один урок!).
Так появился «Русский витязь» – первый в мире четырехмоторный самолет. А затем и его усовершенствованная разновидность – «Илья Муромец». Россия стала родоначальницей новой отрасли авиации – тяжелого машиностроения.
«Богатыри» Сикорского очень пригодились в ходе начавшейся вскоре Первой мировой войны. Они наносили бомбовые удары по военным объектам противника, сея панику в немецких тылах.
А конструктор неутомимо трудился на оборону. Следует помнить, что Первая мировая война фактически была для России Второй Отечественной. Именно так ее тогда называли. Так воспринимал ее и Игорь Иванович. И делал все возможное для победы. Каждый год он разрабатывал по 4–5 новых видов самолетов.
«Сикорский, вероятно, был единственным в мире авиаконструктором, который большую часть времени проводил не в конструкторском бюро, вдали от фронта, а в самой гуще событий, – пишут авторы на сегодняшний день самой полной (если не ошибаюсь) биографии Игоря Ивановича – Вадим Михеев и Геннадий Катышев. – Он получал информацию о поведении своих машин в боевой обстановке из первых рук, от только что вернувшихся экипажей. Это позволяло немедленно вносить необходимые изменения и давать нужные рекомендации экипажу, что сразу повышало эффективность применения воздушных кораблей».
Так продолжалось до 1917 года…
А потом пришла революция. Авиационные предприятия практически прекратили работу. Рабочие беспрестанно бастовали и митинговали. Инженеров терроризировали. Упала дисциплина в войсках. Солдаты требовали запретить летчикам летать. Потому, мол, что скоро будет мир.
Трудиться в таких условиях было невозможно. За весь год Сикорский не создал ни одного самолета. После Октябрьского переворота опасность стала угрожать непосредственно Игорю Ивановичу. Весной 1918 года он был вынужден покинуть страну.
Первоначально конструктор осел во Франции. Но с окончанием войны занятий там для него не нашлось. Сикорский уехал в Америку. Там тоже долго не мог найти постоянной работы. Жить приходилось впроголодь…
Наконец, при финансовой поддержке некоторых русских эмигрантов (в том числе выдающегося музыканта Сергея Рахманинова), Игорю Ивановичу удалось открыть фирму по постройке аэропланов. И здесь не все сразу пошло гладко. Стабильно получать заказы фирма начала лишь с середины 1930-х годов. Талант авиаконструктора расцвел вновь. Помимо разработки самолетов, Сикорский вернулся к давней мечте – созданию вертолетов. На этот раз успешно. Его творения получили признание во всем мире. Из бедного эмигранта Игорь Иванович превратился в состоятельного и весьма уважаемого человека. Потому что в трудную минуту (и даже в трудные годы!) не опускал рук, продолжая бороться с судьбой. Чем не урок для других?
В США наладилась и семейная жизнь Сикорского. Первый раз он женился в России во время революции. К сожалению, неудачно. Семнадцатилетняя красавица-жена увлеклась коммунистическими идеями и отказалась следовать за мужем-монархистом в эмиграцию. Между прочим, это тоже урок: страсть проходит быстро и, если между супругами нет прочной духовной связи, наступает кризис в отношениях. Зато второй брак (с русской же эмигранткой) получился благополучным. Родилось четверо сыновей.
Всем им, а также дочери от первого брака, которую мать вскоре после рождения отправила к Игорю Ивановичу, он озаботился дать образование и (что не менее важно) патриотическое воспитание. Как вспоминал об отце сын Сергей: «Гордость за свою нацию и любовь к России он сумел воспитать и у нас, своих детей. Дома мы говорили только по-русски».
Сикорский принимал активное участие в жизни белой эмиграции. Вместе с другими разрабатывал планы борьбы с советской властью. Как-то даже составил проект воздушного десанта в Москву для свержения большевиков.
До самой смерти (в 1972 году) оставался он русским патриотом. Состоял в Союзе государевых людей, в Союзе ревнителей памяти императора Николая II. Участвовал в работе Русского национального общества взаимопомощи. Был членом правления Объединения русских национальных организаций. Возглавлял одно из отделений Пушкинского комитета. Позднее был избран президентом Толстовского фонда. Кстати, и фирму Сикорского неофициально называли русской – большинство ее сотрудников являлись выходцами из России.
Любопытен еще один факт биографии Игоря Ивановича. В 1933 году, когда его фирма находилась на грани выживания, неожиданно возникла перспектива получения помощи от украинской диаспоры в США. Сикорский был крайне заинтересован в этом. Но диаспоряне были русофобами, а Игорь Иванович от своего происхождения отказываться не захотел. «Род мой, который происходит из села на Киевщине, где мой дед и отец были священниками, чисто украинского происхождения, – писал он представителю диаспоры. – Однако мы считаем себя русскими». Сикорский напоминал, что Украина интегральная (то есть неотъемлемая) часть России, «как Техас или Луизиана – интегральная часть Соединенных Штатов». Он признавал малорусов и великорусов одной русской нацией.
Разумеется, сотрудничество не наладилось.
Вот здесь, пожалуй, главный урок, преподанный Игорем Ивановичем всем нам. На чужбине, испытывая нужду, он оставался русским. Не продался и не отрекся от своих корней, от русского имени! Мы же в Малороссии, в обстановке относительного благополучия, находясь на своей земле, да еще на такой, откуда пошла вся Русь, под влиянием украинизаторской пропаганды превратились в каких-то самостийных украинцев. Неужели не стыдно?
Александр Оглоблин. Портрет хамелеона на фоне эпохи
«Viva Professor!» – так называлась статья, опубликованная в одной из украинских газет. Посвящена она была некоему Александру Оглоблину, именуемому «светочем мировой науки». Не ставлю под сомнение компетентность автора статьи, но все-таки должен заметить, что материал его получился несколько однобоким. Произошло это, вероятно, потому, что он (материал) основан преимущественно на сочинениях Любомира Винара, друга и достойного ученика г-на Оглоблина. А такие сочинения не всегда могут служить источником достоверной информации. Видимо, будет нелишним дополнить рассказанное в «Viva Professor!».
Происхождение
Александр Петрович Оглоблин родился 24 ноября 1899 года. Он действительно принадлежал по материнской линии к знатному казацкому роду Лашкевичей. В многочисленных панегириках, составленных с подачи Винара диаспорными и доморощенными «науковцями», можно прочитать, как гордился Оглоблин предками, как зачарованно слушал в детстве рассказы бабушки о них и как интерес к прошлому семьи перерос в увлечение историей Украины. А еще – как горячо любил Александр Петрович свою мать – Екатерину Платоновну и каким «теплым сыновьим чувством» проникнуты посвященные ей страницы оглоблинских мемуаров.
Гораздо менее известно, что после революции Оглоблин фактически отрекся от матери (ее непролетарское происхождение мешало карьере). Он прервал все отношения и с ней, и с обеими сестрами, не обращая внимания на бедственное положение жившей в нищете родни. Их мольбы о помощи преуспевающий карьерист игнорировал, на письма не отвечал. Мало того, когда в 1932 году Екатерине Платоновне пришел срок умирать, Оглоблин, несмотря на отчаянные просьбы сестер, не захотел приехать попрощаться. Старушка скончалась, так и не увидев сына.
Образование и карьера
Киевский университет Александр Петрович не заканчивал. Он проучился там меньше двух лет. В мае 1919 года по приказу наркома просвещения УССР Владимира Затонского всех студентов отправили работать учителями. Но Оглоблин учительствовал недолго. Он предложил свои услуги властям, вступил в компартию (потом, на склоне лет, скрывал этот факт) и устроился в киевский губнарпрос (губернский отдел народного просвещения), занимаясь насаждением в школах «большевистской системы воспитания». Одновременно Александр Петрович возглавил комиссию по «чистке» педагогических учреждений от «реакционных элементов». Впоследствии в одной из анкет он гордо отмечал, что его усилиями «много реакционных учителей было вычищено».
С той же целью «чистки» от «политически неблагонадежных» оказался он в 1921 году вновь в Киевском университете, преобразованном властями в ВИНО – Высший институт народного образования. В том году ректором там стал приятель Оглоблина Николай Лобода. Он и предложил недоучившемуся студенту преподавать, не обращая внимания на отсутствие у того диплома. Так Александр Петрович стал «профессором» в двадцать два года (чем восхищаются те, кто не знает деталей его биографии).
Информация оглоблиноведов про «высокий уровень лекций историка и большую популярность среди студентов» действительности не соответствует. Об этом, помимо прочего, свидетельствует перехваченное ГПУ в 1923 году письмо группы киевских интеллигентов эмигрантским коллегам. Там, в частности, говорилось: «Кафедру истории Украины занимает Александр Петрович Оглоблин – студент III курса филологического (историко-филологического. – Авт.) факультета, не прослушавший курса и не сдавший даже тех льготных «зачетов», которые полагались вместо бывших полукурсовых и государственных экзаменов. Этот Оглоблин положительное знамение времени. Он именуется профессором и устроил громкий скандал в канцелярии, когда ему выдали удостоверение личности с пометкой «преподаватель», он потребовал наименования «профессор». Научных трудов у него нет никаких, естественно, что даже в среде нынешнего студенчества он пользуется заслуженным презрением».
В самом деле, как свидетельствовали позднее выпускники ВИНО, лекции Александра Петровича были нудными и поверхностными, за что его даже высмеяли в студенческой газете. Не уважали «профессора» и коллеги из числа старых специалистов. Биограф Оглоблина Игорь Верба, весьма благожелательно относящийся к своему герою, но все же пытающийся иногда (увы, далеко не всегда) сохранять объективность, вынужден отметить у него «карьеристскую склонность и ориентацию на новую власть, а главное – революционное новаторство вперемешку с непопулярными мерами по разрушению дореволюционных университетских традиций». «Эти оглоблинские личные качества и усилия, – признает Верба, – мало импонировали части преподавательского корпуса».
Интриганство
Выделялся Оглоблин и таким качеством, как склонность к интригам. Одним из первых это ощутил на себе видный украинский ученый Николай Василенко. В 1922 году Николай Прокофьевич открыл научно-исследовательскую кафедру истории Украины, но не взял туда Оглоблина. Озлобившись, Александр Петрович («человек болезненно самолюбивый» – так отозвался о нем Василенко) принялся всячески мешать деятельности кафедры и в конце концов с помощью Лободы добился ее закрытия.
Тут же он возжелал учредить другую кафедру – под личным руководством (возомнив себя великим ученым, Оглоблин мечтал основать собственную «историческую школу», наподобие школ Соловьева, Ключевского, Антоновича и других историков). Однако амбициозным планам помешало возвращение из эмиграции Михаила Грушевского – новую кафедру разрешили открыть ему.
Александр Петрович всей душой возненавидел конкурента. Он не собирался складывать оружия. Настойчиво просил об открытии еще одной кафедры (для себя). Писал заявления в инстанции, упирая на свои революционные заслуги. Указывал, что его кафедра будет подлинно марксистской в противовес идеологически сомнительному грушевскианству. И чуть было не достиг цели – положительное решение по оглоблинской кафедре было принято. Но…
Грушевский оказался мало похожим на Василенко. Он тоже умел интриговать. Данное Оглоблину разрешение отменили.
Для Александра Петровича это было страшное унижение. Он уже успел с помпой объявить об открытии своей кафедры, набрал себе аспирантов и вдруг… Оглоблин постарался отомстить. Мстил мелко (по-другому не получалось – из политических соображений власти не трогали Михаила Сергеевича, и все доносы на него оставались без последствий). К примеру, когда в Харьковском историческом музее собрались открыть зал, посвященный выдающимся украинским историкам, Оглоблин советовал директору музея (бывшему своему студенту) вычеркнуть из перечня выдающихся фамилию Грушевского (при этом против наличия там собственной фамилии Александр Петрович не возражал).
Вряд ли такие мелкие пакости могли утешить их автора. Зато утешали его успехи. А они у Оглоблина тоже были. Так, он первым в УССР получил степень доктора истории украинской культуры. Получил, разумеется, по знакомству. Помог новый приятель – Михаил Слабченко (они сошлись на почве неприязни к Грушевскому). Защита докторской проходила туго. Оппоненты отмечали слабость работы Александра Петровича, но Слабченко продавил нужный вердикт.
Потом степень долго не утверждали в Укрглавнауке (чиновников смущало, что у новоявленного «доктора истории» нет высшего образования). Однако личные связи и здесь взяли верх. Медленно, но уверенно преодолевал Оглоблин препятствия. Вот только главные неприятности ждали его с другой стороны.
Арест
Арестовали Александра Петровича в конце 1930 года. Нет, в контрреволюционной деятельности его не обвиняли (тут оглоблиноведы привирают). Под подозрение попал брат жены – Александр Фролов, живший с Оглоблиными под одной крышей. А Александра Петровича чекисты взяли, чтобы получить сведения о его шурине. И не ошиблись.
Перепуганный насмерть (наличие контрреволюционера в семейном кругу могло означать крах карьеры), Оглоблин уже на первом допросе отмежевался от родственника и вывалил следователям кучу компромата на него. Фролов, дескать, ярый монархист, пособник белогвардейцев, типичный купеческий сынок и т. п. Вспомнил Александр Петрович и о другом брате жены – Иване, который, по его словам, также являлся заядлым антисоветчиком. Себя же Оглоблин винил только в том, что по причине громадной загруженности общественной работой просмотрел появление классовых врагов в своем доме. «Честью советского ученого» клялся он в верности режиму, указывал на былые заслуги перед властью и обличал, обличал, обличал…
Эти «обличения» сыграли свою роль – братьев Фроловых расстреляли. Александра Петровича можно было отпускать. Но его неожиданно понесло. Доказывая свою верноподданность, Оглоблин принялся «свидетельствовать» против коллег-ученых. Донес на всех, даже на тех, которые считались его друзьями. О каждом вспомнил что-то компрометирующее, каждого объявил врагом советской власти (если не действительным, то потенциальным). Следователям оставалось только слушать…
Нужно особо подчеркнуть: эти показания не вырывались у Александра Петровича под пытками, их не выбивали из него палачи НКВД. Он «стучал» сам, опасаясь за карьеру. И данное обстоятельство характеризует его ярчайшим образом.
Наконец, спустя три месяца, поток «откровений» иссяк. Оглоблина выпустили на волю. Правда, неприятности на этом не кончились. Встревоженное арестом Александра Петровича и не знающее сути дела его институтское начальство поторопилось запустить машину «общественного осуждения», которую нельзя было остановить сразу. Оглоблину пришлось покаяться в ряде ошибок. Но теперь на такие мелочи можно было не обращать внимания. Главное – он был на свободе и мог дальше доказывать свою верность и полезность режиму!
«Чистильщик»
И ведь доказывал! Всюду, где работал Александр Петрович (периодически его переводили с места на место), он устраивал политические «чистки», разоблачая «врагов народа» (в том числе «украинских буржуазных националистов»). Именно Оглоблин возглавлял комиссии, занятые идеологической «проработкой» сотрудников (бывало, после таких «проработок» людей сразу арестовывали органы НКВД). Активное участие принял он и в разгроме «фашистской школы Грушевского». Михаила Сергеевича, все еще обладавшего статусом неприкосновенности, перевели с повышением в Москву, но на его учеников в Украине развернулась настоящая охота. Тут уж Александр Петрович отыгрался за давнишние обиды…
Расправился он и со своим бывшим (из студенческих времен) научным руководителем, известным историком Митрофаном Довнар-Запольским. В подленькой статье «благодарный» ученик обвинил старого профессора в связях с западными империалистами, в «национализме» (русском, украинском и белорусском одновременно), вспомнил о его сотрудничестве с деникинцами, обозвал «обломком капиталистического прошлого на советском пространстве», «мастером двурушничества», «фашистом» и т. д. (Кстати, досталось в статье и другому «фашисту», бывшему покровителю, к тому времени уже репрессированному Михаилу Слабченко.)
Когда Довнар-Запольский прочитал оглоблинский опус, его больное сердце не выдержало… А Александр Петрович искал уже новую «мишень»…
Мимоходом занимался он и «наукой». Это потом, в эмиграции, Оглоблин будет жаловаться, что идеологический пресс мешал ему создавать подлинно научные работы. Тогда же, в 1930-х, свои писания он считал шедеврами, даже требовал выдвижения их на соискание Сталинской премии. И хоть премию ему не дали, карьера была успешной. Александр Петрович выбился в начальники, замаячила перспектива стать академиком. Но наступил 1941 год…
Война
Когда фронт приблизился к Киеву, власти начали эвакуировать деятелей науки. Эвакуировали согласно специальному списку, куда включали только крупных ученых. А Александра Петровича не включили. Это обидело его до крайности. Скорее всего, обида и побудила Оглоблина ждать немцев. И не просто ждать. Вступившие в Киев фашистские войска он встречал в первых рядах, хлебом-солью.
Усердие заметили, оценили. Александра Петровича назначили киевским бургомистром.
Напрасно сегодня оглоблиноведы оправдывают сотрудничество своего героя с оккупантами. Оправдывать (и то не всегда) можно пострадавших от большевистского режима или его идейных противников. Ни к тем ни к другим Оглоблин не относился. Его кратковременный арест и связанные с ним неприятности большевики компенсировали с лихвой. Всевозможные блага сыпались на Александра Петровича как из рога изобилия. Только благодаря советской власти этот деятель без способностей и образования получал должности, степени, звания. И предавал он теперь эту власть не по идейным соображениям, а приспосабливаясь к изменившимся условиям.
Тем не менее новая карьера не заладилась. Вопреки утверждениям оглоблиноведов администратором Александр Петрович оказался слабым (это признает даже симпатизировавшая ему историк Наталья Полонская-Василенко). Хозяйственных проблем он решить не смог (да, наверное, и не мог – возможности были только у немцев). Конечно, Оглоблин старался. Составил по заданию гитлеровцев перечень военных объектов города. Подготовил списки киевских евреев для массовых казней. Кстати, удобное место для расстрелов – Бабий Яр – подсказал нацистам тоже он. Однако…
Оглоблиноведы тщательно обходят стороной вопрос о причине увольнения своего кумира с поста уже через месяц после назначения. Говорят что угодно, только не правду. А все было банально. Немцы обнаружили, что в возглавляемой бургомистром городской управе производятся махинации с имуществом расстрелянных евреев. Вызванный на допрос в гестапо Александр Петрович со страху упал в обморок. На его счастье, оккупанты были брезгливы. Об Оглоблина мараться не стали, просто выгнали.
Всплыл он уже в 1942 году на должности директора Музея-архива переходной эпохи. И вновь-таки, сообщая о новом назначении, оглоблиноведы, как правило, сознательно не уточняют, что представлял собой Музей-архив. Между тем он не являлся (как можно подумать) культурным или научным учреждением. Создание данного заведения преследовало чисто идеологическую задачу – демонстрировать «всемирно-историческое значение борьбы, проводимой великим немецким народом под руководством фюрера Адольфа Гитлера» и «помощь украинского народа немецкой армии в ее борьбе за построение Новой Европы».
Оглоблин старался угодить оккупантам как мог. Только вот мог он, по причине скудоумия, немного. Посетивший Музей-архив немецкий ученый Йозеф Бенцинг отметил крайне примитивный уровень подготовленной Александром Петровичем экспозиции и порекомендовал закрыть «лавочку»…
Новым занятием Оглоблина стало написание «научных» статей, прославлявших немецкую цивилизаторскую миссию в Украине. Их публиковала газетка «Новое украинское слово», даже «национально сознательными» украинскими «учеными называемая «рептилькой». Ну а потом Александру Петровичу пришлось бежать вместе с оккупантами…
После войны
Оказавшись на Западе, он пережил немало неприятных минут. Диаспоряне припомнили Оглоблину борьбу с «буржуазным национализмом». Но он выкрутился. И опять стал сочинять «научные труды». Такие же, как в СССР, только меняя «плюсы» на «минусы» и наоборот. Скажем, Мазепа у него из «предателя украинского народа» превратился в «украинского патриота» и «великого государственного деятеля», «шведские захватчики» стали «союзниками», а «блестящая победа под Полтавой» оказалась «Полтавской катастрофой» и т. п.
Александр Петрович состоял в целом ряде «научных» организаций, созданных украинской диаспорой, и оглоблиноведы считают это доказательством его значимости в ученом мире. Дело, однако, в том, что организации эти, несмотря на свои солидные названия, занимались преимущественно не наукой, а пропагандой «украинской национальной идеи». Следовательно, членство в них характеризует Оглоблина как пропагандиста, но не ученого.
Ученым же (рискну это утверждать) он вообще не являлся. Научная часть оглоблинских писаний на поверку оказывается простым пересказом сочинений других авторов (часто при этом не указывается первоисточник). Там же, где Александр Петрович пытается выступать в качестве самостоятельного исследователя, его работы перестают быть научными. Очень уж необоснованные (чтобы не сказать – глупые) выводы, тенденциозность, подмена фактов домыслами – это не наука.
И еще одно замечание. На мой взгляд, неправомерно причислять Оглоблина к тем персонажам нашей истории, которые смели «свое суждение иметь». Его «суждения» всегда совпадали с мнением, господствовавшем в среде его обитания, независимо от того, была ли эта среда компартийной, нацистской или диаспорной «национально сознательной». Он был типичным хамелеоном и никем больше.
Впрочем, свое мнение я никому не навязываю. Те, кто именует Александра Петровича «светочем мировой науки», имеют право оставаться при своих убеждениях. Стоит ли прославлять Оглоблина или нет – каждый волен решать сам.
Леонид Кучма: путь наверх
Персонажами данной книги являются, как правило, люди минувшего времени. Те, кто давно уже отошел в мир иной. Эта глава исключение, ибо речь пойдет о еще живущем и, кажется, даже здравствующем человеке. Деятельность Леонида Даниловича Кучмы, второго президента независимой Украины, оценивают сегодня по-разному. Но в любом случае роль в истории он сыграл значительную.
Родился будущий глава Украинского государства 9 августа 1938 года в глухом полесском селе Чайкине Новгород-Северского района Черниговской области. Когда-то здесь был хутор какого-то Чайкина. Отсюда и связанное с морской птицей название в местности, где эту птицу отродясь не видали.
Отца мальчик практически не знал. Лёне не было и трех лет, когда тот ушел на войну, да так с нее и не вернулся. Пропал без вести. Лишь спустя полвека стало известно, что старший сержант Данило Прокопович Кучма в 1944 году умер от ран в госпитале близ Новгорода.
Мать – Прасковья Трофимовна – осталась одна с тремя детьми (кроме Леонида росли еще старшие – Александр и Вера). Время было нелегкое: голод, холод, разруха. В оккупацию фашисты сожгли Чайкино дотла, и после изгнания врага селянам приходилось жить в землянках. У кого в семье имелись взрослые мужчины, мог отстроиться вновь. У вдовы такой возможности не было. Вдобавок ко всему, как только старший сын немного подрос, его по трудовой мобилизации забрали в Донбасс.
Прасковья Трофимовна работала в колхозе, выбиваясь из сил. Соседи вспоминали, что она часто плакала. Наверное, сетовала на судьбу и уже не надеялась на лучшее. Но тут семейству Кучма улыбнулась удача.
Руководить сельсоветом в Чайкино направили одинокую женщину из Западной Украины. Колхоз построил ей дом, а она взяла к себе Прасковью Трофимовну вместе с дочерью и сыном. Взяла, наверное, не из одной жалости. Лёнина мать прекрасно готовила, и можно предположить, что у главы сельской администрации она выполняла обязанности кухарки и домработницы.
Через пару лет председатель сельсовета уехала домой, а сооруженное для нее жилье досталось Кучмам. Сложившуюся ситуацию Прасковья Трофимовна использовала полностью. Теперь она не только распоряжалась в доме, но и сдавала угол учителям, которых направляли преподавать в чайкинскую школу.
Помимо материальной выгоды это приносило и пользу иного плана. Надо думать, к сыну своей хозяйки педагоги относились снисходительнее, чем к другим ученикам, и Лёня ходил в отличниках. Впрочем, «самым лучшим учеником» (как будут уверять впоследствии составители панегириков президенту) он не являлся.
Примечательная деталь: обучение в Чайкине велось на русском языке. В этом не было ничего странного. Черниговское Полесье – особый регион Украины. Украинский язык до недавнего времени там вообще не был распространен. Когда Кучма стал президентом, некий ушлый журналист, раньше других изготовившийся сочинять панегирик главе государства, поторопился на его малую родину. И с сожалением констатировал: «Мы ни от кого из поколения Леонида Даниловича и более молодых не услышали украинского языка».
Советские украинизаторы в затерянное среди лесов и болот Чайкино не добрались. Украинизировать село начали уже в период правления Леонида Даниловича. Но в 1950-х годах до этого было еще далеко. Будущий президент вполне успешно учился по-русски. Даже мечтал стать учителем русского языка и литературы.
Мечта имела в своей основе практический интерес. Лёне хотелось стать авторитетным человеком. Перед глазами постоянно находился пример соседа, директора школы. Тот пользовался в селе уважением и выделялся материальным достатком. «Мне бы так жить!» – не раз, наверное, подумывал мальчик.
Мать поддерживала амбиции сына. В СССР тогда обязательным являлось неполное среднее (семилетнее) образование. И чайкинская школа была семилетней. По ее окончании большинство выпускников шли работать в колхоз. Или же поступали в училища, чтобы получить рабочую специальность. Но Леонида Прасковья Трофимовна отправила продолжать учебу в соседнее село, где была школа-десятилетка.
А спустя еще три года парень засобирался в университет.
Городов с университетами в стране насчитывалось достаточно, но ломать голову над выбором Лёне не приходилось. Под Днепропетровском, на железнодорожной станции, жил и работал двоюродный брат матери, у которого на первое время можно было остановиться. К нему и поехал младший Кучма.
Добрался, перевел дух, отдохнул с дороги и направился подавать документы. Разыскивая приемную комиссию филологического факультета, он наткнулся на двух ребят. И те, узнав, для чего он здесь, настойчиво принялись уговаривать паренька поступать на другой факультет – физико-технический.
Это было новое, недавно основанное отделение Днепропетровского университета. Как раз в том году туда планировали набрать особенно много студентов. Ребята, встретившиеся Кучме, вероятно, имели поручение вербовать абитуриентов. А может быть, это были абитуриенты филфака, таким образом «устранявшие» конкурентов. Толком про физтех они ничего не знали, но сообщили главное: стипендия там в два с половиной раза выше, чем на других факультетах.
Устоять против такого аргумента Леонид не мог. В конце концов, он хотел быть учителем. А физики или литературы – для сел типа Чайкино большого значения не имело. Педагогических кадров там не хватало, один учитель часто преподавал совершенно разные предметы.
Только через два года Лёня узнал, что готовит его факультет не педагогов, а специалистов для оборонной промышленности. Но к тому времени это было уже не важно – детская мечта развеялась как-то сама собой.
Однокурсники вспоминали о студенте Кучме как о простом парне, неконфликтном, легком в общении. А еще – как о любителе выпить. Надо полагать, к спиртному Лёня пристрастился рано. Мать, помимо прочих кулинарных занятий, гнала самогон, лучший в селе, о чем президент потом вспомнит с гордостью.
А вот учиться ему было трудно. Университет – не сельская школа. Кучма заваливал одну сессию за другой, обрастал хвостами. Товарищи острили, что у доски Леха соображает гораздо хуже, чем «на троих».
Донимали и материальные трудности. Какой бы сравнительно большой ни была стипендия, молодому человеку ее недоставало. Хотелось ведь и поесть, и выпить, да и одеться более-менее прилично.
Однако парень сумел найти выход. Как признавался потом Кучма-президент: «У студента было два пути получить лишнюю копейку: идти разгружать вагоны или писать пулю. Я предпочитал второе».
Игру в преферанс Леонид освоил в студенческом общежитии. Получалось у него неплохо. Вскоре Кучма наловчился обыгрывать товарищей, что приносило некоторый доход и позволяло свести концы с концами.
Мало-помалу наладилось и с учебой. Правдами-неправдами, а академзадолженность Лёня ликвидировал. Угроза отчисления на старших курсах над ним уже не висела. Хотя не стал он и отличником. Отличался Кучма другим.
Студенческая жизнь в Советском Союзе не ограничивалась учебным процессом и общежитием. Молодость предоставляет много возможностей для увлечений и развлечений. На физико-техническом факультете сформировалась лучшая в вузе волейбольная команда. Заслуженным признанием пользовались физтеховцы-яхтсмены. Славился факультет и устройством эстрадных вечеров в университетском клубе.
Только Кучма в этом не участвовал. Он пошел другим путем – подался в комсомольские активисты. Комсомольская деятельность способствовала карьере и помогала самоутвердиться. Не обладавший ни физической силой, ни остроумием, Лёня не всегда мог за себя постоять, достойно ответить на насмешку или оскорбление. Зато сводил счеты с обидчиками, «прорабатывая» их по комсомольской линии.
Польза от комсомола была явной. Неудивительно, что и по окончании вуза Леонид продолжил в том же духе.
Кучму распределили в Особое конструкторское бюро (ОКБ)-586. Так тогда называлось КБ «Южное», где разрабатывались ракеты, производившиеся затем на заводе с аналогичным номером (будущем «Южмаше»). Тридцать два года проработает тут Леонид Данилович. Пройдет путь от рядового инженера до генерального директора производственного объединения. Удостоится правительственных наград. Будет называть себя ракетчиком. Но станет ли настоящим специалистом в ракетостроении? В этом можно усомниться.
Когда Кучма усядется в кресло главы государства, верноподданная пресса примется публиковать воспоминания его бывших коллег-конструкторов. Естественно, отзываться о Леониде Даниловиче будут исключительно хорошо (отзывы иного плана если и были, то не попали в печать). Расскажут о хорошем парне, прекрасном организаторе, добросовестном работнике, требовательном руководителе. Лишь иногда к этому перечню достоинств добавят (скорее всего, для приличия), что и инженером он был неплохим, без разъяснений – в чем же это проявлялось. Вопрос о конструкторских талантах Кучмы старались обходить стороной.
Сам он тоже высказывался о собственных профессиональных достижениях как-то обтекаемо: «Я горжусь всеми проектами «южан», независимо от того, принимал я в них участие или нет». Напрашивается вывод, что в ракетостроении Леонид Данилович звезд с неба не хватал.
Зато был он, как когда-то давно выразился главный конструктор КБ «Южное» Михаил Янгель, «сверхкоммуникабельным». Умел находить общий язык с самыми разными людьми. И являлся незаменимым человеком во время организации застолий. За склонность к выпивке Леонид получил не очень уважительное прозвище Чекушка. Кто ж тогда знал, что он президентом станет?
Сверхкоммуникабельного Кучму избрали секретарем местного комитета комсомола. В его обязанности входило проведение комсомольских собраний, идейно-воспитательная работа со сверстниками, контроль за сбором членских взносов, выпуск стенгазеты – «Комсомольского прожектора».
Те, кто жил в советскую эпоху, знают, насколько нудными, как правило, являлись такие занятия. Большинство людей уклонялись от подобных поручений, как могли. Но Леониду они в тягость не были. Видимо, активностью в комсомоле он доказывал свою полезность, раз уж не получалось проявить себя в конструировании.
Между прочим, именно выполнение обязанностей комсорга помогло Кучме оказаться в нужное время в нужном месте, что имело решающее значение для его карьеры.
В июле 1961 года молодых специалистов ОКБ-586 отправили на сельскохозяйственные работы в подшефный колхоз. Возглавлял бригаду комсорг, а в ее составе была Людмила Талалаева, приемная дочь заместителя главного инженера завода № 586 Геннадия Туманова.
Молодые люди познакомились, через какое-то время начали встречаться. Не все в их отношениях складывалось. Леонид явно не относился к числу парней, о которых мечтают девушки. Но он проявил настойчивость и был за это вознагражден. В 1964 году пара поженилась. С тех пор карьера Кучмы пошла вверх.
В том же 1964 году его повышают до должности старшего инженера. Через два года делают ведущим конструктором ракеты. Михаил Галась, возглавлявший в 1960-х годах группу ведущих конструкторов КБ «Южное», вспоминал, что его вызвал в кабинет главный конструктор Михаил Янгель и сообщил о назначении Кучмы. «Не задавай вопросов, – сразу же отрезал главный. – Завтра подпишу приказ о его назначении к тебе в группу ведущих, а ты определи сам, какую ракету поручить ему вести».
Вопросы действительно возникали, но лишь у тех, кто не знал, чьим зятем является Леонид Данилович. Туманова тем временем перевели в Москву на должность главного инженера Главного технического управления Министерства общего машиностроения, которому подчинялись КБ «Южное» и «Южмаш». Влияние его возросло, что благоприятно сказывалось на карьере Кучмы.
С 1968 года Леонид Данилович – ведущий конструктор ракетного комплекса. В его распоряжении появляется служебная «Волга».
В 1972 году новое назначение – на должность помощника главного конструктора. А в 1975 году Кучму «избирают» секретарем парткома КБ. Такие назначения (процедура выборов являлась только формальностью) принято именовать знаковыми. Секретарь парткома принадлежал к руководящему составу КБ. Мало того, эта должность рассматривалась как трамплин для скачка на самый верх – в номенклатурный слой советского общества.
С другой стороны, Леонид Данилович теперь не был непосредственно связан с конструированием ракет и мог заниматься работой, к которой проявлял больше способностей. В то же время он по-прежнему считался ракетостроителем и как один из руководителей конструкторского бюро пожинал лавры изобретателя. На оборонную отрасль тогда не жалели ни денег, ни наград.
Так, когда за успехи в ракетостроении на КБ в очередной раз излился дождь награждений, Кучма, как руководитель партийной организации, получил орден Трудового Красного Знамени. Позднее из-за той же занимаемой должности его включили в список лиц, удостоенных высшей в стране Ленинской премии.
Случилось это в 1981 году. И тогда же Леонид Данилович делает еще шаг вверх по карьерной лестнице – становится секретарем парткома всего производственного объединения «Южный машиностроительный завод».
Новое положение предусматривало членство в республиканском ЦК партии. На ближайшем XXVI съезде КПУ Кучму «выбирают» в этот главный партийный орган республики. Аналогичный статус члена ЦК имел на «Южмаше» лишь генеральный директор Александр Макаров.
Знаменательно, что место в ЦК КПУ будет сохранено за Леонидом Даниловичем и на следующем, XXVII съезде партии в 1986 году, хотя с партийной работы он к тому времени вернется в ракетостроение. Теперь Кучма получил пост первого заместителя генерального конструктора КБ «Южное».
Это был уже очень серьезный уровень. Главному конструктору КБ Владимиру Уткину по роду деятельности часто приходилось ездить в командировки, участвовать во всякого рода совещаниях в Москве. Все это время КБ руководил его первый заместитель. А самое важное – названная должность являлась номенклатурной. Правящий слой общества принял Леонида Даниловича. Он вошел в число избранных.
Любопытная деталь: предшественник Кучмы на должности Борис Губанов тоже совершил рывок вверх из кресла секретаря парткома «Южмаша». После ухода с партийной работы трудился главным инженером, потом руководителем главного конструкторского подразделения КБ и лишь затем получил назначение первым замом генерального. Кучма преодолел указанное карьерное расстояние одним махом. И это притом, что Губанов был доктором наук, а Леонид Данилович вообще ученой степени не имел. Губанов являлся, что называется, конструктором от Бога, а Кучма… (об этом уже говорилось).
Ведущий конструктор КБ «Южное» Виталий Чеховский вспоминал о том событии: «Назначение его (Кучмы. – Авт.) на эту должность было неожиданным не только для нас – ведущих конструкторов, но, наверное, и для большей части руководящего состава КБ (начальников КБ, комплексов, служб). Слухи о том, что Б.И. Губанов (действующий первый заместитель) идет из КБ, причем на повышение, ходили из курилки в курилку. И естественно, обговаривались кандидатуры вероятных претендентов на эту должность. Назывались заместители главного: они уже имели за плечами опыт создания поколений ракетных комплексов, заслуженный авторитет как в КБ, так и за его пределами».
Как писал Чеховский далее, единодушным было мнение, что первым заместителем следует назначить человека, репутация которого не давала бы поводов для сомнений в его компетентности. «Такими, – продолжал он, – были в свое время В.С. Будник, В.Ф. Уткин, Б.И. Губанов… Поэтому трудно было предположить, что должность первого, учитывая размах и сложность работы в КБ в то время, может быть назначен человек со стороны. И вместе с тем назначение на должность первого заместителя сорокатрехлетнего секретаря партийного комитета ПО «Южный машиностроительный завод» Л.Д. Кучмы состоялось».
Опять же: процитированные воспоминания писались в период сидения Леонида Даниловича в президентском кресле, да еще и для сборника в честь его шестидесятилетия. Мемуарист не мог не включить в текст множество похвал по адресу своего «героя». Он-де и трудолюб, и крепкий организатор, и знаток производственных и человеческих отношений. По поводу же профессиональных качеств юбиляра Чеховский заметил, что, заняв пост, Кучма вынужден был спешно восполнять пробелы в образовании, усердно учиться, чтобы «разобраться в тонкостях тех или иных конструкторских и технических решений. Особенно это касалось твердотопливной тематики, про которую он до своего назначения на должность первого заместителя имел, как говорится, общее представление».
Отдадим Леониду Даниловичу должное. Его тяга к знаниям, безусловно, похвальна. Но в целом из воспоминаний Чеховского следует однозначный вывод: ключевую должность занял человек, возможно, трудолюбивый, старательный, но некомпетентный и не обладавший в среде конструкторов достаточным авторитетом. Да еще и без ученой степени, притом что руководить приходилось докторами наук.
Почему так произошло? Думается, ответ ясен: вновь не обошлось без протекции. А диссертацию (кандидатскую) Кучма потом защитил. Правда, злые языки утверждали: не он ее написал, за руководителя подчиненные постарались.
При схожих обстоятельствах произошел и следующий карьерный шаг Леонида Даниловича. Через четыре с половиной года (в 1986 году) он стал директором «Южмаша». И снова, как отмечали, «неожиданно для многих заводчан».
«Когда Макаров уходил с «Южмаша», – писала очень лояльная к президенту Кучме газета «Украша молода», – в головах многих не могло уложиться, что можно ему найти замену. На первого заместителя генерального конструктора конструкторского бюро «Южное» Леонида Кучму, кажется, никто не ставил. Когда же назначили именно его, поползли слухи. Прежде всего о семейных связях. Следует признать, для этого и основания были».
Основания таки были. Тогдашний министр общего машиностроения СССР Олег Бакланов прибыл в Днепропетровск с уже готовой кандидатурой. У заводчан имелись другие предложения. Категорически против выступил генеральный конструктор КБ «Южное» Владимир Уткин. Уж он-то хорошо знал своего первого заместителя. Но и влияния генерального конструктора оказалось недостаточно. Кучму назначили.
Позднее недоброжелатели Леонида Даниловича подчеркивали, что с того времени, как «Южмаш» возглавил Кучма, предприятие «начало трещать по швам». В общем-то так оно и было. Но вряд ли основную вину за случившееся стоит возлагать на нового директора. В Советском Союзе набирала темп горбачевская перестройка. «Трещать по швам» начинала вся страна.
Слабеющему с каждым днем государству оборонная продукция «Южмаша» оказалась без надобности. Предприятию существенно урезали финансирование. Вместо ракет предложили выпускать зонтики и машины для нарезки мыла.
На заводе резко упали заработки. Если в 1986 году уровень заработной платы работников «Южмаша» был самым высоким в регионе, то спустя несколько лет – ниже, чем на большинстве предприятий области. Промышленное объединение массово покидали высококвалифицированные специалисты. Денег в заводской кассе катастрофически не хватало.
Зато они нашлись на предвыборную кампанию директора, когда в 1990 году тот засобирался в депутаты Верховной рады Украинской ССР. Только на показ по областному телевидению тридцатиминутного фильма «„Южмаш“ под грифом „секретно“», де-факто являвшегося предвыборным роликом Кучмы, завод выделил 9 тысяч рублей (значительную по тем временам сумму). Во всей области Леонид Данилович оказался одним из самых «дорогих» кандидатов.
Выборы он выиграл. Депутатский мандат получил, но с этой стороны ничем себя не проявил. Сидел тихо, за два года ни разу не выступил, хотя обстановка вокруг была такая, что, казалось, молчать было невозможно.
Леонид Данилович безмолвно переждал крах СССР, провозглашение независимости Украины, референдум, президентские выборы. Будучи до августа 1991 года правоверным коммунистом, он молниеносно превратился в убежденного антикоммуниста после запрета компартии.
Но своего часа парламентский молчун дождался. Именно ему осенью 1992 года предложили пост премьер-министра Украины.
История с назначением Кучмы руководителем правительства отдает пошлостью. Сообщаемые подробности вполне возможно счесть сплетней. Тем не менее различные источники (причем из противоборствующих политических лагерей) подтверждают: премьер-министром его назначили… по пьянке.
Когда экономика новой независимой страны оказалась на грани катастрофы, козлом отпущения решили сделать тогдашнего главу Кабинета министров Витольда Фокина. Требовалось срочно найти ему замену.
Вопрос этот обсуждался и в парламентской делегации Украины, совершавшей под руководством председателя Верховной рады Ивана Плюща визит в Швейцарию. Делегаты отметили окончание переговоров обильными возлияниями, во время которых и было принято решение предложить президенту Леониду Кравчуку назначить премьером Кучму. Сам он, тоже участвуя в пиршестве, отнекивался: «Зачем мне это надо?» Но собутыльники уговорили.
Только вот первый поход во власть получился неудачным. Состояние дел в стране продолжало ухудшаться. Президент и премьер возлагали ответственность за это друг на друга. Справедливость, наверное, была на стороне Леонида Даниловича. Реальная власть находилась в руках президента, но тот предпочел свалить вину на подчиненного.
Кучму отправили в отставку. Он ушел в оппозицию и выдвинул свою кандидатуру на досрочных президентских выборах. Обещал навести порядок, восстановить связи с Россией, дать статус официального русскому языку. Резко критиковал действующую власть. И люди ему поверили. Выборы Кучма выиграл. Выиграл честно, несмотря на отчаянные попытки Кравчука удержаться в президентском кресле сначала путем отмены выборов, а затем (когда отменить не получилось) с помощью подтасовки их результатов.
Но сфальсифицировать итоги голосования в очень больших размерах власть тоже не сумела. А без этого у главы государства, обрекшего свой народ на нищету, шансов не было. И полностью обанкротившегося Леонида Макаровича в 1994 году сменил на властном олимпе Леонид Данилович.
Ну а дальше… Дальше в стране все осталось по-прежнему. Продолжающееся падение уровня жизни большинства населения. Стремительное разворовывание государственной собственности кучкой дельцов, превратившихся в олигархов. Коррупция, разъедающая бюрократический аппарат. Навязчивая, без учета реальных потребностей страны, евроинтеграция. Дистанцирование от России. Гонения на русский язык… Негативные процессы, начавшиеся при первом президенте Украины, при втором президенте приобрели еще больший размах.
Кучма не выполнил и даже не старался выполнить ни одного из своих основных предвыборных обещаний. К следующим президентским выборам (1999 года) он очутился в той же ситуации, что и его предшественник за пять лет до того. Но Леонид Данилович учел чужой опыт. К избирательной гонке он готовился тщательнее Кравчука.
По тем сведениям, что потом, гораздо позже, попали в печать (и которым в данном случае, думается, следует верить), Кучма не прошел даже во второй тур. Но в Центральной избирательной комиссии посчитали голоса «как надо». И Леонида Даниловича провозгласили победителем.
Президентское кресло под ним всерьез зашаталось лишь год спустя, когда вспыхнул кассетный скандал.
История эта мутная и до конца не расследованная до сих пор. Из того, что известно, можно сделать вывод: Кучма не приказывал убивать оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе. Но санкционировал его избиение, что само по себе является преступлением. Исполнители же перестарались. Перестарались случайно или намеренно (получив указания от кого-то еще) – об этом пока можно только догадываться.
Скандал получился громкий. Многим казалось, что дни Кучмы у власти сочтены, чуть ли не открыто называли его политическим трупом.
И все-таки Леонид Данилович устоял. Он удержался на должности весь положенный по Конституции срок и даже на пару месяцев больше. А затем передал полномочия избранному им же преемнику.
Вряд ли стоит сомневаться в том, что Виктора Ющенко привел к власти его названый отец – Леонид Кучма. Просто в сложившихся условиях начинать поход в президентство подлинному наследнику было удобнее в роли лидера «оппозиции». Чтобы победа была гарантированной, в «конкуренты» ему подобрали кандидата с криминальным прошлым и, скажем так, не интеллектуала. Остальных кандидатов, что называется, «грамотно отжали». А «шоу на Майдане» и прочие атрибуты «Оранжевой революции» – это, извините, разводка для лохов.
Леонид Данилович сдал власть тому, кому сам захотел (хотя причины такого выбора – вопрос дискуссионный). И тем обезопасил себя от всяких неожиданностей вроде преследования со стороны закона.
Справедливости ради надо признать: в последние годы правления Кучмы ситуация в экономике несколько улучшилась. Прежде всего благодаря некоторой переориентации во внешней политике на Россию.
Шаг этот был вынужденным. Во время кассетного скандала Запад от украинского президента отвернулся. Видимо, там сочли, что пришло время усердного евроинтегратора заменить еще более усердным, но переоценили собственные возможности.
Сближение с Россией принесло стране немалые выгоды. Однако и тогда, отвергнутый и униженный Европой, Кучма в душе оставался прозападным политиком. Он выдвинул предложенный олигархом Вадимом Рабиновичем лозунг «Украина – не Россия», продолжал притеснение русскоязычного населения. За десять лет его президентства доля учеников, обучающихся на русском языке, сократилась с 43 до 22 процентов – почти вдвое. Причем перевод системы образования с русского языка на украинский осуществлялся принудительно. И таких фактов можно привести большое количество. Они свидетельствуют не в пользу Кучмы. Многие украинцы считают, что его следовало бы судить. Но, увы… По всей видимости, судить его уже будет История.
1 Первая строка из поэмы Шевченко «Катерина»:
Чернобровые, любитесь,
Да не с москалями,
Москали – чужие люди,
Глумятся над вами.
(Перевод М. Исаковского)
С тощей, тонконогой
Словно высохший опенок,
Царицей убогой,
А к тому ж она, бедняжка,
Трясет головою.
Это ты и есть богиня?
Горюшко с тобою…
(Перевод В. Державина)
Wyszukiwarka
Podobne podstrony:
Volkonskiy Istoricheskaya pravda i ukrainofilskaya propaganda 434905
rossija ukraina dorogi istorii
Buzina Taynaya istoriya Ukrainyi Rusi 94199
neizvrashennaja istorija ukrainy rusi tom ii
neizvrashennaja istorija ukrainy rusi tom i
Z istorii borotby za sobornist ukrainskykh zemel 1917 1945 rr
Ubóstwo w Ukrainie
charakterystyka kuchni ukraińskiej
Wewnętrznie spójna Ukraina szansą młodego pokolenia na integrację z Europą
Wewnętrznie spójna Ukraina szansą młodego pokolenia na integrację z Europą(1)
Między Czerwonym Smokiem a Czarną Panterą-Ukraina, Ideologie totalitarne
UKRAINA
Ukraina między wschodem a zachodem
Kwestia ukrainska
jezyk ukrainski lekcja 19
Anonymous z Ukrainy wysyłają Polsce, Polska dla Polaków, ACTA ,Anonymous, kontrola społeczeństw , in